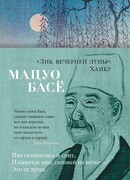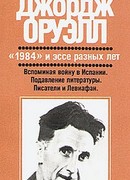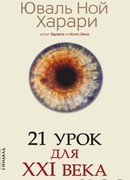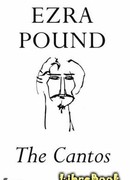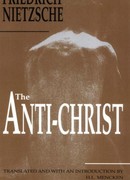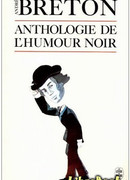«Так говорил Заратустра.
Книга для всех и ни для кого»
Friedrich Nietzsche «Also Sprach Zarathustra»
Часть первая
Предисловие Заратустры
1
Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим. Но наконец изменилось сердце его – и в одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил к нему:
«Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!
В течение десяти лет подымалось ты к моей пещере: ты пресытилось бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи.
Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя.
Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне.
Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные – богатству своему.
Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило!
Я должен, подобно тебе, закатиться, как называют это люди, к которым хочу я спуститься.
Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на чрезмерно большое счастье!
Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады!
Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком».
– Так начался закат Заратустры.
2
Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу. И так говорил старец Заратустре:
«Мне не чужд этот странник: несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустрой назывался он; но он изменился.
Тогда нес ты свой прах на гору; неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателю?
Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвращения. Не потому ли и идет он, точно танцует?
Заратустра преобразился, ребенком стал Заратустра, Заратустра проснулся: чего же хочешь ты среди спящих?
Как на море, жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Увы! ты хочешь выйти на сушу? Ты хочешь снова сам таскать свое тело?»
Заратустра отвечал: «Я люблю людей».
«Разве не потому, – сказал святой, – ушел и я в лес и пустыню? Разве не потому, что и я слишком любил людей?
Теперь люблю я Бога: людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к человеку убила бы меня».
Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я несу людям дар».
«Не давай им ничего, – сказал святой. – Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними – это будет для них всего лучше, если только это лучше и для тебя!
И если ты хочешь им дать, дай им не больше милостыни и еще заставь их просить ее у тебя!»
«Нет, – отвечал Заратустра, – я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден».
Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил: «Тогда постарайся, чтобы они приняли твои сокровища! Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим, чтобы дарить.
Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко. И если они ночью, в своих кроватях, услышат человека, идущего задолго до восхода солнца, они спрашивают себя: куда крадется этот вор?
Не ходи же к людям и оставайся в лесу! Иди лучше к зверям! Почему не хочешь ты быть, как я, – медведем среди медведей, птицею среди птиц?»
«А что делает святой в лесу?» – спросил Заратустра.
Святой отвечал: «Я слагаю песни и пою их; и когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду: так славлю я Бога.
Пением, плачем, смехом и бормотанием славлю я Бога, моего Бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар?»
Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: «Что мог бы я дать вам! Позвольте мне скорее уйти, чтобы чего-нибудь я не взял у вас!» – Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети.
Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем: «Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще не слыхал о том, что Бог мертв».
3
Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади: ибо ему обещано было зрелище – плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу:
Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?
Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека?
Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором.
Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя, Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян.
Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением?
Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке!
Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом земли!
Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах! Они отравители, все равно, знают ли они это или нет.
Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля: пусть же исчезнут они!
Прежде хула на Бога была величайшей хулой; но Бог умер, и вместе с ним умерли и эти хулители. Теперь хулить землю – самое ужасное преступление, так же как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли!
Некогда смотрела душа на тело с презрением: и тогда не было ничего выше, чем это презрение, – она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли.
О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной; и жестокость была вожделением этой души!
Но и теперь еще, братья мои, скажите мне: что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою?
Поистине, человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.
Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – это море, где может потонуть ваше великое презрение.
В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это – час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же как ваш разум и ваша добродетель.
Час, когда вы говорите: «В чем мое счастье! Оно – бедность и грязь и жалкое довольство собою. Мое счастье должно бы было оправдывать само существование!»
Час, когда вы говорите: «В чем мой разум! Добивается ли он знания, как лев своей пищи? Он – бедность и грязь и жалкое довольство собою!»
Час, когда вы говорите: «В чем моя добродетель! Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего! Все это бедность и грязь и жалкое довольство собою!»
Час, когда вы говорите: «В чем моя справедливость! Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем. А справедливый – это пламень и уголь!»
Час, когда вы говорите: «В чем моя жалость! Разве жалость – не крест, к которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие».
Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? Ах, если бы я уже слышал вас так восклицающими!
Не ваш грех – ваше самодовольство вопиет к небу; ничтожество ваших грехов вопиет к небу!
Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам?
Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – эта молния, он – это безумие! —
Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: «Мы слышали уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его!» И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело.
4
Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил:
Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью.
Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка.
В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель.
Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту.
Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу.
Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою – а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека.
Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели.
Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения: ибо так хочет он своей гибели.
Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски.
Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели: ибо так, подобно духу, проходит он по мосту.
Я люблю того, кто из своей добродетели делает свое тяготение и свою напасть: ибо так хочет он ради своей добродетели еще жить и не жить более.
Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель есть больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится напасть.
Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя.
Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на счастье, и кто тогда спрашивает: неужели я игрок-обманщик? – ибо он хочет гибели.
Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели.
Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей прошлого: ибо он хочет гибели от людей настоящего.
Я люблю того, кто карает своего Бога, так как он любит своего Бога: ибо он должен погибнуть от гнева своего Бога.
Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах и кто может погибнуть при малейшем испытании: так охотно идет он по мосту.
Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем: так становятся все вещи его гибелью.
Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: так голова его есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели.
Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники.
Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловек.
5
Произнесши эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. «Вот стоят они, говорил он в сердце своем, – вот смеются они: они не понимают меня, мои речи не для этих ушей.
Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся?
У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурою, она отличает их от козопасов.
Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Буду же говорить я к их гордости.
Буду же говорить я им о самом презренном существе, а это и есть последний человек».
И так говорил Заратустра к народу:
Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою. Настало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей.
Его почва еще достаточно богата для этого. Но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней.
Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелы тоски своей выше человека и тетива лука его разучится дрожать!
Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть еще хаос.
Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя.
Смотрите! Я показываю вам последнего человека.
«Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» – так вопрошает последний человек и моргает.
Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.
«Счастье найдено нами», – говорят последние люди, и моргают.
Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло.
Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей!
От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть.
Они еще трудятся, ибо труд – развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их.
Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно.
Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.
«Прежде весь мир был сумасшедший», – говорят самые умные из них, и моргают.
Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся – иначе это расстраивало бы желудок.
У них есть свое удовольствьице для дня и свое удовольствьице для ночи; но здоровье – выше всего.
«Счастье найдено нами», – говорят последние люди, и моргают.
Здесь окончилась первая речь Заратустры, называемая также «Предисловием», ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. «Дай нам этого последнего человека, о Заратустра, – так восклицали они, – сделай нас похожими на этих последних людей! И мы подарим тебе сверхчеловека!» И все радовались и щелкали языком. Но Заратустра стал печален и сказал в сердце своем:
«Они не понимают меня: мои речи не для этих ушей.
Очевидно, я слишком долго жил на горе, слишком часто слушал ручьи и деревья: теперь я говорю им, как козопасам.
Непреклонна душа моя и светла, как горы в час дополуденный. Но они думают, что холоден я и что говорю я со смехом ужасные шутки.
И вот они смотрят на меня и смеются, и, смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в смехе их».
6
Но тут случилось нечто, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. Ибо тем временем канатный плясун начал свое дело: он вышел из маленькой двери и пошел по канату, протянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом. Когда он находился посреди своего пути, маленькая дверь вторично отворилась, и детина, пестро одетый, как скоморох, выскочил из нее и быстрыми шагами пошел во след первому. «Вперед, хромоногий, – кричал он своим страшным голосом, – вперед, ленивая скотина, контрабандист, набеленная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своею пяткою! Что делаешь ты здесь между башнями? Ты вышел из башни; туда бы и следовало запереть тебя, ты загораживаешь дорогу тому, кто лучше тебя!» – И с каждым словом он все приближался к нему – и, когда был уже на расстоянии одного только шага от него, случилось нечто ужасное, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным: он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто загородил ему дорогу. Но этот, увидев, что его соперник побеждает его, потерял голову и канат; он бросил свой шест и сам еще быстрее, чем шест, полетел вниз, как какой-то вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ походили на море, когда проносится буря: все в смятении бежало в разные стороны, большею частью там, где должно было упасть тело.
Но Заратустра оставался на месте, и прямо возле него упало тело, изодранное и разбитое, но еще не мертвое. Немного спустя к раненому вернулось сознание, и он увидел Заратустру, стоявшего возле него на коленях. «Что ты тут делаешь? – сказал он наконец. – Я давно знал, что черт подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю; не хочешь ли ты помешать ему?»
«Клянусь честью, друг, – отвечал Заратустра, – не существует ничего, о чем ты говоришь: нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело: не бойся же ничего!»
Человек посмотрел на него с недоверием. «Если ты говоришь правду, – сказал он, – то, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я немного больше животного, которого ударами и впроголодь научили плясать».
«Не совсем так, – сказал Заратустра, – ты из опасности сделал себе ремесло, а за это нельзя презирать. Теперь ты гибнешь от своего ремесла; за это я хочу похоронить тебя своими руками».
На эти слова Заратустры умирающий ничего не ответил; он только пошевелил рукою, как бы ища, в благодарность, руки Заратустры. —
7
Тем временем наступил вечер, и базарная площадь скрылась во мраке; тогда рассеялся и народ, ибо устают даже любопытство и страх. Но Заратустра продолжал сидеть на земле возле мертвого и был погружен в свои мысли: так забыл он о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал в сердце своем:
«Поистине, прекрасный улов был сегодня у Заратустры. Он не поймал человека, зато труп поймал он.
Жутко человеческое существование и к тому же всегда лишено смысла: скоморох может стать уделом его.
Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, молния из темной тучи, называемой человеком.
Но я еще далек от них, и моя мысль не говорит их мыслям. Для людей я еще середина между безумцем и трупом.
Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодный, недвижный товарищ! Я несу тебя туда, где я похороню тебя своими руками».
8
Сказав это в сердце своем, Заратустра взял труп себе на спину и пустился в путь. Но не успел он пройти и ста шагов, как человек подкрался к нему и стал шептать ему на ухо – и гляди-ка, тот, кто говорил, был скоморох с башни. «Уходи из этого города, о Заратустра, – говорил он, – слишком многие ненавидят тебя здесь. Ненавидят тебя добрые и праведные, и они зовут тебя своим врагом и ненавистником; ненавидят тебя правоверные, и они зовут тебя опасным для толпы. Счастье твое, что смеялись над тобою: и поистине, ты говорил, как скоморох. Счастье твое, что ты пристал к мертвой собаке; унизившись так, ты спас себя на сегодня. Но уходи прочь из этого города – или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого». И сказав это, человек исчез; а Заратустра продолжал свой путь по темным улицам.
У ворот города повстречались ему могильщики; они факелом посветили ему в лицо, узнали Заратустру и много издевались над ним: «Заратустра уносит с собой мертвую собаку: браво, Заратустра обратился в могильщика! Ибо наши руки слишком чисты для этой поживы. Не хочет ли Заратустра украсть у черта его кусок? Ну, так и быть! Желаем хорошо поужинать! Если только черт не более ловкий вор, чем Заратустра! – Он украдет их обоих, он сожрет их обоих!» И они смеялись и шушукались между собой.
Заратустра не сказал на это ни слова и шел своей дорогой. Он шел два часа по лесам и болотам и очень часто слышал голодный вой волков; наконец и на него напал голод. Он остановился перед уединенным домом, в котором горел свет.
«Голод нападает на меня, как разбойник, – сказал Заратустра. – В лесах и болотах нападает на меня голод мой и в глубокую ночь.
Удивительные капризы у моего голода. Часто наступает он у меня только после обеда, и сегодня целый день я не чувствовал его; где же замешкался он?»
И с этими словами Заратустра постучался в дверь дома. Появился старик; он нес фонарь и спросил: «Кто идет ко мне и нарушает мой скверный сон?»
«Живой и мертвый, – отвечал Заратустра. – Дайте мне поесть и попить; днем я забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает свою собственную душу: так говорит мудрость».
Старик ушел, но тотчас вернулся и предложил Заратустре хлеб и вино. «Здесь плохой край для голодающих, сказал он, – поэтому я и живу здесь. Зверь и человек приходят ко мне, отшельнику. Но позови же своего товарища поесть и попить, он устал еще больше, чем ты». Заратустра отвечал: «Мертв мой товарищ, было бы трудно уговорить его поесть». «Это меня не касается, – ворча произнес старик, – кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы!» —
После этого Заратустра шел еще два часа, доверяясь дороге и свету звезд: ибо он был привычный ночной ходок и любил всему спящему смотреть в лицо. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу, и дальше уже не было видно дороги. Тогда он положил мертвого в дупло дерева на высоте своей головы – ибо он хотел защитить его от волков – и сам лег на землю, на мох. И тотчас уснул он, усталый телом, но с непреклонной душою.
9
Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и час дополуденный прошли по лицу его. Но наконец он открыл глаза: с удивлением посмотрел Заратустра на лес и тишину, с удивлением заглянул он внутрь самого себя. Потом он быстро поднялся, как мореплаватель, завидевший внезапно землю, и возликовал: ибо он увидел новую истину. И так говорил он тогда в сердце своем:
«Свет низошел на меня: мне нужны спутники, и притом живые, – не мертвые спутники и не трупы, которых ношу я с собою, куда я хочу.
Мне нужны живые спутники, которые следуют за мною, потому что хотят следовать сами за собой – и туда, куда я хочу.
Свет низошел на меня: не к народу должен говорить Заратустра, а к спутникам! Заратустра не должен быть пастухом и собакою стада!
Сманить многих из стада – для этого пришел я. Негодовать будет на меня народ и стадо: разбойником хочет называться Заратустра у пастухов.
У пастухов, говорю я, но они называют себя добрыми и праведными. У пастухов, говорю я, но они называют себя правоверными.
Посмотри на добрых и праведных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника – но это и есть созидающий.
Посмотри на правоверных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника – но это и есть созидающий.
Спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и не верующих. Созидающих так же, как он, ищет созидающий, тех, кто пишут новые ценности на новых скрижалях.
Спутников ищет созидающий и тех, кто собирал бы жатву вместе с ним: ибо все созрело у него для жатвы. Но ему недостает сотни серпов; поэтому он вырывает колосья и негодует.
Спутников ищет созидающий и тех, кто умеет точить свои серпы. Разрушителями будут называться они и ненавистниками добрых и злых. Но они соберут жатву и будут праздновать.
Созидающих вместе с ним ищет Заратустра, собирающих жатву и празднующих вместе с ним ищет Заратустра: что стал бы он созидать со стадами, пастухами и трупами!
И ты, мой первый спутник, оставайся с благом! Хорошо схоронил я тебя в дупле дерева, хорошо спрятал я тебя от волков.
Но я расстаюсь с тобою, ибо время прошло. От зари до зари осенила меня новая истина.
Ни пастухом, ни могильщиком не должен я быть. Никогда больше не буду я говорить к народу: последний раз говорил я к мертвому.
К созидающим, к пожинающим, к торжествующим хочу я присоединиться: радугу хочу я показать им и все ступени сверхчеловека.
Одиноким буду я петь свою песню и тем, кто одиночествует вдвоем; и у кого есть еще уши, чтобы слышать неслыханное, тому хочу я обременить его сердце счастьем своим.
Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой; через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Пусть будет моя поступь их гибелью!»
10
Так говорил Заратустра в сердце своем, а солнце стало уже на полдень; тогда он вопросительно взглянул на небо: ибо услышал над собою резкий крик птицы. И он увидел орла: описывая широкие круги, несся тот в воздух, а с ним – змея, но не в виде добычи, а как подруга: ибо она обвила своими кольцами шею его.
«Это мои звери!» – сказал Заратустра и возрадовался в сердце своем.
«Самое гордое животное, какое есть под солнцем, и животное самое умное, какое есть под солнцем, – они отправились разведать.
Они хотят знать, жив ли еще Заратустра. И поистине, жив ли я еще?
Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей, опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня мои звери!»
Сказав это, Заратустра вспомнил слова святого в лесу, вздохнул и говорил так в сердце своем:
«Если б я мог стать мудрее! Если б я мог стать мудрым вполне, как змея моя!
Но невозможного хочу я; попрошу же я свою гордость идти всегда вместе с моим умом!
И если когда-нибудь мой ум покинет меня – ах, он любит улетать! – пусть тогда моя гордость улетит вместе с моим безумием!» —
– Так начался закат Заратустры.

Title page of the first three-book edition |
|
| Author | Friedrich Nietzsche |
|---|---|
| Original title | Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen |
| Country | Germany |
| Language | German |
| Publisher | Ernst Schmeitzner |
|
Publication date |
1883–1892 |
| Media type | Print (Hardcover and Paperback) |
| Preceded by | The Gay Science |
| Followed by | Beyond Good and Evil |
| Text | Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None at Wikisource |
Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None (German: Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen), also translated as Thus Spake Zarathustra, is a work of philosophical fiction written by German philosopher Friedrich Nietzsche; it was published in four volumes between 1883 and 1885. The protagonist is nominally the historical Zoroaster.
Much of the book consists of discourses by Zarathustra on a wide variety of subjects, most of which end with the refrain, «Thus spoke Zarathustra.». The character of Zarathustra first appeared in Nietzsche’s earlier book The Gay Science (at §342, which closely resembles §1 of «Zarathustra’s Prologue» in Thus Spoke Zarathustra).
The style of Zarathustra has facilitated varied and often incompatible ideas about what Zarathustra says. Zarathustra’s «[e]xplanations and claims are almost always analogical and figurative.»[1] Though there is no consensus with what Zarathustra means when he speaks, there is some consensus about that which he speaks. Thus Spoke Zarathustra deals with ideas about the Übermensch, the death of God, the will to power, and eternal recurrence.
Origins[edit]
Nietzsche wrote in Ecce Homo that the central idea of Zarathustra occurred to him by a «pyramidal block of stone» on the shores of Lake Silvaplana.
Nietzsche’s first note on the «eternal recurrence», written «at the beginning of August 1881 in Sils-Maria, 6000 ft above sea level and much higher above all human regards! -» Nachlass, notebook M III 1, p. 53.
Nietzsche was born into, and largely remained within, the Bildungsbürgertum, a sort of highly cultivated middleclass.[2] By the time he was a teenager, he had been writing music and poetry.[3][4] His aunt Rosalie gave him a biography of Alexander von Humboldt for his 15th birthday, and reading this inspired a love of learning «for its own sake».[5] The schools he attended, the books he read, and his general milieu fostered and inculcated his interests in Bildung, or self-development, a concept at least tangential to many in Zarathustra, and he worked extremely hard. He became an outstanding philologist almost accidentally, and he renounced his ideas about being an artist. As a philologist he became particularly sensitive to the transmissions and modifications of ideas,[6] which also bears relevance into Zarathustra. Nietzsche’s growing distaste toward philology, however, was yoked with his growing taste toward philosophy. As a student, this yoke was his work with Diogenes Laertius. Even with that work he strongly opposed received opinion. With subsequent and properly philosophical work he continued to oppose received opinion.[7] His books leading up to Zarathustra have been described as nihilistic destruction.[7] Such nihilistic destruction combined with his increasing isolation and the rejection of his marriage proposals (to Lou Andreas-Salomé) devastated him.[7] While he was working on Zarathustra he was walking very much.[7] The imagery of his walks mingled with his physical and emotional and intellectual pains and his prior decades of hard work. What «erupted» was Thus Spoke Zarathustra.[7]
Nietzsche has said that the central idea of Zarathustra is the eternal recurrence. He has also said that this central idea first occurred to him in August 1881: he was near a «pyramidal block of stone» while walking through the woods along the shores of Lake Silvaplana in the Upper Engadine, and he made a small note that read «6,000 feet beyond man and time.»[clarification needed][8]
A few weeks after meeting this idea, he paraphrased in a notebook something written by Friedrich von Hellwald about Zarathustra.[9] This paraphrase was developed into the beginning of Thus Spoke Zarathustra.[9]
A year and a half after making that paraphrase, Nietzsche was living in Rapallo.[9] Nietzsche claimed that the entire first part was conceived, and that Zarathustra himself «came over him», while walking. He was regularly walking «the magnificent road to Zoagli» and «the whole Bay of Santa Margherita».[10] He said in a letter that the entire first part «was conceived in the course of strenuous hiking: absolute certainty, as if every sentence were being called out to me».[10]
Nietzsche returned to «the sacred place» in the summer of 1883 and he «found» the second part».[9]
Nietzsche was in Nice the following winter and he «found» the third part.[9]
According to Nietzsche in Ecce Homo it was «scarcely one year for the entire work», and ten days each part.[9] More broadly, however, he said in a letter: «The whole of Zarathustra is an explosion of forces that have been accumulating for decades».[10]
In January 1884 Nietzsche had finished the third part and thought the book finished.[9] But by November he expected a fourth part to be finished by January.[9] He also mentioned a fifth and sixth part leading to Zarathustra’s death, «or else he will give me no peace».[10] But after the fourth part was finished he called it «a fourth (and last) part of Zarathustra, a kind of sublime finale, which is not at all meant for the public».[10]
The first three parts were initially published individually and were first published together in a single volume in 1887.[citation needed] The fourth part was written in 1885 and kept private.[9] While Nietzsche retained mental capacity and was involved in the publication of his works, forty-five copies of the fourth part were printed at his own expense and distributed to his closest friends, to whom he expressed «a vehement desire never to have the Fourth Part made public».[9] In 1889, however, Nietzsche became significantly incapacitated. In March 1892 the four parts were published in a single volume.[9]
Zarathustra[edit]
In the 1888 Ecce Homo, Nietzche explained what he meant by making the Persian figure of Zoroaster the protagonist of his book:[11][12]
People have never asked me as they should have done, what the name of Zarathustra precisely meant in my mouth, in the mouth of the first immoralist; for that which distinguishes this Persian from all others in the past is the very fact that he was the exact reverse of an immoralist. Zarathustra was the first to see in the struggle between good and evil the essential wheel in the working of things. The translation of morality into the realm of metaphysics, as force, cause, end-in-itself, is his work. But the very question suggests its own answer. Zarathustra created this most portentous of all errors,—morality; therefore he must be the first to expose it. Not only because he has had longer and greater experience of the subject than any other thinker,—all history is indeed the experimental refutation of the theory of the so-called moral order of things,—but because of the more important fact that Zarathustra was the most truthful of thinkers. In his teaching alone is truthfulness upheld as the highest virtue—that is to say, as the reverse of the cowardice of the «idealist» who takes to his heels at the sight of reality. Zarathustra has more pluck in his body than all other thinkers put together. To tell the truth and to aim straight: that is the first Persian virtue. Have I made myself clear? … The overcoming of morality by itself, through truthfulness, the moralist’s overcoming of himself in his opposite—in me—that is what the name Zarathustra means in my mouth.
— Ecce Homo, «Why I Am a Fatality»
Thus, «[a]s Nietzsche admits himself, by choosing the name of Zarathustra as the prophet of his philosophy in a poetical idiom, he wanted to pay homage to the original Aryan prophet as a prominent founding figure of the spiritual-moral phase in human history, and reverse his teachings at the same time, according to his fundamental critical views on morality. The original Zoroastrian world-view interpreted being on the basis of the universality of the moral values and saw the whole world as an arena of the struggle between two fundamental moral elements, Good and Evil, depicted in two antagonistic divine figures [Ahura Mazda and Ahriman]. Nietzsche’s Zarathustra, in contrast, puts forward his ontological immoralism and tries to prove and reestablish the primordial innocence of beings by destroying philosophically all moralistic interpretations and evaluations of being».[11]
Synopsis[edit]
First part[edit]
The book begins with a prologue which sets up many of the themes that will be explored throughout the work. Zarathustra is introduced as a hermit who has lived ten years on a mountain with his two companions, an eagle and a serpent. One morning – inspired by the sun, which is happy only when it shines upon others – Zarathustra decides to return to the world and share his wisdom. Upon descending the mountain, he encounters a saint living in a forest, who spends his days praising God. Zarathustra marvels that the saint has not yet heard that «God is dead».
Arriving at the nearest town, Zarathustra addresses a crowd which has gathered to watch a tightrope walker. He tells them that mankind’s goal must be to create something superior to itself – a new type of human, the Übermensch. All men, he says, must be prepared to will their own destruction in order to bring the Übermensch into being. The crowd greets this speech with scorn and mockery, and meanwhile the tightrope show begins. When the rope-dancer is halfway across, a clown comes up behind him, urging him to get out of the way. The clown then leaps over the rope-dancer, causing the latter to fall to his death. The crowd scatters; Zarathustra takes the corpse of the rope-dancer on his shoulders, carries it into the forest, and lays it in a hollow tree. He decides that from this point on, he will no longer attempt to speak to the masses, but only to a few chosen disciples.
There follows a series of discourses in which Zarathustra overturns many of the precepts of Christian morality. He gathers a group of disciples, but ultimately abandons them, saying that he will not return until they have disowned him.
Second part[edit]
Zarathustra retires to his mountain cave, and several years pass by. One night, he dreams that he looks into a mirror and sees the face of a devil instead of his own; he takes this as a sign that his doctrines are being distorted by his enemies, and joyfully descends the mountain to recover his lost disciples.
More discourses follow, which continue to develop the themes of the death of God and the rise of the Übermensch, and also introduce the concept of the will to power. There are hints, however, that Zarathustra is holding something back. A series of dreams and visions prompt him to reveal this secret teaching, but he cannot bring himself to do so. He withdraws from his disciples once more, in order to perfect himself.
Third part[edit]
While journeying home, Zarathustra is waylaid by the spirit of gravity, a dwarf-like creature which clings to his back and whispers taunts into his ear. Zarathustra at first becomes despondent, but then takes courage; he challenges the spirit to hear the «abysmal thought» which he has so far refrained from speaking. This is the doctrine of eternal recurrence. Time, says Zarathustra, is infinite, stretching both forward and backward into eternity. This means that everything that happens now must have happened before, and that every moment must continue to repeat itself eternally.
As he speaks, Zarathustra hears a dog howl in terror, and then he sees a new vision – a shepherd choking on a black serpent which has crept into his throat. At Zarathustra’s urging, the shepherd bites the serpent’s head off and spits it out. In that moment, the shepherd is transformed into a laughing, radiant being, something greater than human.
Zarathustra continues his journey, delivering more discourses inspired by his observations. Arriving at his mountain cave, he remains there for some time, reflecting on his mission. He is disgusted at humanity’s pettiness, and despairs at the thought of the eternal recurrence of such an insignificant race. Eventually, however, he discovers his own longing for eternity, and sings a song in celebration of eternal return.
Fourth part[edit]
Zarathustra begins to grow old as he remains secluded in his cave. One day, he is visited by a soothsayer, who says that he has come to tempt Zarathustra to his final sin – compassion (mitleiden, which can also be translated as «pity»). A loud cry of distress is heard, and the soothsayer tells Zarathustra that «the higher man» is calling to him. Zarathustra is alarmed, and rushes to the aid of the higher man.
Searching through his domain for the person who uttered the cry for help, Zarathustra encounters a series of characters representative of various aspects of humanity. He engages each of them in conversation, and ends by inviting each one to await his return in his cave. After a day’s search, however, he is unable to find the higher man. Returning home, he hears the cry of distress once more, now coming from inside his own cave. He realises that all the people he has spoken to that day are collectively the higher man. Welcoming them to his home, he nevertheless tells them that they are not the men he has been waiting for; they are only the precursors of the Übermensch.
Zarathustra hosts a supper for his guests, which is enlivened by songs and arguments, and ends in the facetious worship of a donkey. The higher men thank Zarathustra for relieving them of their distress and teaching them to be content with life.
The following morning, outside his cave, Zarathustra encounters a lion and a flock of doves, which he interprets as a sign that those whom he calls his children are near. As the higher men emerge from the cave, the lion roars at them, causing them to cry out and flee. Their cry reminds Zarathustra of the soothsayer’s prediction that he would be tempted into feeling compassion for the higher man. He declares that this is over, and that from this time forward he will think of nothing but his work.
Themes[edit]
|
This section needs expansion with: Each subsection implies that there is consensus. There is no consensus. You can help by adding to it. (April 2021) |
Scholars have argued that «the worst possible way to understand Zarathustra is as a teacher of doctrines».[13] Nonetheless Thus Spoke Zarathustra «has contributed most to the public perception of Nietzsche as philosopher – namely, as the teacher of the ‘doctrines’ of the will to power, the overman and the eternal return».[14]
Will to power[edit]
Nietzsche’s thinking was significantly influenced by the thinking of Arthur Schopenhauer. Schopenhauer emphasised will, and particularly will to live. Nietzsche emphasised Wille zur Macht, or will to power.
Nietzsche was not a systematic philosopher and left much of what he wrote open to interpretation. Receptive fascists are said to have misinterpreted the will to power, having overlooked Nietzsche’s distinction between Kraft («force» or «strength») and Macht («power» or «might»).[15]
Scholars have often had recourse to Nietzsche’s notebooks, where will to power is described in ways such as «willing-to-become-stronger [Stärker-werden-wollen], willing growth».[16]
Übermensch[edit]
It is allegedly «well-known that as a term, Nietzsche’s Übermensch derives from Lucian of Samosata’s hyperanthropos».[17] This hyperanthropos, or overhuman, appears in Lucian’s Menippean satire Κατάπλους ἢ Τύραννος, usually translated Downward Journey or The Tyrant. This hyperanthropos is «imagined to be superior to others of ‘lesser’ station in this-worldly life and the same tyrant after his (comically unwilling) transport into the underworld».[17]
Nietzsche celebrated Goethe as an actualisation of the Übermensch.[7]
Eternal recurrence[edit]
Nietzsche included some brief writings on eternal recurrence in his earlier book The Gay Science. Zarathustra also appeared in that book. In Thus Spoke Zarathustra, the eternal recurrence is, according to Nietzsche, the «fundamental idea of the work».[18]
Interpretations of the eternal recurrence have mostly revolved around cosmological and attitudinal and normative principles.[19]
As a cosmological principle, it has been supposed to mean that time is circular, that all things recur eternally.[19] A weak attempt at proof has been noted in Nietzsche’s notebooks, and it is not clear to what extent, if at all, Nietzsche believed in the truth of it.[19] Critics have mostly dealt with the cosmological principle as a puzzle of why Nietzsche might have touted the idea.
As an attitudinal principle it has often been dealt with as a thought experiment, to see how one would react, or as a sort of ultimate expression of life-affirmation, as if one should desire eternal recurrence.[19]
As a normative principle, it has been thought of as a measure or standard, akin to a «moral rule».[19]
Criticism of religion[edit]
Nietzsche studied extensively and was very familiar with Schopenhauer and Christianity and Buddhism, each of which he considered nihilistic and «enemies to a healthy culture».[20] Thus Spoke Zarathustra can be understood as a «polemic» against these influences.[20]
Though Nietzsche «probably learned Sanskrit while at Leipzig from 1865 to 1868»,[20] and «was probably one of the best read and most solidly grounded in Buddhism for his time among Europeans»,[20] Nietzsche was writing when Eastern thought was only beginning to be acknowledged in the West, and Eastern thought was easily misconstrued.[20] Nietzsche’s interpretations of Buddhism were coloured by his study of Schopenhauer,[20] and it is «clear that Nietzsche, as well as Schopenhauer, entertained inaccurate views of Buddhism».[20] An egregious example has been the idea of śūnyatā as «nothingness» rather than «emptiness».[20] «Perhaps the most serious misreading we find in Nietzsche’s account of Buddhism was his inability to recognize that the Buddhist doctrine of emptiness was an initiatory stage leading to a reawakening».[20] Nietzsche dismissed Schopenhauer and Christianity and Buddhism as pessimistic and nihilistic, but, according to Benjamin A. Elman, «[w]hen understood on its own terms, Buddhism cannot be dismissed as pessimistic or nihilistic».[20] Moreover, answers which Nietzsche assembled to the questions he was asking, not only generally but also in Zarathustra, put him «very close to some basic doctrines found in Buddhism».[20] An example is when Zarathustra says that «the soul is only a word for something about the body».[20]
Nihilism[edit]
It has been often repeated in some way that Nietzsche takes with one hand what he gives with the other. Accordingly, interpreting what he wrote has been notoriously slippery. One of the most vexed points in discussions of Nietzsche has been whether or not he was a nihilist.[20] Though arguments have been made for either side, what is clear is that Nietzsche was at least interested in nihilism.
As far as nihilism touched other people, at least, metaphysical understandings of the world were progressively undermined until people could contend that «God is dead».[7] Without God, humanity was greatly devalued.[7] Without metaphysical or supernatural lenses, humans could be seen as animals with primitive drives which were or could be sublimated.[7] According to Hollingdale, this led to Nietzsche’s ideas about the will to power.[7] Likewise, «Sublimated will to power was now the Ariadne’s thread tracing the way out of the labyrinth of nihilism».[7]
Style[edit]
|
This section needs expansion with: Nietzsche’s general style and epistemology at least. You can help by adding to it. (May 2021) |
«On Reading and Writing.
Of all that is written, I love only that which one writes with one’s own blood.»[21]
Thus Spoke Zarathustra, The Complete Works of Friedrich Nietzsche, Volume VI, 1899, C. G. Naumann, Leipzig.
The nature of the text is musical and operatic.[9] While working on it Nietzsche wrote «of his aim ‘to become Wagner’s heir'».[9] Nietzsche thought of it as akin to a symphony or opera.[9] «No lesser a symphonist than Gustav Mahler corroborates: ‘His Zarathustra was born completely from the spirit of music, and is even «symphonically constructed»‘».[9] Nietzsche
later draws special attention to «the tempo of Zarathustra’s speeches» and their «delicate slowness» – «from an infinite fullness of light and depth of happiness drop falls after drop, word after word» – as well as the necessity of «hearing properly the tone that issues from his mouth, this halcyon tone».[9]
The length of paragraphs and the punctuation and the repetitions all enhance the musicality.[9]
The title is Thus Spoke Zarathustra. Much of the book is what Zarathustra said. What Zarathustra says
is throughout so highly parabolic, metaphorical, and aphoristic. Rather than state various claims about virtues and the present age and religion and aspirations, Zarathustra speaks about stars, animals, trees, tarantulas, dreams, and so forth. Explanations and claims are almost always analogical and figurative.[22]
Nietzsche would often appropriate masks and models to develop himself and his thoughts and ideas, and to find voices and names through which to communicate.[23] While writing Zarathustra, Nietzsche was particularly influenced by «the language of Luther and the poetic form of the Bible».[9] But Zarathustra also frequently alludes to or appropriates from Hölderlin’s Hyperion and Goethe’s Faust and Emerson’s Essays, among other things. It is generally agreed that the sorcerer is based on Wagner and the soothsayer is based on Schopenhauer.
The original text contains a great deal of word-play. For instance, words beginning with über (‘over, above’) and unter (‘down, below’) are often paired to emphasise the contrast, which is not always possible to bring out in translation, except by coinages. An example is untergang (lit. ‘down-going’), which is used in German to mean ‘setting’ (as in, of the sun), but also ‘sinking’, ‘demise’, ‘downfall’, or ‘doom’. Nietzsche pairs this word with its opposite übergang (‘over-going’), used to mean ‘transition’. Another example is übermensch (‘overman’ or ‘superman’).
Reception[edit]
|
This section needs expansion with: things more comprehensive and relevant. You can help by adding to it. (May 2021) |
Nietzsche considered Thus Spoke Zarathustra his magnum opus, writing:
With [Thus Spoke Zarathustra] I have given mankind the greatest present that has ever been made to it so far. This book, with a voice bridging centuries, is not only the highest book there is, the book that is truly characterized by the air of the heights—the whole fact of man lies beneath it at a tremendous distance—it is also the deepest, born out of the innermost wealth of truth, an inexhaustible well to which no pail descends without coming up again filled with gold and goodness.
— Ecce Homo, «Preface» §4, translated by W. Kaufmann
In a letter of February 1884, he wrote:
With Zarathustra I believe I have brought the German language to its culmination. After Luther and Goethe there was still a third step to be made.[9]
To this, Parkes has said: «Many scholars believe that Nietzsche managed to make that step».[9] But critical opinion varies extremely. The book is «a masterpiece of literature as well as philosophy»[9] and «in large part a failure».[22]
The style of the book, along with its ambiguity and paradoxical nature, has helped its eventual enthusiastic reception by the reading public, but has frustrated academic attempts at analysis (as Nietzsche may have intended). Thus Spoke Zarathustra remained unpopular as a topic for scholars (especially those in the Anglo-American analytic tradition) until the latter half of the 20th century brought widespread interest in Nietzsche and his unconventional style.[24]
The critic Harold Bloom criticized Thus Spoke Zarathustra in The Western Canon (1994), calling the book «a gorgeous disaster» and «unreadable.»[25] Other commentators have suggested that Nietzsche’s style is intentionally ironic for much of the book.
Influence[edit]
Memorial[edit]
Nietzsche memorial stone with Zarathustra’s roundelay at Lake Sils.
- Text from Thus Spoke Zarathustra (Zarathustra’s roundelay) constitutes the Nietzsche memorial stone that was erected at Lake Sils in 1900, the year Nietzsche died.
Musical[edit]
19th century[edit]
- «Zarathustra’s Roundelay» was set as part of Gustav Mahler’s Third Symphony, originally under the title What Man Tells Me, or alternatively What the Night Tells Me (Of Man).
- Richard Strauss composed the tone poem Also sprach Zarathustra, which he designated «freely based on Friedrich Nietzsche.»[26]
20th century[edit]
Frederick Delius based his major choral-orchestral work A Mass of Life (1904–5) on texts from Thus Spoke Zarathustra. The work ends with a setting of «Zarathustra’s Roundelay» which Delius had composed earlier, in 1898, as a separate work.
Political[edit]
Elisabeth Förster-Nietzsche (Nietzsche’s sister) in 1910. Forster-Nietzsche controlled and influenced the reception of Nietzsche’s work.
In 1893, Elisabeth Förster-Nietzsche returned to Germany from administrating a failed colony in Paraguay and took charge of Nietzsche’s manuscripts. Nietzsche was by this point incapacitated. Förster-Nietzsche edited the manuscripts and fostered affiliations with the Nazis. The Nazis issued durable military editions of Zarathustra to soldiers.[27]
Visual/film[edit]
- Between 1995 and 1997 Lena Hades created a series of oil paintings, or «visual metaphors», based on and named after the book.
English translations[edit]
The first English translation of Zarathustra was published in 1896 by Alexander Tille.
Common (1909)[edit]
Thomas Common published a translation in 1909 which was based on Alexander Tille’s earlier attempt.[28]
Kaufmann’s introduction to his own translation included a blistering critique of Common’s version; he notes that in one instance, Common has taken the German «most evil» and rendered it «baddest», a particularly unfortunate error not merely for his having coined the term «baddest», but also because Nietzsche dedicated a third of The Genealogy of Morals to the difference between «bad» and «evil.»[28] This and other errors led Kaufmann to wonder whether Common «had little German and less English.»[28]
The German text available to Common was considerably flawed.[29]
From Zarathustra’s Prologue:
The Superman is the meaning of the earth. Let your will say: The Superman shall be the meaning of the earth!
I conjure you, my brethren, remain true to the earth, and believe not those who speak unto you of superearthly hopes! Poisoners are they, whether they know it or not.
Kaufmann (1954) and Hollingdale (1961)[edit]
The Common translation remained widely accepted until more critical translations, titled Thus Spoke Zarathustra, were published by Walter Kaufmann in 1954,[30] and R.J. Hollingdale in 1961,[31] which are considered to convey the German text more accurately than the Common version. The translations of Kaufmann and Hollingdale render the text in a far more familiar, less archaic, style of language, than that of Common. However, «deficiencies» have been noted.[32]
The German text from which Hollingdale and Kaufmann worked was untrue to Nietzsche’s own work in some ways.[29] Martin criticizes Kaufmann for changing punctuation, altering literal and philosophical meanings, and dampening some of Nietzsche’s more controversial metaphors.[29] Kaufmann’s version, which has become the most widely available, features a translator’s note suggesting that Nietzsche’s text would have benefited from an editor; Martin suggests that Kaufmann «took it upon himself to become [Nietzsche’s] editor.»[29]
Kaufmann, from Zarathustra’s Prologue:
The overman is the meaning of the earth. Let your will say: the overman shall be the meaning of the earth! I beseech you, my brothers, remain faithful to the earth, and do not believe those who speak to you of otherworldly hopes! Poison-mixers are they, whether they know it or not.
Hollingdale, from Zarathustra’s Prologue:
The Superman is the meaning of the earth. Let your will say: the Superman shall be the meaning of the earth!
I entreat you, my brothers, remain true to the earth, and do not believe those who speak to you of superterrestrial hopes! They are poisoners, whether they know it or not.
Wayne (2003)[edit]
Thomas Wayne, an English Professor at Edison State College in Fort Myers, Florida, published a translation in 2003. The introduction by Roger W. Phillips, Ph.D., says «Wayne’s close reading of the original text has exposed the deficiencies of earlier translations, preeminent among them that of the highly esteemed Walter Kaufmann», and gives several reasons.
Martin (2005)[edit]
|
This section needs expansion with: Something about this translation and not others. You can help by adding to it. (May 2021) |
Parkes (2005) and Del Caro (2006)[edit]
|
This section needs expansion with: These two editions are favoured by Anglophone Nietzsche scholars. You can help by adding to it. (May 2021) |
Graham Parkes describes his own 2005 translation as trying «above all to convey the musicality of the text.»[33] In 2006, Cambridge University Press published a translation by Adrian Del Caro, edited by Robert Pippin.
Parkes, from Zarathustra’s Prologue:
The Overhuman is the sense of the earth. May your will say: Let the Overhuman be the sense of the earth!
I beseech you, my brothers, stay true to the earth and do not believe those who talk of over-earthly hopes! They are poison-mixers, whether they know it or not.
Del Caro, from Zarathustra’s Prologue:
The overman is the meaning of the earth. Let your will say: the overman shall be the meaning of the earth!
I beseech you, my brothers, remain faithful to the earth and do not believe those who speak to you of extraterrestrial hopes! They are mixers of poisons whether they know it or not.
Mastroniani (2022)[edit]
Mastroniani’s critical analysis of the various English translations/interpretations of Nietzsche’s works & words and their shortcomings. In his abstract «This paper will examine German and “Also sprach Zarathustra,” also referred to as “Thus Spoke Zarathustra” later on, and argue that “Beyond-Human” is the best translation of übermensch.»
Further reading[edit]
Selected editions[edit]
The book Thus Spoke Zarathustra with pictures by Lena Hades in German and Russian
English[edit]
- Thus Spake Zarathustra, translated by Alexander Tille. New York: Macmillan. 1896.
- Thus Spake Zarathustra, trans. Thomas Common. Edinburgh: T. N. Foulis. 1909.
- Thus Spoke Zarathustra, trans. Walter Kaufmann. New York: Random House. 1954.
- Reprints: In The Portable Nietzsche, New York: Viking Press. 1954; Harmondsworth: Penguin Books. 1976
- Thus Spoke Zarathustra, trans. R. J. Hollingdale. Harmondsworth: Penguin Books. 1961.
- Thus Spoke Zarathustra, trans. Graham Parkes. Oxford: Oxford World’s Classics. 2005.
- Thus Spoke Zarathustra, trans. Clancy Martin. Barnes & Noble Books. 2005.
- Thus Spoke Zarathustra, trans. Adrian del Caro and edited by Robert Pippin. Cambridge: Cambridge University Press. 2006.
- Thus Spake Zarathustra, trans. Michael Hulse. New York Review Books. 2022.
German[edit]
- Also sprach Zarathustra, edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag (study edition of the standard German Nietzsche edition).
- Also sprach Zarathustra (bilingual ed.) (in German and Russian), with 20 oil paintings by Lena Hades. Moscow: Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 2004. ISBN 5-9540-0019-0.
Commentaries and introductions[edit]
English[edit]
- Nietzsche’s ‘Thus Spoke Zarathustra’: Before Sunrise (essay collection), edited by James Luchte. London: Bloomsbury Publishing. 2008. ISBN 1-84706-221-0.
- Higgins, Kathleen. [1987]. 2010. Nietzsche’s Zarathustra (rev. ed.). Philadelphia: Temple University Press.
- OSHO. 1987. «Zarathustra: A God That Can Dance.» Pune, India: OSHO Commune International.
- OSHO. 1987. «Zarathustra: The Laughing Prophet.» Pune, India: OSHO Commune International.
- Lampert, Laurence. 1989. Nietzsche’s Teaching: An Interpretation of Thus Spoke Zarathustra. New Haven: Yale University Press.
- Rosen, Stanley. 1995. The Mask of Enlightenment: Nietzsche’s Zarathustra. Cambridge: Cambridge University Press.
- 2nd ed. New Haven: Yale University Press. 2004.
- Seung, T. K. 2005. Nietzsche’s Epic of the Soul: Thus Spoke Zarathustra. Lanham, Maryland: Lexington Books.
German[edit]
- Naumann, Gustav. 1899–1901. Zarathustra-Commentar (in German), 4 vols. Leipzig: Haessel.
- Zittel, Claus. 2011. Das ästhetische Kalkül von Friedrich Nietzsches ‘Also sprach Zarathustra’. Würzburg: Königshausen & Neumann. ISBN 978-3-8260-4649-0.
- Schmidt, Rüdiger. «Introduction» (in German). In Nietzsche für Anfänger: Also sprach Zarathustra – Eine Lese-Einführung.
- Zittel, Claus: Wer also erzählt Nietzsches Zarathustra?, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 95, (2021), 327–351.
See also[edit]
- Faith in the Earth
- Gathas (Hymns of Zoroaster)
- Influence and reception of Friedrich Nietzsche
- Nietzsche and Buddhism
- Nietzsche on the Manusmriti (Ancient text, otherwise known as Mānava-Dharmaśāstra or Laws of Manu).
- Philosophy of Friedrich Nietzsche
References[edit]
Notes[edit]
Citations[edit]
- ^ Del Caro and Pippin, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Cambridge, 2006.
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 2: Half an orphan» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 3: The Discovery of Writing» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 4: The Discovery of Self» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 5: Soul-building: the theory» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 13: ‘Become what you are'» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ a b c d e f g h i j k Hollingdale, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Penguin
- ^ Gutmann, James. 1954. «The ‘Tremendous Moment’ of Nietzsche’s Vision.» The Journal of Philosophy 51(25):837–42. doi:10.2307/2020597. JSTOR 2020597.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Parkes, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Oxford
- ^ a b c d e Nietzsche, cited in Parkes, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Oxford
- ^ a b «NIETZSCHE AND PERSIA». Encyclopaedia Iranica. Retrieved 2023-02-18.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ «The Project Gutenberg eBook of Ecce Homo, by Friedrich Nietzsche». www.gutenberg.org. Retrieved 2023-02-18.
- ^ Pippin, Robert B. (2019), «Figurative Philosophy in Beyond Good and Evil«, in The New Cambridge Companion to Nietzsche, pp. 195-221
- ^ Johnson, Dirk R. (2019), «Zarathustra: Nietzsche’s Rendezvous with Eternity», in The New Cambridge Companion to Nietzsche, pp. 173-194
- ^ Golomb, Jacob (2002). Nietzsche, Godfather of Fascism? On the Uses and Abuses of a Philosophy.
- ^ Dunkle, I.D. (2020). On the Normativity of Nietzsche’s Will to Power. The Journal of Nietzsche Studies 51(2), 188-211. https://www.muse.jhu.edu/article/773967.
- ^ a b Babich, Babette, «Nietzsche’s Zarathustra and Parodic Style: On Lucian’s Hyperanthropos and Nietzsche’s Übermensch» (2013). Articles and Chapters in Academic Book Collections. 56.
https://research.library.fordham.edu/phil_babich/56 - ^ Nietzsche, Friedrich (1911). Ecce Homo. Translated by Anthony M. Ludovici. Macmillan. p. 96.
- ^ a b c d e Sinhababu, N., & Teng, K.U. (2019). Loving the Eternal Recurrence. The Journal of Nietzsche Studies 50(1), 106-124. https://www.muse.jhu.edu/article/721006.
- ^ a b c d e f g h i j k l m Elman, B. A. (1983) Nietzsche and Buddhism, https://doi.org/10.2307/2709223
- ^ Parkes trans.
- ^ a b Pippin, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Cambridge
- ^ Kofman, Sarah And Yet It Quakes! (Nietzsche and Voltaire), https://doi.org/10.3366/para.2021.0358 accessed 9 Aug 2021
- ^
Behler, Ernst. 1996. «Nietzsche in the Twentieth Century.» Pp. 281–319 in The Cambridge Companion to Nietzsche, edited by Magnus and Higgins. Cambridge: Cambridge University Press. - ^ Bloom, Harold (1994). The Western Canon: The Books and School of the Ages. New York: Riverhead Books. pp. 196, 422. ISBN 1-57322-514-2.
- ^ Bernard Jacobson. «Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, Op. 30 (1896)». American Symphony Orchestra: Dialogues and Extensions. Archived from the original on 2007-10-15. Retrieved 2007-12-11.
- ^ Pierpont, Claudia (March 31, 2002). «After God». The New Yorker. Retrieved November 3, 2022.
- ^ a b c Nietzsche, Friedrich. Trans. Kaufmann, Walter. The Portable Nietzsche. 1976, pp. 108–09.
- ^ a b c d Nietzsche, Friedrich. Trans. Martin, Clancy. Thus Spoke Zarathustra. 2005, p. xxxiii.
- ^ Nietzsche, Friedrich (1954). The Portable Nietzsche. trans. Walter Kaufmann. New York: Penguin.
- ^ Nietzsche, Friedrich. [1883–1885] 1961. Thus Spoke Zarathustra, translated by R. J. Hollingdale. Harmondsworth: Penguin Books.
- ^ q.v. #Wayne (2003)
- ^ Parkes, Graham. 2005. «Prologue.» In Thus spoke Zarathustra. p. xxxv.
External links[edit]
Wikisource has original text related to this article:
- Thus Spoke Zarathustra at Standard Ebooks
- Also sprach Zarathustra at Nietzsche Source
- Project Gutenberg’s etext of Also sprach Zarathustra (the German original)
- Project Gutenberg’s etext of Thus Spake Zarathustra, translated by Thomas Common
Thus Spake Zarathustra public domain audiobook at LibriVox

Title page of the first three-book edition |
|
| Author | Friedrich Nietzsche |
|---|---|
| Original title | Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen |
| Country | Germany |
| Language | German |
| Publisher | Ernst Schmeitzner |
|
Publication date |
1883–1892 |
| Media type | Print (Hardcover and Paperback) |
| Preceded by | The Gay Science |
| Followed by | Beyond Good and Evil |
| Text | Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None at Wikisource |
Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None (German: Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen), also translated as Thus Spake Zarathustra, is a work of philosophical fiction written by German philosopher Friedrich Nietzsche; it was published in four volumes between 1883 and 1885. The protagonist is nominally the historical Zoroaster.
Much of the book consists of discourses by Zarathustra on a wide variety of subjects, most of which end with the refrain, «Thus spoke Zarathustra.». The character of Zarathustra first appeared in Nietzsche’s earlier book The Gay Science (at §342, which closely resembles §1 of «Zarathustra’s Prologue» in Thus Spoke Zarathustra).
The style of Zarathustra has facilitated varied and often incompatible ideas about what Zarathustra says. Zarathustra’s «[e]xplanations and claims are almost always analogical and figurative.»[1] Though there is no consensus with what Zarathustra means when he speaks, there is some consensus about that which he speaks. Thus Spoke Zarathustra deals with ideas about the Übermensch, the death of God, the will to power, and eternal recurrence.
Origins[edit]
Nietzsche wrote in Ecce Homo that the central idea of Zarathustra occurred to him by a «pyramidal block of stone» on the shores of Lake Silvaplana.
Nietzsche’s first note on the «eternal recurrence», written «at the beginning of August 1881 in Sils-Maria, 6000 ft above sea level and much higher above all human regards! -» Nachlass, notebook M III 1, p. 53.
Nietzsche was born into, and largely remained within, the Bildungsbürgertum, a sort of highly cultivated middleclass.[2] By the time he was a teenager, he had been writing music and poetry.[3][4] His aunt Rosalie gave him a biography of Alexander von Humboldt for his 15th birthday, and reading this inspired a love of learning «for its own sake».[5] The schools he attended, the books he read, and his general milieu fostered and inculcated his interests in Bildung, or self-development, a concept at least tangential to many in Zarathustra, and he worked extremely hard. He became an outstanding philologist almost accidentally, and he renounced his ideas about being an artist. As a philologist he became particularly sensitive to the transmissions and modifications of ideas,[6] which also bears relevance into Zarathustra. Nietzsche’s growing distaste toward philology, however, was yoked with his growing taste toward philosophy. As a student, this yoke was his work with Diogenes Laertius. Even with that work he strongly opposed received opinion. With subsequent and properly philosophical work he continued to oppose received opinion.[7] His books leading up to Zarathustra have been described as nihilistic destruction.[7] Such nihilistic destruction combined with his increasing isolation and the rejection of his marriage proposals (to Lou Andreas-Salomé) devastated him.[7] While he was working on Zarathustra he was walking very much.[7] The imagery of his walks mingled with his physical and emotional and intellectual pains and his prior decades of hard work. What «erupted» was Thus Spoke Zarathustra.[7]
Nietzsche has said that the central idea of Zarathustra is the eternal recurrence. He has also said that this central idea first occurred to him in August 1881: he was near a «pyramidal block of stone» while walking through the woods along the shores of Lake Silvaplana in the Upper Engadine, and he made a small note that read «6,000 feet beyond man and time.»[clarification needed][8]
A few weeks after meeting this idea, he paraphrased in a notebook something written by Friedrich von Hellwald about Zarathustra.[9] This paraphrase was developed into the beginning of Thus Spoke Zarathustra.[9]
A year and a half after making that paraphrase, Nietzsche was living in Rapallo.[9] Nietzsche claimed that the entire first part was conceived, and that Zarathustra himself «came over him», while walking. He was regularly walking «the magnificent road to Zoagli» and «the whole Bay of Santa Margherita».[10] He said in a letter that the entire first part «was conceived in the course of strenuous hiking: absolute certainty, as if every sentence were being called out to me».[10]
Nietzsche returned to «the sacred place» in the summer of 1883 and he «found» the second part».[9]
Nietzsche was in Nice the following winter and he «found» the third part.[9]
According to Nietzsche in Ecce Homo it was «scarcely one year for the entire work», and ten days each part.[9] More broadly, however, he said in a letter: «The whole of Zarathustra is an explosion of forces that have been accumulating for decades».[10]
In January 1884 Nietzsche had finished the third part and thought the book finished.[9] But by November he expected a fourth part to be finished by January.[9] He also mentioned a fifth and sixth part leading to Zarathustra’s death, «or else he will give me no peace».[10] But after the fourth part was finished he called it «a fourth (and last) part of Zarathustra, a kind of sublime finale, which is not at all meant for the public».[10]
The first three parts were initially published individually and were first published together in a single volume in 1887.[citation needed] The fourth part was written in 1885 and kept private.[9] While Nietzsche retained mental capacity and was involved in the publication of his works, forty-five copies of the fourth part were printed at his own expense and distributed to his closest friends, to whom he expressed «a vehement desire never to have the Fourth Part made public».[9] In 1889, however, Nietzsche became significantly incapacitated. In March 1892 the four parts were published in a single volume.[9]
Zarathustra[edit]
In the 1888 Ecce Homo, Nietzche explained what he meant by making the Persian figure of Zoroaster the protagonist of his book:[11][12]
People have never asked me as they should have done, what the name of Zarathustra precisely meant in my mouth, in the mouth of the first immoralist; for that which distinguishes this Persian from all others in the past is the very fact that he was the exact reverse of an immoralist. Zarathustra was the first to see in the struggle between good and evil the essential wheel in the working of things. The translation of morality into the realm of metaphysics, as force, cause, end-in-itself, is his work. But the very question suggests its own answer. Zarathustra created this most portentous of all errors,—morality; therefore he must be the first to expose it. Not only because he has had longer and greater experience of the subject than any other thinker,—all history is indeed the experimental refutation of the theory of the so-called moral order of things,—but because of the more important fact that Zarathustra was the most truthful of thinkers. In his teaching alone is truthfulness upheld as the highest virtue—that is to say, as the reverse of the cowardice of the «idealist» who takes to his heels at the sight of reality. Zarathustra has more pluck in his body than all other thinkers put together. To tell the truth and to aim straight: that is the first Persian virtue. Have I made myself clear? … The overcoming of morality by itself, through truthfulness, the moralist’s overcoming of himself in his opposite—in me—that is what the name Zarathustra means in my mouth.
— Ecce Homo, «Why I Am a Fatality»
Thus, «[a]s Nietzsche admits himself, by choosing the name of Zarathustra as the prophet of his philosophy in a poetical idiom, he wanted to pay homage to the original Aryan prophet as a prominent founding figure of the spiritual-moral phase in human history, and reverse his teachings at the same time, according to his fundamental critical views on morality. The original Zoroastrian world-view interpreted being on the basis of the universality of the moral values and saw the whole world as an arena of the struggle between two fundamental moral elements, Good and Evil, depicted in two antagonistic divine figures [Ahura Mazda and Ahriman]. Nietzsche’s Zarathustra, in contrast, puts forward his ontological immoralism and tries to prove and reestablish the primordial innocence of beings by destroying philosophically all moralistic interpretations and evaluations of being».[11]
Synopsis[edit]
First part[edit]
The book begins with a prologue which sets up many of the themes that will be explored throughout the work. Zarathustra is introduced as a hermit who has lived ten years on a mountain with his two companions, an eagle and a serpent. One morning – inspired by the sun, which is happy only when it shines upon others – Zarathustra decides to return to the world and share his wisdom. Upon descending the mountain, he encounters a saint living in a forest, who spends his days praising God. Zarathustra marvels that the saint has not yet heard that «God is dead».
Arriving at the nearest town, Zarathustra addresses a crowd which has gathered to watch a tightrope walker. He tells them that mankind’s goal must be to create something superior to itself – a new type of human, the Übermensch. All men, he says, must be prepared to will their own destruction in order to bring the Übermensch into being. The crowd greets this speech with scorn and mockery, and meanwhile the tightrope show begins. When the rope-dancer is halfway across, a clown comes up behind him, urging him to get out of the way. The clown then leaps over the rope-dancer, causing the latter to fall to his death. The crowd scatters; Zarathustra takes the corpse of the rope-dancer on his shoulders, carries it into the forest, and lays it in a hollow tree. He decides that from this point on, he will no longer attempt to speak to the masses, but only to a few chosen disciples.
There follows a series of discourses in which Zarathustra overturns many of the precepts of Christian morality. He gathers a group of disciples, but ultimately abandons them, saying that he will not return until they have disowned him.
Second part[edit]
Zarathustra retires to his mountain cave, and several years pass by. One night, he dreams that he looks into a mirror and sees the face of a devil instead of his own; he takes this as a sign that his doctrines are being distorted by his enemies, and joyfully descends the mountain to recover his lost disciples.
More discourses follow, which continue to develop the themes of the death of God and the rise of the Übermensch, and also introduce the concept of the will to power. There are hints, however, that Zarathustra is holding something back. A series of dreams and visions prompt him to reveal this secret teaching, but he cannot bring himself to do so. He withdraws from his disciples once more, in order to perfect himself.
Third part[edit]
While journeying home, Zarathustra is waylaid by the spirit of gravity, a dwarf-like creature which clings to his back and whispers taunts into his ear. Zarathustra at first becomes despondent, but then takes courage; he challenges the spirit to hear the «abysmal thought» which he has so far refrained from speaking. This is the doctrine of eternal recurrence. Time, says Zarathustra, is infinite, stretching both forward and backward into eternity. This means that everything that happens now must have happened before, and that every moment must continue to repeat itself eternally.
As he speaks, Zarathustra hears a dog howl in terror, and then he sees a new vision – a shepherd choking on a black serpent which has crept into his throat. At Zarathustra’s urging, the shepherd bites the serpent’s head off and spits it out. In that moment, the shepherd is transformed into a laughing, radiant being, something greater than human.
Zarathustra continues his journey, delivering more discourses inspired by his observations. Arriving at his mountain cave, he remains there for some time, reflecting on his mission. He is disgusted at humanity’s pettiness, and despairs at the thought of the eternal recurrence of such an insignificant race. Eventually, however, he discovers his own longing for eternity, and sings a song in celebration of eternal return.
Fourth part[edit]
Zarathustra begins to grow old as he remains secluded in his cave. One day, he is visited by a soothsayer, who says that he has come to tempt Zarathustra to his final sin – compassion (mitleiden, which can also be translated as «pity»). A loud cry of distress is heard, and the soothsayer tells Zarathustra that «the higher man» is calling to him. Zarathustra is alarmed, and rushes to the aid of the higher man.
Searching through his domain for the person who uttered the cry for help, Zarathustra encounters a series of characters representative of various aspects of humanity. He engages each of them in conversation, and ends by inviting each one to await his return in his cave. After a day’s search, however, he is unable to find the higher man. Returning home, he hears the cry of distress once more, now coming from inside his own cave. He realises that all the people he has spoken to that day are collectively the higher man. Welcoming them to his home, he nevertheless tells them that they are not the men he has been waiting for; they are only the precursors of the Übermensch.
Zarathustra hosts a supper for his guests, which is enlivened by songs and arguments, and ends in the facetious worship of a donkey. The higher men thank Zarathustra for relieving them of their distress and teaching them to be content with life.
The following morning, outside his cave, Zarathustra encounters a lion and a flock of doves, which he interprets as a sign that those whom he calls his children are near. As the higher men emerge from the cave, the lion roars at them, causing them to cry out and flee. Their cry reminds Zarathustra of the soothsayer’s prediction that he would be tempted into feeling compassion for the higher man. He declares that this is over, and that from this time forward he will think of nothing but his work.
Themes[edit]
|
This section needs expansion with: Each subsection implies that there is consensus. There is no consensus. You can help by adding to it. (April 2021) |
Scholars have argued that «the worst possible way to understand Zarathustra is as a teacher of doctrines».[13] Nonetheless Thus Spoke Zarathustra «has contributed most to the public perception of Nietzsche as philosopher – namely, as the teacher of the ‘doctrines’ of the will to power, the overman and the eternal return».[14]
Will to power[edit]
Nietzsche’s thinking was significantly influenced by the thinking of Arthur Schopenhauer. Schopenhauer emphasised will, and particularly will to live. Nietzsche emphasised Wille zur Macht, or will to power.
Nietzsche was not a systematic philosopher and left much of what he wrote open to interpretation. Receptive fascists are said to have misinterpreted the will to power, having overlooked Nietzsche’s distinction between Kraft («force» or «strength») and Macht («power» or «might»).[15]
Scholars have often had recourse to Nietzsche’s notebooks, where will to power is described in ways such as «willing-to-become-stronger [Stärker-werden-wollen], willing growth».[16]
Übermensch[edit]
It is allegedly «well-known that as a term, Nietzsche’s Übermensch derives from Lucian of Samosata’s hyperanthropos».[17] This hyperanthropos, or overhuman, appears in Lucian’s Menippean satire Κατάπλους ἢ Τύραννος, usually translated Downward Journey or The Tyrant. This hyperanthropos is «imagined to be superior to others of ‘lesser’ station in this-worldly life and the same tyrant after his (comically unwilling) transport into the underworld».[17]
Nietzsche celebrated Goethe as an actualisation of the Übermensch.[7]
Eternal recurrence[edit]
Nietzsche included some brief writings on eternal recurrence in his earlier book The Gay Science. Zarathustra also appeared in that book. In Thus Spoke Zarathustra, the eternal recurrence is, according to Nietzsche, the «fundamental idea of the work».[18]
Interpretations of the eternal recurrence have mostly revolved around cosmological and attitudinal and normative principles.[19]
As a cosmological principle, it has been supposed to mean that time is circular, that all things recur eternally.[19] A weak attempt at proof has been noted in Nietzsche’s notebooks, and it is not clear to what extent, if at all, Nietzsche believed in the truth of it.[19] Critics have mostly dealt with the cosmological principle as a puzzle of why Nietzsche might have touted the idea.
As an attitudinal principle it has often been dealt with as a thought experiment, to see how one would react, or as a sort of ultimate expression of life-affirmation, as if one should desire eternal recurrence.[19]
As a normative principle, it has been thought of as a measure or standard, akin to a «moral rule».[19]
Criticism of religion[edit]
Nietzsche studied extensively and was very familiar with Schopenhauer and Christianity and Buddhism, each of which he considered nihilistic and «enemies to a healthy culture».[20] Thus Spoke Zarathustra can be understood as a «polemic» against these influences.[20]
Though Nietzsche «probably learned Sanskrit while at Leipzig from 1865 to 1868»,[20] and «was probably one of the best read and most solidly grounded in Buddhism for his time among Europeans»,[20] Nietzsche was writing when Eastern thought was only beginning to be acknowledged in the West, and Eastern thought was easily misconstrued.[20] Nietzsche’s interpretations of Buddhism were coloured by his study of Schopenhauer,[20] and it is «clear that Nietzsche, as well as Schopenhauer, entertained inaccurate views of Buddhism».[20] An egregious example has been the idea of śūnyatā as «nothingness» rather than «emptiness».[20] «Perhaps the most serious misreading we find in Nietzsche’s account of Buddhism was his inability to recognize that the Buddhist doctrine of emptiness was an initiatory stage leading to a reawakening».[20] Nietzsche dismissed Schopenhauer and Christianity and Buddhism as pessimistic and nihilistic, but, according to Benjamin A. Elman, «[w]hen understood on its own terms, Buddhism cannot be dismissed as pessimistic or nihilistic».[20] Moreover, answers which Nietzsche assembled to the questions he was asking, not only generally but also in Zarathustra, put him «very close to some basic doctrines found in Buddhism».[20] An example is when Zarathustra says that «the soul is only a word for something about the body».[20]
Nihilism[edit]
It has been often repeated in some way that Nietzsche takes with one hand what he gives with the other. Accordingly, interpreting what he wrote has been notoriously slippery. One of the most vexed points in discussions of Nietzsche has been whether or not he was a nihilist.[20] Though arguments have been made for either side, what is clear is that Nietzsche was at least interested in nihilism.
As far as nihilism touched other people, at least, metaphysical understandings of the world were progressively undermined until people could contend that «God is dead».[7] Without God, humanity was greatly devalued.[7] Without metaphysical or supernatural lenses, humans could be seen as animals with primitive drives which were or could be sublimated.[7] According to Hollingdale, this led to Nietzsche’s ideas about the will to power.[7] Likewise, «Sublimated will to power was now the Ariadne’s thread tracing the way out of the labyrinth of nihilism».[7]
Style[edit]
|
This section needs expansion with: Nietzsche’s general style and epistemology at least. You can help by adding to it. (May 2021) |
«On Reading and Writing.
Of all that is written, I love only that which one writes with one’s own blood.»[21]
Thus Spoke Zarathustra, The Complete Works of Friedrich Nietzsche, Volume VI, 1899, C. G. Naumann, Leipzig.
The nature of the text is musical and operatic.[9] While working on it Nietzsche wrote «of his aim ‘to become Wagner’s heir'».[9] Nietzsche thought of it as akin to a symphony or opera.[9] «No lesser a symphonist than Gustav Mahler corroborates: ‘His Zarathustra was born completely from the spirit of music, and is even «symphonically constructed»‘».[9] Nietzsche
later draws special attention to «the tempo of Zarathustra’s speeches» and their «delicate slowness» – «from an infinite fullness of light and depth of happiness drop falls after drop, word after word» – as well as the necessity of «hearing properly the tone that issues from his mouth, this halcyon tone».[9]
The length of paragraphs and the punctuation and the repetitions all enhance the musicality.[9]
The title is Thus Spoke Zarathustra. Much of the book is what Zarathustra said. What Zarathustra says
is throughout so highly parabolic, metaphorical, and aphoristic. Rather than state various claims about virtues and the present age and religion and aspirations, Zarathustra speaks about stars, animals, trees, tarantulas, dreams, and so forth. Explanations and claims are almost always analogical and figurative.[22]
Nietzsche would often appropriate masks and models to develop himself and his thoughts and ideas, and to find voices and names through which to communicate.[23] While writing Zarathustra, Nietzsche was particularly influenced by «the language of Luther and the poetic form of the Bible».[9] But Zarathustra also frequently alludes to or appropriates from Hölderlin’s Hyperion and Goethe’s Faust and Emerson’s Essays, among other things. It is generally agreed that the sorcerer is based on Wagner and the soothsayer is based on Schopenhauer.
The original text contains a great deal of word-play. For instance, words beginning with über (‘over, above’) and unter (‘down, below’) are often paired to emphasise the contrast, which is not always possible to bring out in translation, except by coinages. An example is untergang (lit. ‘down-going’), which is used in German to mean ‘setting’ (as in, of the sun), but also ‘sinking’, ‘demise’, ‘downfall’, or ‘doom’. Nietzsche pairs this word with its opposite übergang (‘over-going’), used to mean ‘transition’. Another example is übermensch (‘overman’ or ‘superman’).
Reception[edit]
|
This section needs expansion with: things more comprehensive and relevant. You can help by adding to it. (May 2021) |
Nietzsche considered Thus Spoke Zarathustra his magnum opus, writing:
With [Thus Spoke Zarathustra] I have given mankind the greatest present that has ever been made to it so far. This book, with a voice bridging centuries, is not only the highest book there is, the book that is truly characterized by the air of the heights—the whole fact of man lies beneath it at a tremendous distance—it is also the deepest, born out of the innermost wealth of truth, an inexhaustible well to which no pail descends without coming up again filled with gold and goodness.
— Ecce Homo, «Preface» §4, translated by W. Kaufmann
In a letter of February 1884, he wrote:
With Zarathustra I believe I have brought the German language to its culmination. After Luther and Goethe there was still a third step to be made.[9]
To this, Parkes has said: «Many scholars believe that Nietzsche managed to make that step».[9] But critical opinion varies extremely. The book is «a masterpiece of literature as well as philosophy»[9] and «in large part a failure».[22]
The style of the book, along with its ambiguity and paradoxical nature, has helped its eventual enthusiastic reception by the reading public, but has frustrated academic attempts at analysis (as Nietzsche may have intended). Thus Spoke Zarathustra remained unpopular as a topic for scholars (especially those in the Anglo-American analytic tradition) until the latter half of the 20th century brought widespread interest in Nietzsche and his unconventional style.[24]
The critic Harold Bloom criticized Thus Spoke Zarathustra in The Western Canon (1994), calling the book «a gorgeous disaster» and «unreadable.»[25] Other commentators have suggested that Nietzsche’s style is intentionally ironic for much of the book.
Influence[edit]
Memorial[edit]
Nietzsche memorial stone with Zarathustra’s roundelay at Lake Sils.
- Text from Thus Spoke Zarathustra (Zarathustra’s roundelay) constitutes the Nietzsche memorial stone that was erected at Lake Sils in 1900, the year Nietzsche died.
Musical[edit]
19th century[edit]
- «Zarathustra’s Roundelay» was set as part of Gustav Mahler’s Third Symphony, originally under the title What Man Tells Me, or alternatively What the Night Tells Me (Of Man).
- Richard Strauss composed the tone poem Also sprach Zarathustra, which he designated «freely based on Friedrich Nietzsche.»[26]
20th century[edit]
Frederick Delius based his major choral-orchestral work A Mass of Life (1904–5) on texts from Thus Spoke Zarathustra. The work ends with a setting of «Zarathustra’s Roundelay» which Delius had composed earlier, in 1898, as a separate work.
Political[edit]
Elisabeth Förster-Nietzsche (Nietzsche’s sister) in 1910. Forster-Nietzsche controlled and influenced the reception of Nietzsche’s work.
In 1893, Elisabeth Förster-Nietzsche returned to Germany from administrating a failed colony in Paraguay and took charge of Nietzsche’s manuscripts. Nietzsche was by this point incapacitated. Förster-Nietzsche edited the manuscripts and fostered affiliations with the Nazis. The Nazis issued durable military editions of Zarathustra to soldiers.[27]
Visual/film[edit]
- Between 1995 and 1997 Lena Hades created a series of oil paintings, or «visual metaphors», based on and named after the book.
English translations[edit]
The first English translation of Zarathustra was published in 1896 by Alexander Tille.
Common (1909)[edit]
Thomas Common published a translation in 1909 which was based on Alexander Tille’s earlier attempt.[28]
Kaufmann’s introduction to his own translation included a blistering critique of Common’s version; he notes that in one instance, Common has taken the German «most evil» and rendered it «baddest», a particularly unfortunate error not merely for his having coined the term «baddest», but also because Nietzsche dedicated a third of The Genealogy of Morals to the difference between «bad» and «evil.»[28] This and other errors led Kaufmann to wonder whether Common «had little German and less English.»[28]
The German text available to Common was considerably flawed.[29]
From Zarathustra’s Prologue:
The Superman is the meaning of the earth. Let your will say: The Superman shall be the meaning of the earth!
I conjure you, my brethren, remain true to the earth, and believe not those who speak unto you of superearthly hopes! Poisoners are they, whether they know it or not.
Kaufmann (1954) and Hollingdale (1961)[edit]
The Common translation remained widely accepted until more critical translations, titled Thus Spoke Zarathustra, were published by Walter Kaufmann in 1954,[30] and R.J. Hollingdale in 1961,[31] which are considered to convey the German text more accurately than the Common version. The translations of Kaufmann and Hollingdale render the text in a far more familiar, less archaic, style of language, than that of Common. However, «deficiencies» have been noted.[32]
The German text from which Hollingdale and Kaufmann worked was untrue to Nietzsche’s own work in some ways.[29] Martin criticizes Kaufmann for changing punctuation, altering literal and philosophical meanings, and dampening some of Nietzsche’s more controversial metaphors.[29] Kaufmann’s version, which has become the most widely available, features a translator’s note suggesting that Nietzsche’s text would have benefited from an editor; Martin suggests that Kaufmann «took it upon himself to become [Nietzsche’s] editor.»[29]
Kaufmann, from Zarathustra’s Prologue:
The overman is the meaning of the earth. Let your will say: the overman shall be the meaning of the earth! I beseech you, my brothers, remain faithful to the earth, and do not believe those who speak to you of otherworldly hopes! Poison-mixers are they, whether they know it or not.
Hollingdale, from Zarathustra’s Prologue:
The Superman is the meaning of the earth. Let your will say: the Superman shall be the meaning of the earth!
I entreat you, my brothers, remain true to the earth, and do not believe those who speak to you of superterrestrial hopes! They are poisoners, whether they know it or not.
Wayne (2003)[edit]
Thomas Wayne, an English Professor at Edison State College in Fort Myers, Florida, published a translation in 2003. The introduction by Roger W. Phillips, Ph.D., says «Wayne’s close reading of the original text has exposed the deficiencies of earlier translations, preeminent among them that of the highly esteemed Walter Kaufmann», and gives several reasons.
Martin (2005)[edit]
|
This section needs expansion with: Something about this translation and not others. You can help by adding to it. (May 2021) |
Parkes (2005) and Del Caro (2006)[edit]
|
This section needs expansion with: These two editions are favoured by Anglophone Nietzsche scholars. You can help by adding to it. (May 2021) |
Graham Parkes describes his own 2005 translation as trying «above all to convey the musicality of the text.»[33] In 2006, Cambridge University Press published a translation by Adrian Del Caro, edited by Robert Pippin.
Parkes, from Zarathustra’s Prologue:
The Overhuman is the sense of the earth. May your will say: Let the Overhuman be the sense of the earth!
I beseech you, my brothers, stay true to the earth and do not believe those who talk of over-earthly hopes! They are poison-mixers, whether they know it or not.
Del Caro, from Zarathustra’s Prologue:
The overman is the meaning of the earth. Let your will say: the overman shall be the meaning of the earth!
I beseech you, my brothers, remain faithful to the earth and do not believe those who speak to you of extraterrestrial hopes! They are mixers of poisons whether they know it or not.
Mastroniani (2022)[edit]
Mastroniani’s critical analysis of the various English translations/interpretations of Nietzsche’s works & words and their shortcomings. In his abstract «This paper will examine German and “Also sprach Zarathustra,” also referred to as “Thus Spoke Zarathustra” later on, and argue that “Beyond-Human” is the best translation of übermensch.»
Further reading[edit]
Selected editions[edit]
The book Thus Spoke Zarathustra with pictures by Lena Hades in German and Russian
English[edit]
- Thus Spake Zarathustra, translated by Alexander Tille. New York: Macmillan. 1896.
- Thus Spake Zarathustra, trans. Thomas Common. Edinburgh: T. N. Foulis. 1909.
- Thus Spoke Zarathustra, trans. Walter Kaufmann. New York: Random House. 1954.
- Reprints: In The Portable Nietzsche, New York: Viking Press. 1954; Harmondsworth: Penguin Books. 1976
- Thus Spoke Zarathustra, trans. R. J. Hollingdale. Harmondsworth: Penguin Books. 1961.
- Thus Spoke Zarathustra, trans. Graham Parkes. Oxford: Oxford World’s Classics. 2005.
- Thus Spoke Zarathustra, trans. Clancy Martin. Barnes & Noble Books. 2005.
- Thus Spoke Zarathustra, trans. Adrian del Caro and edited by Robert Pippin. Cambridge: Cambridge University Press. 2006.
- Thus Spake Zarathustra, trans. Michael Hulse. New York Review Books. 2022.
German[edit]
- Also sprach Zarathustra, edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag (study edition of the standard German Nietzsche edition).
- Also sprach Zarathustra (bilingual ed.) (in German and Russian), with 20 oil paintings by Lena Hades. Moscow: Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 2004. ISBN 5-9540-0019-0.
Commentaries and introductions[edit]
English[edit]
- Nietzsche’s ‘Thus Spoke Zarathustra’: Before Sunrise (essay collection), edited by James Luchte. London: Bloomsbury Publishing. 2008. ISBN 1-84706-221-0.
- Higgins, Kathleen. [1987]. 2010. Nietzsche’s Zarathustra (rev. ed.). Philadelphia: Temple University Press.
- OSHO. 1987. «Zarathustra: A God That Can Dance.» Pune, India: OSHO Commune International.
- OSHO. 1987. «Zarathustra: The Laughing Prophet.» Pune, India: OSHO Commune International.
- Lampert, Laurence. 1989. Nietzsche’s Teaching: An Interpretation of Thus Spoke Zarathustra. New Haven: Yale University Press.
- Rosen, Stanley. 1995. The Mask of Enlightenment: Nietzsche’s Zarathustra. Cambridge: Cambridge University Press.
- 2nd ed. New Haven: Yale University Press. 2004.
- Seung, T. K. 2005. Nietzsche’s Epic of the Soul: Thus Spoke Zarathustra. Lanham, Maryland: Lexington Books.
German[edit]
- Naumann, Gustav. 1899–1901. Zarathustra-Commentar (in German), 4 vols. Leipzig: Haessel.
- Zittel, Claus. 2011. Das ästhetische Kalkül von Friedrich Nietzsches ‘Also sprach Zarathustra’. Würzburg: Königshausen & Neumann. ISBN 978-3-8260-4649-0.
- Schmidt, Rüdiger. «Introduction» (in German). In Nietzsche für Anfänger: Also sprach Zarathustra – Eine Lese-Einführung.
- Zittel, Claus: Wer also erzählt Nietzsches Zarathustra?, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 95, (2021), 327–351.
See also[edit]
- Faith in the Earth
- Gathas (Hymns of Zoroaster)
- Influence and reception of Friedrich Nietzsche
- Nietzsche and Buddhism
- Nietzsche on the Manusmriti (Ancient text, otherwise known as Mānava-Dharmaśāstra or Laws of Manu).
- Philosophy of Friedrich Nietzsche
References[edit]
Notes[edit]
Citations[edit]
- ^ Del Caro and Pippin, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Cambridge, 2006.
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 2: Half an orphan» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 3: The Discovery of Writing» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 4: The Discovery of Self» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 5: Soul-building: the theory» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ Blue, D. (2016), «Chapter 13: ‘Become what you are'» in The Making of Friedrich Nietzsche, Cambridge University Press
- ^ a b c d e f g h i j k Hollingdale, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Penguin
- ^ Gutmann, James. 1954. «The ‘Tremendous Moment’ of Nietzsche’s Vision.» The Journal of Philosophy 51(25):837–42. doi:10.2307/2020597. JSTOR 2020597.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Parkes, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Oxford
- ^ a b c d e Nietzsche, cited in Parkes, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Oxford
- ^ a b «NIETZSCHE AND PERSIA». Encyclopaedia Iranica. Retrieved 2023-02-18.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ «The Project Gutenberg eBook of Ecce Homo, by Friedrich Nietzsche». www.gutenberg.org. Retrieved 2023-02-18.
- ^ Pippin, Robert B. (2019), «Figurative Philosophy in Beyond Good and Evil«, in The New Cambridge Companion to Nietzsche, pp. 195-221
- ^ Johnson, Dirk R. (2019), «Zarathustra: Nietzsche’s Rendezvous with Eternity», in The New Cambridge Companion to Nietzsche, pp. 173-194
- ^ Golomb, Jacob (2002). Nietzsche, Godfather of Fascism? On the Uses and Abuses of a Philosophy.
- ^ Dunkle, I.D. (2020). On the Normativity of Nietzsche’s Will to Power. The Journal of Nietzsche Studies 51(2), 188-211. https://www.muse.jhu.edu/article/773967.
- ^ a b Babich, Babette, «Nietzsche’s Zarathustra and Parodic Style: On Lucian’s Hyperanthropos and Nietzsche’s Übermensch» (2013). Articles and Chapters in Academic Book Collections. 56.
https://research.library.fordham.edu/phil_babich/56 - ^ Nietzsche, Friedrich (1911). Ecce Homo. Translated by Anthony M. Ludovici. Macmillan. p. 96.
- ^ a b c d e Sinhababu, N., & Teng, K.U. (2019). Loving the Eternal Recurrence. The Journal of Nietzsche Studies 50(1), 106-124. https://www.muse.jhu.edu/article/721006.
- ^ a b c d e f g h i j k l m Elman, B. A. (1983) Nietzsche and Buddhism, https://doi.org/10.2307/2709223
- ^ Parkes trans.
- ^ a b Pippin, «Introduction» in Thus Spoke Zarathustra, Cambridge
- ^ Kofman, Sarah And Yet It Quakes! (Nietzsche and Voltaire), https://doi.org/10.3366/para.2021.0358 accessed 9 Aug 2021
- ^
Behler, Ernst. 1996. «Nietzsche in the Twentieth Century.» Pp. 281–319 in The Cambridge Companion to Nietzsche, edited by Magnus and Higgins. Cambridge: Cambridge University Press. - ^ Bloom, Harold (1994). The Western Canon: The Books and School of the Ages. New York: Riverhead Books. pp. 196, 422. ISBN 1-57322-514-2.
- ^ Bernard Jacobson. «Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, Op. 30 (1896)». American Symphony Orchestra: Dialogues and Extensions. Archived from the original on 2007-10-15. Retrieved 2007-12-11.
- ^ Pierpont, Claudia (March 31, 2002). «After God». The New Yorker. Retrieved November 3, 2022.
- ^ a b c Nietzsche, Friedrich. Trans. Kaufmann, Walter. The Portable Nietzsche. 1976, pp. 108–09.
- ^ a b c d Nietzsche, Friedrich. Trans. Martin, Clancy. Thus Spoke Zarathustra. 2005, p. xxxiii.
- ^ Nietzsche, Friedrich (1954). The Portable Nietzsche. trans. Walter Kaufmann. New York: Penguin.
- ^ Nietzsche, Friedrich. [1883–1885] 1961. Thus Spoke Zarathustra, translated by R. J. Hollingdale. Harmondsworth: Penguin Books.
- ^ q.v. #Wayne (2003)
- ^ Parkes, Graham. 2005. «Prologue.» In Thus spoke Zarathustra. p. xxxv.
External links[edit]
Wikisource has original text related to this article:
- Thus Spoke Zarathustra at Standard Ebooks
- Also sprach Zarathustra at Nietzsche Source
- Project Gutenberg’s etext of Also sprach Zarathustra (the German original)
- Project Gutenberg’s etext of Thus Spake Zarathustra, translated by Thomas Common
Thus Spake Zarathustra public domain audiobook at LibriVox
| Так говорил Заратустра | |
| Also sprach Zarathustra | |
 Титульная страница первого издания |
|
| Автор: |
Фридрих Ницше |
|---|---|
| Язык оригинала: |
немецкий |
| Год написания: |
1883-1885 |
| Публикация: |
1885 |
«Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» (нем. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1883—1885) — философский роман Фридриха Ницше, впервые изданный в 1885 году. Изначально книга состояла из трёх отдельных частей, написанных в течение года. Ницше намеревался написать ещё три части, но закончил только одну — четвёртую. После смерти Ницше все четыре части были опубликованы в одном томе.
Содержание
- 1 Содержание
- 2 Вечное возвращение
- 3 Влияние
- 4 Критика
- 5 Переводы на русский язык
- 6 Музыка
- 7 В астрономии
- 8 См. также
- 9 Примечания
- 10 Ссылки
Содержание
В книге повествуется о судьбе и учении бродячего философа, взявшего себе имя Заратустра в честь древнеперсидского пророка Зороастра (Заратуштры). Одной из центральных идей романа является мысль о том, что человек — промежуточная ступень в превращении обезьяны в сверхчеловека (нем. Übermensch): «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над бездной».
Книга представляет собой отчасти поэтический, отчасти философский трактат, раскрывающий позицию самого Ницше относительно того, какое место человек занимает среди окружающего его общества, как он понимает свою жизнь, как путешествует, как познает себя и окружающий мир. В книге уделяется внимание общению человека с природой, с самим собой, и с окружающими людьми. Воспевается идея необходимости идти своим путем.
Вечное возвращение
«Так говорил Заратустра» — один из ключевых текстов Нового времени. Доктрине прогресса (поступательного развития), которая господствовала в умах европейцев с эпохи Просвещения, Ницше противопоставил учение о вечном возвращении, о цикличности любого развития.[1] Только сверхчеловек способен с готовностью принять бесконечное возвращение однажды пережитого, включая самые горькие минуты. Отличие такого существа от обычного человека, по Ницше, в порядке отличия человека от обезьяны.[1]
Влияние
Подобно Библии, книга Ницше балансирует на грани между философией, прозой и поэзией. Обращаясь к «ветхой арийской древности», автор стремился противопоставить свою «арийскую» книгу Библии как воплощению отжившей своё иудео-христианской морали[2]. Любопытно, что трактат Ницше и Библия — две книги, которые немецкие солдаты Первой мировой войны чаще всего носили в своих вещмешках.[1] Ницшеанская идеология была особенно востребована Третьим рейхом. В 1934 году сестра Ницше добилась того, что Гитлер трижды посетил созданный ею музей-архив Ницше, сфотографировался почтительно смотрящим на бюст Ницше и объявил музей-архив центром национал-социалистической идеологии. Экземпляр книги Ницше «Так говорил Заратустра» вместе с «Майн Кампф» Гитлера и «Мифом двадцатого века» Розенберга был торжественно положен в склеп почившего президента Гинденбурга.[3]
При этом само творчество Ницше не имеет к национал-социализму никакого отношения. Идеология Третьего рейха прямо противоположна учению, изложенному в «Так говорил Заратустра», учению, в котором человек стремится к самодостаточности.
Критика
Польский педагог и писатель Януш Корчак в своём Дневнике, написанном в гетто, поставил задачу ответить на «книгу псевдопророка», желая доказать, что Ницше умер, находясь не только в разладе с жизнью (лишившись рассудка), но и «в мучительном разладе с правдой».
И я разговаривал, имел честь разговаривать с Заратустрой…
Тот же самый Заратустра учил меня другому. Может быть, у меня лучше слух, может, я более чутко слушал…[4]
Переводы на русский язык
Первый и до сих пор считающийся лучшим — перевод Ю. М. Антоновского (1857—1913), юриста, народовольца, соратника и человека из ближайшего окружения Н. С. Тютчева. До 1917 года этот перевод выдержал 4-е издания: 1900 — Б. М. Вольфа, 1903 — тип. Альтшулера, 1907 — Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1911 — «Прометей» (все — Санкт-Петербург).
В последующие времена, в числе других переводов, — В. В. Рынкевича — опубликован в московском издательстве «Интербук» в 1990.
Музыка
По мотивам книги Ницше написана симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». На слова из книги Ницше композитор Фредерик Делиус сочинил ораторию «Месса живых». Густав Малер включил в состав Третьей симфонии «полуночную песнь» Заратустры.
В астрономии
В честь персонажей романа Зулейки и Дуду названы астероиды (563) Зулейка (англ.)русск. и (564) Дуду (англ.)русск., открытые в 1905 году.
См. также
- Космическая одиссея 2001 года
Примечания
- ↑ 1 2 3 Статья «Nietzsche» в Британской энциклопедии.
- ↑ Ronald S. Beiner. Civil Religion: A Dialogue in the History of Political Philosophy. Cambridge University Press, 2010. Page 383.
- ↑ William J. Astore, Dennis E. Showalter. Hindenburg: Icon of German Militarism. Brassey’s, 2005. ISBN 9781574886542. Page 99.
- ↑ Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ. — Библиотека-Алия. 1988. ISBN 965-320-019-4. — C. 47 — 48. Пер. с польского Ю. Зимана.
Ссылки
- Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра в библиотеке Максима Мошкова
|
Произведения Фридриха Ницше |
|---|
|
Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | Несвоевременные размышления | Человеческое, слишком человеческое | |
00:00 / 33:48
01.Так говорил Заратустра
38:04
02.Так говорил Заратустра
28:08
03.Так говорил Заратустра
28:32
04.Так говорил Заратустра
27:10
05.Так говорил Заратустра
24:43
06.Так говорил Заратустра
26:51
07.Так говорил Заратустра
25:08
08.Так говорил Заратустра
23:45
09.Так говорил Заратустра
36:15
10.Так говорил Заратустра
41:56
11.Так говорил Заратустра
33:51
12.Так говорил Заратустра
29:12
13.Так говорил Заратустра
50:37
14.Так говорил Заратустра
34:23
15.Так говорил Заратустра
27:46
16.Так говорил Заратустра
41:24
17.Так говорил Заратустра
41:59
18.Так говорил Заратустра
43:20
19.Так говорил Заратустра
40:21
20.Так говорил Заратустра
- Описание
- Обсуждения 2
- Цитаты 11
- Рецензии 1
- Коллекции
«Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» — философский роман Фридриха Ницше, работа, которую он сам считал наиболее важной из всего им написанного. Его рассказ о странствующем Заратустре оказал огромное влияние на всю европейскую культуру. Здесь излагаются основные положения и философские взгляды писателя, в том числе и учение о «сверхчеловеке», которое затем было извращено нацистской пропагандой. Здесь же Ницше произнес свою знаменитую фразу: « Бог умер!».
Ницше мастерски использует страстный квази-библейский стиль изложения, вдохновляющий читателя на преодоление традиционных норм морали. Этот провокационный труд продолжает будоражить молодые умы и в наше время.
(с) MrsGonzo для LibreBook
Уметь спать – не пустяшное дело: чтобы хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня.
Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели.
Качества мужа здесь редки; поэтому их женщины становятся мужчинами. Ибо только тот, кто достаточно мужчина, освободит в женщине – женщину.
Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя; и когда вы склонили его хорошо думать о вас, сами вы хорошо думаете о себе.
Церковь — это род государства, притом — самый лживый (Kirche — antwortete ich, das ist eine Art von Staat, und zwar die verlogenste).
добавить цитату
Все цитаты из книги Так говорил Заратустра
Иллюстрации
Произведение Так говорил Заратустра полностью
- Похожее
-
Рекомендации
-
Ваши комменты
- Еще от автора
Сборник
«Лик вечерней луны». Хайку
философский
японская поэзия
Великий японский поэт Мацуо Басё справедливо считается создателем популярного ныне на весь мир поэтического жанра хайку. Его усилиями трехстишия из чисто игровой, полушуточной поэзии постепенно превратились в высокое поэтическое искусство, проникнутое духом дзен-буддийской философии. В настоящем издании, помимо многочисленных стихотворений, представлена так называемая «проза-хайбун», неповторимый сплав поэзии и прозы, яркий пример соединения двух культурных традиций — китайской и японской.
1830. Маия. 16 число
1
философский
драма
сентиментальный
религия
Юный М.Ю. Лермонтов активно увлекался творчеством французских романтиков, поэтому его ранние стихотворения похожи на лирические исповеди или записи из личного дневника. Молодой поэт искусно играет абсолютно разными мотивами: от общественно-политических до философских и интимных. Стихотворение «1830. Майя. 16 число» является образцом ранней лирики М.Ю. Лермонтова. Основу сюжета составляет тема смерти, в контексте которой поэт развивает и усиливает мотивы поэтического творчества, судьбы Родины и предназначения человека. Главный герой лирично размышляет о смерти, о судьбе певца, о разрушениях на земле родной, и все эти раздумья в произведении плавно гармонично переплетаются, перетекая из одного…
Сборник
1Q84 Книга 2. Июль-сентябрь.
антиутопия
мистика
детектив
философский
драма
религия
любовь
Роман «1Q84» — международный литературный бестселлер, десятки миллионов копий которого разошлись по всему миру. Это сложное, подчас сюрреалистическое, повествование, в котором смещаются представления о времени и пространстве, где перекликаются повествования двух героев, мужчины и женщины, которые ищут друг друга. Мураками, подобно волшебнику, перескажет вам сон, но сделает это так, что вы почувствуете, что этот сон снится вам лично. Молодая женщина Аоамэ, оказавшись в параллельной реальности 1Q84 года, живет на конспиративной квартире, где готовится к главной миссии, ради которой она здесь находится, и надеется на саму желанную встречу в своей жизни. (с) MrsGonzo для LibreBook
21 урок для XXI века
6
научно-популярный
философский
«21 урок для XXI века» – это двадцать одна глава о проблемах сегодняшнего дня, касающихся всех и каждого. Технологии возникают быстрее, чем мы успеваем в них разобраться. Хакерство становится оружием, а мир разделен сильнее, чем когда-либо. Как вести себя среди огромного количества ежедневных дезориентирующих изменений? Профессор Харари, опираясь на идеи своих предыдущих книг, старается распутать для нас клубок из политических, технологических, социальных и экзистенциальных проблем. Он предлагает мудрые и оригинальные способы подготовиться к будущему, столь отличному от мира, в котором мы сейчас живем. Как сохранить свободу выбора в эпоху Большого Брата? Как бороться с угрозой терроризма? Чему…
22:04
10:04
психологический
ирония
реализм
философский
драма
любовь
Начинающий писатель, чей первый роман вызвал восторженные отзывы критиков, но мало радовал продажами, получил шестизначный аванс на новый роман, при условии, что он постарается больше угодить читателям, чем профессионалам. Практически вместе с этим радостным событием, он узнает, что страдает тяжелым наследственным заболеванием, которое может привести к смертельному исходу в течение года. Как сговорившись, его лучшая подруга решила родить от него ребенка, воспользовавшись услугами экстракорпоральных технологий. В Нью-Йорке, с его частыми ураганами и социальными волнениями, он должен просчитать свою возможную смерть и перспективы отцовства в городе, который вот-вот зальет водой. (с) MrsGonzo для…
2312
психологический
научная фантастика
социальный
фантастика
приключения
философский
любовь
политика
Научные достижения и новые технологии открыли для будущего всего человечества самые невероятные перспективы. Земля перестала быть для него единственным домом. Новые места обитания охватили всю солнечную систему: планеты, спутники и даже астероиды между ними. Каждое – чудо инженерной техники, некоторые – Настоящее произведение искусства. Но в этом, 2312 году, роковая последовательность событий заставит человечество отстаивать свое прошлое, настоящее и будущее. Первое из этих событий происходит на Меркурии, в городе Терминатор, инженерном чуде беспрецедентного масштаба. Неожиданная смерть той, которая обладала способностью предвидеть. Для Суон Эр Хун ее смерть изменит всю жизнь. Всю свою жизнь…
451 градус по Фаренгейту
2
Fahrenheit 451
психологический
социальный
антиутопия
фантастика
философский
Всемирно известный роман Рэя Брэдбери “451 градус по Фаренгейту” — литературный шедевр двадцатого века, мрачный роман о мрачном будущем, ужасающе пророческий в своих предостережениях. Гай Монтэг — пожарный. Но его работа никак не связанна с тушением пожаров. Напротив, он их воспламеняет. Вместе со своим подразделением он сжигает книги, этот источник всех распрей и несчастий, а заодно с книгами сжигает и дома тех, кто осмеливается хранить их у себя, вопреки тотальному запрету правительства. [сами дома из несгораемого материала] Но единственный разговор со странной девушкой Клариссой что-то кардинально меняет в сознании и душе пожарника. Мощная поэтическая проза Брэдбери в сочетании с невероятной…
Сборник
9 глав о кино и т.д…
автобиографический
философский
Настоящее издание в своем роде обобщение режиссерской практики Андрея Кончаловского, описание мастером его художественного метода. Естественно, с примерами работы над конкретными фильмами, драматическими и оперными спектаклями, а помимо того – и с размышлениями о месте и роли киноискусства (как и искусства вообще) в контексте времени. Сборник включает материалы устных выступлений и публикаций режиссера, примерно с середины 1970-х годов вплоть до текущего времени. Сюда относятся лекции Кончаловского для слушателей Высших сценарных и режиссерских курсов, мастер-классы, иные публичные выступления. В сборник входят также материалы интервью, отдельные статьи, фрагменты эссе, главы из мемуарных книг…
Сборник
95 тезисов
1
95 theses
философский
религия
Книга, предлагаемая читателям, должна способствовать лучшему пониманию учения Мартина Лютера (1483-1546) и Реформации, нежели это наблюдается до сих пор в отечественном образовании и науке. Состав и последовательность работ Лютера, вошедших в настоящий сборник, были обусловлены, прежде всего, их несомненной важностью для выяснения цели и движущих сил реформации средневековой Церкви. Однако, как показывает опыт Германии, знакомство с произведениями немецкого реформатора — условие необходимое, но еще недостаточное для выяснения исторического и культурного значения Реформации. Для этого, очевидно, требуется знакомство с учениями, возникшими позже на ее почве. Отобранные для этой цели произведения…
Сборник
Cantos
философский
Двуязычное собрание «Стихотворений и избранных Cantos» Эзры Паунда, в которое вошли все лирические стихотворения, поэмы и переложения Паунда, а также более 25 Cantos, — издание уникальное. Эзра Паунд был одним из влиятельнейших поэтов и критиков XX века. Однако его творчество еще не известно русскоязычному читателю. В силу ряда исторических, идеологических и политических причин до сих пор стихи основоположника американского и европейского модернизма публиковались на русском языке лишь в антологиях и в периодических изданиях, за исключением одной маленькой книги стихотворений, уже давно ставшей библиографической редкостью. В данное собрание отобраны все лучшие переводы из числа опубликованных,…
Contione — встреча
психологический
философский
драма
сентиментальный
женская проза
Мы все зависим от случайностей. И трудно поверить в то, что именно она, случайность, неуверенной рукой рисует траекторию моей жизни. Я не хотел признаваться в этом даже себе. Я не хотел признавать себя пораженным и отдавать победу ей, но, теперь, когда я узнал, что она вольна повелевать нами и играть в злые или добрые игры в зависимости от своего настроения, теперь я хочу предостеречь всех от глупой, поверхностной самоуверенности и самонадеянного счастья, такого неверного и обманчивого.
Ecce Homo. Как становятся сами собою
147
Ecce homo: Wie man wird, was man ist
философский
Ecce Homo. Как становятся сами собою (нем. «Ecce homo: Wie man wird, was man ist») — набор разрозненных заметок, отрывков, написанных Ф.Ницше, по его словам, в период с 15 октября по 14 ноября 1888 года.
Generation «П»
6
контркультура
сатира
социальный
философский
драма
Этот роман успел стать культовым для поколения 1990-х, чья жизнь пришлась на самые тяжелые переломные моменты новой России. Пестрая картина русской жизни во всей своей абсурдности, вечные русские вопросы, мучительный поиск путей и смыслов. Новые русские и обычные советские люди, братки и руководители высшего звена, люмпены и идейные – все перемешались, во времена, когда их еще не разделяли высокие заборы и видеокамеры. Гуманитарий и литератор Вавилен Татарский, в этом качестве новому времени не нужен. В мучительных поисках своего места, он поступает на службу в рекламное агентство. Обнаруженный талант сочинять рекламные слоганы обеспечил Татарскому головокружительную карьеру. (с) MrsGonzo для…
Homo Фабер
1
Homo faber
философский
Швейцарский писатель Макс Фриш — одна из крупнейших фигур европейской литературы второй половины XX века. Его романы «Штиллер», «Homo Фабер», «Назову себя Гантенбайн», «Монток», пьесы «Санта Крус», «Дон Жуан, или любовь к геометрии», «Бидерман и поджигатели», «Биография» хорошо известны во всем мире. Однако путь Фриша к славе был достаточно долгим. Архитектор по профессии, он лишь в начале 50-х решился полностью посвятить себя литературе. Признание пришло к нему сначала за границей и только потом на родине. В спокойной и благополучной Швейцарии он чувствовал себя бунтарем и борцом. Он был горд своей принадлежностью к клану «обличителей». Роман «Homo Фабер» написанный Фришем в 1957 году, относится…
Антихристианин. Проклятие христианству.
исторический
реализм
психологический
философский
религия
Книга немецкого философа Фридриха Ницше поднимает проблемы сущности христианства. Впервые была опубликованная в 1895 году. Книга написана в 1888 году, но её скандальное содержание заставило Франца Овербека и Генриха Кёзелитца отложить её публикацию. Так же как и публикацию написанной в том же году «Ecce Homo». В книге поднимаются более широкие понятия власти и веры. Описывается состояние человека, как личности, находящегося в страхе и полной зависимости от жреца, в роли которого предстаёт теолог, священник или тот же Бог. Книга рассказывает, что есть вера, кому и зачем она понадобилась, какое значение она имеет для народа и как вера губит людей. Искалеченная вера, вера слабых и сломленных отродьев,…
2
Антология черного юмора
юмор
сатира
Книга посвящена черному юмору — понятию, во многом сформировавшему современную эстетику, вошедшему и в строгий язык научных работ, и в жаргон популярной культуры. Эта книга является авторской работой лидера сюрреалистов Андре Бретона, но состоит она из «чужих» произведений». В книгу вошли произведения следующих авторов: Джонатан Свифт, Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад, Георг Кристоф Лихтенберг, Шарль Фурье, Томас де Квинси, Пьер Франсуа Ласенер, Кристиан Дитрих Граббе, Петрюс Борель, Эдгар По, Ксавье Форнере, Шарль Бодлер, Льюис Кэрролл, Вилье де Лиль-Адан, Шарль Кро, Фридрих Ницше, Изидор Дюкасс — граф де Лотреамон, Жорис-Карл Гюисманс, Тристан Корбьер, Жермен Нуво, Артюр Рембо, Альфонс Алле,…
49
[23]
«Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд, и наконец ребенком становится лев.
Много трудного существует для духа, для духа сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию: ко всему тяжелому и самому трудному стремится сила его.
Что есть тяжесть? так вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд, на колени и хочет, чтоб хорошенько навьючили его.
Что есть самое трудное? так вопрошает выносливый дух; скажите, герои, чтобы взял я это на себя и радовался силе своей.
Не значит ли это: унизиться, чтобы заставить страдать свое высокомерие? Заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость?
Или это значит: бежать от нашего дела, когда оно празднует свою победу? Подняться на высокие горы, чтобы искусить искусителя?
Или это значит: питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть голод души? [24]
Или это значит: больным быть и отослать утешителей, и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь?
Или это значит: опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб?
Или это значит: тех любить, кто нас презирает, и простирать руку привидению, когда оно хочет пугать нас?
Все самое трудное берет на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.
Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение: здесь львом становится дух, свободу хочет он себе завоевать и господином быть в своей собственной пустыне.
Своего последнего господина ищет он здесь: врагом хочет он стать ему и своему последнему богу, из-за победы он хочет бороться с великим драконом.
Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? «Ты должен» называется великий дракон. Но дух льва говорит «я хочу».
Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, и на каждой чешуе его блестит, как золото, «ты должен!»
Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из всех драконов: «ценности всех вещей — блестят на мне».
«Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность — это я. Поистине, «я хочу» не должно более существовать!» Так говорит дракон. [25]
Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему не удовлетворяет подъяремный зверь, воздержный и почтительный?
Создавать новые ценности — этого не может еще лев: но создать себе свободу для нового созидания — это может достичь сила льва.
Завоевать себе свободу и священное «нет» даже перед долгом: для этого, братья мои, нужно стать львом.
Завоевать себе право для новых ценностей — это самое страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине, оно кажется ему грабежом и делом хищного зверя.
Как свою святыню, любил он когда-то «ты должен»: теперь ему надо видеть даже в этой святыне произвол и мечту, чтобы завоевать себе свободу от любви своей: нужно стать львом для этой победы.
Но скажите, братья мои, что может сделать ребенок, чего не мог бы даже лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком?
Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения.
Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: своей воли хочет теперь дух, свой мир находит отрешившийся от него.
Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд, и наконец лев ребенком».
Так говорил Заратустра. В тот раз остановился он в городе, названном: Пестрая корова.
[26]
Заратустре хвалили одного мудреца, который умел хорошо говорить о сне и о добродетели: за это его высоко чтили и награждали, и все юноши садились перед кафедрой его. К нему пошел Заратустра, и вместе со всеми юношами сел перед кафедрой его. И так говорил мудрец:
«Честь и стыд перед сном! Это первое! И избегайте встречи с теми, кто плохо спит и бодрствует ночью!
Стыдлив и вор в присутствии сна: потихоньку крадется он в ночи. Но нет стыда у ночного сторожа, не стыдясь трубит он в свой рог.
Уметь спать — не пустячное дело: чтоб хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня.
Десять раз должен ты днем преодолеть самого себя: это даст хорошую усталость, это мак души.
Десять раз должен ты мириться с самим собою; ибо преодоление есть обида, и дурно спит непомирившийся.
Десять истин должен найти ты в течение дня: иначе ты будешь и ночью искать истины, и твоя душа останется голодной.
Десять раз должен ты смеяться в течение дня и быть веселым: иначе будет тебя ночью беспокоить желудок, этот отец скорби.
Немногие знают это; но надо обладать всеми добродетелями, чтоб спать хорошо. Не дал ли я ложного свидетельства? Не нарушил ли я супружеской верности? [27]
Не позволил ли я себе пожелать рабыни ближнего моего? Все это мешало бы хорошему сну.
И даже при существовании всех добродетелей надо еще понимать одно: уметь вовремя послать спать все добродетели.
Чтоб не ссорились между собой эти милые женщины! И из-за тебя также, несчастный!
Живи в мире с богом и соседом: этого требует хороший сон. И живи также в мире с соседским чертом! Иначе ночью он будет посещать тебя.
Чти начальство и повинуйся ему, даже хромому начальству! Этого требует хороший сон. Разве моя вина, если начальство любит ходить на хромых ногах?
Тот, по-моему, лучший пастух, кто пасет свои овцы на тучных лугах: этого требует хороший сон.
Я не хочу ни больших почестей, ни больших сокровищ: то и другое раздражает селезенку. Однако дурно спится без доброго имени и малых сокровищ.
Маленькое общество для меня предпочтительнее, чем злое: но и оно должно приходить и уходить вовремя. Этого требует хороший сон.
Мне также очень нравятся нищие духом: они способствуют сну. Блаженны они, особенно если всегда воздают им должное.
Так проходит день у добродетельного. Но когда наступает ночь, я остерегаюсь, конечно, призывать сон! Он не хочет, чтобы его призывали, — его, который есть господин всех добродетелей!
Но я размышляю, что я сделал и о чем я думал в течение дня. Пережевывая, спрашиваю я себя, [28]терпеливо, как корова: каковы однако были твои десять преодолений?
И каковы были те десять примирений, десять истин и десять случаев смеха, которыми мое сердце радовало себя?
При таком обсуждении и взвешивании сорока мыслей, нападает на меня сразу сон, незваный, господин всех добродетелей.
Сон ударяет мне по глазам: и они тяжелеют. Сон касается уст моих, и они остаются отверстыми.
Поистине, тихими шагами приходит он ко мне, лучший из воров, и похищает у меня мои мысли: глупым стою я тогда, как эта кафедра.
Но недолго стою я в таком положении: затем я уже лежу».
Слушая эти речи мудреца, Заратустра смеялся в сердце своем: ибо свет низошел на него. И так говорил он в сердце своем:
«Безумцем кажется мне этот мудрец со своими сорока мыслями; но я верю, что хорошо ему спится.
Счастлив уже и тот, кто живет вблизи этого мудреца! Такой сон заразителен; даже сквозь толстую стену заразителен он.
Сами чары живут в его кафедре. И не напрасно сидели юноши перед проповедником добродетели.
Его мудрость гласит: так бодрствовать, чтобы сон был спокойный. И поистине, если б жизнь не имела смысла, и я должен был бы выбрать бессмыслицу, то эта бессмыслица казалась бы мне наиболее достойной избрания.
Теперь я понимаю ясно, чего некогда искали прежде всего, когда искали учителей добродетели. [29]
Хорошего сна искали себе и увенчанной маками добродетели!
Для всех этих прославленных мудрецов кафедры мудрость была сном без сновидений: они не знали лучшего смысла жизни.
И теперь еще встречаются люди, похожие на этого проповедника добродетели, не всегда однако такие же честные: но их время прошло. И недолго стоять им, как уже будут они лежать.
Блаженны сонливые: ибо скоро заснут они».
Так говорил Заратустра.
«Однажды Заратустра направил мечту свою по ту сторону человека, подобно всем мечтающим о другом мире. Актом страдающего и измученного бога показался тогда мне мир.
Сном показался тогда мне мир, и поэтическим творением бога: разноцветным дымом пред очами недовольного бога.
Добро и зло, и радость и страдание, и я и ты — все показалось мне разноцветным дымом пред очами творца. Отвратить взор свой от себя захотел творец, — и тогда создал он мир.
Опьяняющей радостью служит для страдающего — отвратить взор от страдания своего и забыться. Опьяняющей радостью и самозабвением казался мне некогда мир. [30]
Этот мир, вечно несовершенный, отражение вечного противоречия и несовершенный образ — опьяняющая радость для его несовершенного творца: — таким казался мне некогда мир.
Итак, однажды направил я свою мечту по ту сторону человека, подобно всем мечтающим о другом мире. Правда ли, по ту сторону человека?
Ах, братья мои, этот бог, которого я создал, был человеческим творением и человеческим безумием, подобно всем богам!
Человеком был он, и притом лишь бедной частью человека и моего я: из моего собственного праха и пламени пришел он, этот призрак! И поистине, не пришел он ко мне из другого мира!
Что же случилось, братья мои? Я преодолел себя, страдающего, я отнес свой собственный прах на гору, более светлое пламя обрел я себе. И вот! Призрак удалился от меня!
Теперь это было бы для меня страданием и мукой для выздоровевшего — верить в подобные призраки: теперь это было бы для меня страданием и унижением. Так говорю я к мечтающим о другом мире.
Страданием и бессилием созданы все другие миры, и тем коротким безумием счастья, которое испытывает только страдающий больше всех.
Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти достигнуть конца, бедная усталость неведения, не желающая больше хотеть: ею созданы все боги и другие миры.
Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в теле, — ощупывало пальцами обманутого духа последние стены. [31]
Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в земле, слышало, как говорили недра бытия.
И тогда захотело оно пробиться головою сквозь последние стены, и не только головою, — и перейти в „другой мир“.
Но „другой мир“ вполне сокрыт от человека, этот обесчеловеченный нечеловеческий мир, составляющий небесное ничто; и недра бытия не говорят к человеку иначе, как в лице человека.
Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его говорить. Скажите мне, братья мои, разве самые дивные вещи не доказаны еще самым лучшим образом?
Да, это я, и противоречие и сложность я говорят самым верным образом о своем бытии, это созидающее, хотящее и оценивающее я, которое есть мера и ценность вещей.
И это самое верное бытие, я — говорит о теле и стремится к телу, даже когда оно творит и предается мечтам и бьется разбитыми крыльями.
Все вернее научается оно говорить, это я: и чем больше оно научается, тем больше находит оно слов, чтоб хвалить тело и землю.
Новой гордости научило меня мое я, которой учу я людей: не прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо держать ее, земную голову, которая создает смысл земли!
Новой воле учу я людей: идти той дорогой, которой слепо шел человек, и хвалить ее и не уклоняться от нее больше в сторону, подобно больным и умирающим!
Больными и умирающими были те, кто презирали тело и землю и изобрели небо и искупительные капли [32]крови: но даже и эти сладкие и мрачные яды брали они у тела и земли!
Своей нищеты хотели они избежать, а звезды были для них слишком далеки. Тогда вздыхали они: „О, если б существовали небесные пути, чтобы прокрасться в другое бытие и счастье!“ — тогда изобрели они свою выдумку и кровавое питье!
Эти неблагодарные — они мечтали, что отреклись от своего тела и от этой земли. Но кому же обязаны они судорогами и блаженством своего отречения? Своему телу и этой земле.
Снисходителен Заратустра к больным. Поистине, он не сердится на их способы утешения и на их неблагодарность. Пусть будут они выздоравливающими и преодолевающими, и пусть создадут себе высшее тело!
Не сердится Заратустра и на выздоравливающего, когда он с нежностью взирает на свою мечту и в полночь крадется к могиле своего бога: но болезнью и больным телом остаются для меня его слезы.
Много больного народу встречалось всегда среди тех, кто предается мечтам и томится по боге: яростно ненавидят они познающего и ту самую младшую из добродетелей, которая зовется: правдивость.
Они смотрят всегда назад, в темные времена: тогда, поистине, мечта и вера были другими вещами; неистовство разума было богоподобием, и сомнение грехом.
Слишком хорошо знаю я этих богоподобных: они хотят, чтоб в них верили, и чтоб сомнение было грехом. Слишком хорошо знаю я также, во что сами они верят больше всего. [33]
Поистине, не в другие миры и искупительные капли крови: но в тело больше всего верят они, и на свое собственное тело смотрят они, как на вещь в себе.
Но болезненной вещью является оно для них: и они охотно ушли бы из кожи. Поэтому они прислушиваются к проповедникам смерти и сами проповедуют другие миры.
Лучше слушайтесь, братья мои, голоса здорового тела: это — более правдивый и чистый голос.
Более правдиво и чище говорит здоровое тело, совершенное и с прямыми углами: и оно говорит о смысле земли».
Так говорил Заратустра.
«К презирающим тело хочу я сказать мое слово. Не переучиваться и переучивать должны они, но только проститься со своим собственным телом — и таким образом стать немыми.
«Я тело и душа» — так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети?
Но пробудившийся, знающий говорит: я — тело, только тело, и ничто больше; а душа есть только слово для обозначения чего-то в теле.
Тело — это большой разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и пастырь.
Орудием твоего тела является также твой маленький разум, брат мой; ты называешь „духом“ это [34]маленькое орудие, эту игрушку твоего большого разума.
«Я» говоришь ты и гордишься этим словом. Но больше его — во что не хочешь ты верить — тело твое с его большим разумом: оно не говорит «я», но делает его.
Что чувствует чувство и что познает ум — никогда не имеет в себе своей цели. Но чувство и ум хотели бы убедить тебя, что они цель всех вещей: так тщеславны они.
Орудием и игрушкой являются чувство и ум: за ними лежит еще Само. Само ищет также глазами чувств, оно прислушивается также ушами духа.
Само всегда прислушивается и ищет: оно сравнивает, подчиняет, завоевывает, разрушает. Оно господствует и является даже господином над «я».
За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец, — он называется Само. В твоем теле он живет, он и есть твое тело.
Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, к чему нужна твоему телу твоя высшая мудрость?
Твое Само смеется над твоим «я» и его гордыми скачками. «Что мне эти скачки и полеты мысли? говорит оно себе. Окольный путь к моей цели. Я служу помочами для «я» и внушителем его понятий».
Само говорит к я: «здесь ощущай боль!» И вот оно страдает и думает о том, как бы больше не страдать — для этого именно должно оно думать.
Само говорит к я: «здесь чувствуй радость!» И вот оно радуется и думает о том, как бы [35]почаще радоваться — и для этого именно должно оно думать.
К презирающим тело хочу я сказать слово. То, что презирают они, составляет предмет их любви. Что же создало любовь и презрение, и ценность и волю?
Созидающее Само создало себе любовь и презрение, оно создало себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух, как орудие своей воли.
Даже в своем безумии и презрении, вы, презирающее тело, вы служите своему Само. Я говорю вам: ваше Само хочет умереть и отворачивается от жизни.
Оно уже не в силах делать то, чего оно хочет больше всего: — созидать дальше себя. Этого хочет оно больше всего, в этом все страстное желание его.
Но теперь это стало для него слишком поздно: — и вот ваше Само хочет погибнуть, вы, презирающие тело.
Ваше Само хочет погибнуть, и потому вы стали презирающими тело! Ибо вы уже больше не в силах созидать дальше себя.
И потому вы негодуете на жизнь и землю. Бессознательная зависть светится в косом взгляде вашего презрения.
Я не следую вашим путем, вы, презирающие тело! Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку!»
Так говорил Заратустра.
[36]
«Брат мой, если есть у тебя добродетель, и она твоя добродетель, то ты не владеешь ею сообща с другими.
Конечно, ты хочешь называть ее по имени и ласкать ее: ты хочешь подергать ее за ушко и позабавиться с нею.
И смотри! Теперь ты обладаешь ее именем сообща с народом, и сам ты с твоей добродетелью стал народом и стадом!
Лучше было бы тебе сказать: «нет слов, нет названия тому, что составляет муку и сладость моей души, а также мой внутренний голод».
Пусть твоя добродетель будет слишком высока, чтоб доверить ее имени: и если ты должен говорить о ней, то не стыдись говорить о ней шепотом.
Говори шепотом: «это мое добро, каким я люблю его, каким оно всецело мне нравится, и лишь таким я хочу его.
Не потому я хочу его, чтобы было оно божественным законом, и не потому я хочу его, чтобы было оно человеческим установлением и человеческой необходимостью: оно не служит мне указателем на небо или в рай.
Только земную добродетель люблю я: в ней мало мудрости, и всего меньше разума всех людей.
Но эта птица свила у меня гнездо себе: поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу: — теперь на золотых яйцах она сидит у меня». [37]
Так должен ты говорить шепотом и хвалить свою добродетель.
Некогда были у тебя страсти, и ты называл их злыми. А теперь у тебя только твои добродетели: они выросли из твоих страстей.
Ты положил свою высшую цель в эти страсти: и вот они стали твоей добродетелью и твоей радостью.
И если б ты был из рода вспыльчивых, или из рода сластолюбцев, или изуверов, или людей мстительных:
Все-таки в конце концов все твои страсти обратились бы в добродетели и все твои демоны в ангелов.
Некогда были дикие псы в твоих недрах: но в конце концов обратились они в птиц и прелестных певуний.
Из своих ядов приготовил ты себе бальзам свой; ты доил корову — скорбь свою, — теперь ты пьешь сладкое молоко ее вымени.
И впредь ничего злого не вырастает из тебя, кроме зла, которое вырастает из борьбы твоих добродетелей.
Брат мой, если ты счастлив, то у тебя одна добродетель и не более: — тогда легче проходишь ты по мосту.
Почтенно иметь много добродетелей, но это тяжелый рок: многие шли в пустыню и убивали себя, ибо они уставали быть битвой и полем сражения добродетелей.
Брат мой, зло ли война и битвы? Однако, это зло необходимо, необходимы и зависть, и недоверие, и клевета между твоими добродетелями. [38]
Посмотри, как каждая из твоих добродетелей жаждет высшего: она хочет всего твоего духа, чтоб был он ее вестником, она хочет всей твоей силы в гневе, ненависти и любви.
Ревнива каждая добродетель в отношении другой, а ревность ужасная вещь. Даже добродетель может погибнуть из-за ревности.
Кого окружает пламя ревности, тот обращает, наконец, подобно скорпиону, отравленное жало на самого себя.
Ах, брат мой, разве ты никогда еще не видел, как добродетель клевещет на себя и закалывает самое себя?
Человек есть нечто, что должно превзойти: и потому ты должен любить свои добродетели; — ибо от них ты погибнешь».
Так говорил Заратустра.
«Вы не хотите убивать, вы, судья и жертвоприносители, пока животное не наклонит головы? Взгляните, бледный преступник склонил голову, из его глаз говорит великое презрение.
«Мое я есть нечто, что должно превзойти: мое я служит для меня великим презрением к человеку»: так говорят глаза его.
То, что он сам осудил себя, было его высшим мгновением: не допускайте, чтобы тот, кто возвысился, опять опустился в свою пропасть! [39]
Нет спасения для того, кто так страдает от себя самого, — кроме быстрой смерти.
Ваше убийство, судьи, должно быть жалостью, а не мщением. И убивая, блюдите, чтобы сами вы оправдывали жизнь!
Недостаточно примириться с тем, кого вы убиваете. Ваша печаль да будет любовью к сверхчеловеку: так оправдываете вы продление своей жизни!
«Враг» должны вы говорить, а не «злодей»; «больной» должны вы говорить, а не «негодяй»; «сумасшедший» должны вы говорить, а не «грешник».
И ты, красный судья, если б ты громко сказал все, что ты совершил уже в мыслях, каждый закричал бы: «Прочь эту грязь и этого ядовитого червя!»
Но одно — мысль, другое — дело, третье — образ дела. Между ними не вращается колесо причинности. Образ сделал этого бледного человека бледным. На высоте своего дела был он, когда он совершал его: но он не вынес его образа, когда оно совершилось.
Всегда смотрел он на себя, как на совершившего одно только дело. Безумием называю я это: исключение превратилось в существо его.
Черта околдовывает курицу[ВТ 1]; удар, который он нанес, околдовывает его бедный разум — безумием после дела называю я это.
Слушайте, вы, судьи! Другое безумие существует еще: это безумие перед делом. Ах, вы проникли недостаточно глубоко в эту душу!
Так говорит красный судья: «но ради чего убил этот преступник? Он хотел ограбить». [40]
Но я говорю вам: душа его хотела крови, а не грабежа: он жаждал счастья ножа!
Но его бедный разум не понял этого безумия и убедил его. «Что за важность — кровь! говорил он; не хочешь ли ты, теперь по крайней мере, совершить при этом грабеж? Отмстить?»
И он послушался своего бедного разума: как свинец, легла на него его речь, — и вот, убивая, он ограбил. Он не хотел стыдиться своего безумия.
И теперь опять свинец его вины лежит на нем, и опять его бедный разум стал таким тупым, таким расслабленным, таким тяжелым.
Если б только он мог тряхнуть головою, его бремя скатилось бы вниз: но кто тряхнет эту голову?
Что такое этот человек? Куча болезней, чрез дух проникающих в мир: там ищут они своей добычи.
Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны, — и вот они расползаются и ищут добычи в мире.
Взгляните на это бедное тело! Что оно выстрадало и чего страстно желало, это пыталась объяснить себе эта бедная душа, — она объяснила это, как радость убийства и зависть к счастью ножа.
Кто теперь становится больным, на того нападает зло, которое теперь считается злом: страдание хочет он причинять тем самым, что ему причиняет страдание. Но были другие времена, и другое зло и добро.
Некогда были злом сомнение и воля к самому себе. Тогда становился больной еретиком и колдуном: как еретик и колдун, страдал он и хотел заставить страдать других. [41]
Но это не вмещается в ваши уши: это вредит вашим добрым, говорите вы мне. Но что мне за дело до ваших добрых!
Многое в ваших добрых вызывает во мне отвращение, и, поистине, не их зло. Я хотел бы, чтоб безумие охватило их, от которого они бы погибли, как этот бледный преступник!
Поистине, я хотел бы, чтоб их безумие называлось истиной, или верностью, или справедливостью: но у них есть своя добродетель, чтоб долго жить в жалком довольстве собою.
Я — перила моста на стремительном потоке: держись за меня, кто может за меня держаться. Но вашим костылем не служу я».
Так говорил Заратустра.
«Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух.
Нелегко понять чужую кровь: я ненавижу читающих из праздности.
Кто знает читателя, тот ничего не делает для читателя. Еще одно столетие читателей — и дух сам будет дурно пахнуть.
То, что каждый имеет право учиться читать, портит надолго не только писание, но и мысль.
Некогда дух был богом, потом стал человеком, а ныне становится он даже толпою. [42]
Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтоб его не читали, а заучивали наизусть.
В горах кратчайший путь — с вершины на вершину: но для этого надо иметь длинные ноги. Притчи должны быть вершинами: и те, к кому говорят они, — большими и сильными.
Воздух разреженный и чистый, опасность близкая и дух полный радостной злобы: все это хорошо идет одно к другому.
Я хочу, чтоб кругом меня были горные духи, ибо мужествен я. Мужество гонит призраки, само создает себе горных духов, — мужество хочет смеяться.
Я не чувствую более общения с вами: эта туча, что я вижу под собой, эта чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь, — такова ваша грозовая туча.
Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь подняться. А я смотрю вниз, ибо я поднялся.
Кто из вас может одновременно смеяться и быть высоко?
Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни.
Беззаботными, насмешливыми, сильными, — такими хочет видеть нас мудрость: она женщина и любит всегда только воина.
Вы говорите мне: «жизнь тяжело нести». Но к чему была бы вам ваша гордость поутру и ваша покорность вечером?
Жизнь тяжело нести: но не притворяйтесь же такими нежными! Мы все прекрасные подъяремные ослы и ослицы.
Что у нас общего с розовой почкой, которая дрожит, ибо капля росы лежит у нее на теле? [43]
Правда: мы любим жизнь, но не потому что к жизни, а потому что к любви мы привыкли.
В любви всегда есть немного безумия. Но и в безумии всегда есть немного разума.
И даже мне, расположенному к жизни, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри и те, кто похож на них среди людей, больше всех знают о счастье.
Смотреть, как порхают эти легкие, неразумный, красивые, подвижные маленькие души — это доводит Заратустру до слез и песен.
Я бы поверил только в такого бога, который умел бы танцевать.
И когда я видел своего демона, я находил его серьезным, тяжелым, глубоким и торжественным: это был дух тяжести, — благодаря ему все вещи падают на землю.
Убивают не гневом, а смехом. Вставайте, помогите нам убить дух тяжести!
Я научился ходить: с тех пор я позволяю себе бегать, Я научился летать: с тех пор я не жду толчка, чтоб двинуться с места.
Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собой, теперь бог танцует во мне».
Так говорил Заратустра.
Заратустра заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда шел он один по горам, окружавшим город, названный «Пестрая [44]корова», он встретил этого юношу, сидевшим на земле, у дерева, и смотревшим усталым взором в долину. Заратустра дотронулся до дерева, у которого сидел юноша, и говорил так:
«Если б я захотел потрясти это дерево своими руками, я бы не мог этого сделать.
Но ветер, невидимый нами, терзает и гнет его, куда он хочет. Невидимые руки еще больше гнут и терзают нас».
Тогда юноша встал в смущении и сказал: «Я слышу Заратустру, я только что думал о нём». Заратустра отвечал:
«Чего же ты пугаешься? — С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже простираются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, — к злу».
«Да, к злу! воскликнул юноша. Как же возможно, что ты открыл мою душу?»
Заратустра засмеялся и сказал: «Есть души, которых никогда не откроют, разве что сперва выдумают их».
«Да, к злу! воскликнул юноша еще раз.
Ты сказал истину, Заратустра. Я не верю больше в себя самого, с тех пор, как стремлюсь я вверх, и никто уже не верит в меня, — но как же случилось это?
Я меняюсь слишком быстро: мое сегодня опровергает мое вчера. Я часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь, — этого не прощает мне ни одна ступень.
Когда я наверху, я нахожу себя всегда одиноким. Никто не говорит со мною, холод одиночества [45]заставляет меня дрожать. Чего же хочу я на высоте?
Мое презрение и мое желание растут одновременно: чем выше поднимаюсь я, тем больше презираю я того, кто поднимается. Чего же хочет он на высоте?
Как стыжусь я своего восхождения и спотыкания! Как смеюсь я над своим усиленным дыханием! Как ненавижу я летающего! Как устал я на высоте!»
Тут юноша умолк. А Заратустра посмотреть на дерево, у которого они стояли, и говорил так:
«Это дерево стоить одиноко здесь на горе, оно выросло высоко над человеком и животным.
И если б оно захотело говорить, не нашлось бы никого, кто бы мог понять его: так высоко выросло оно.
Теперь ждет оно и ждет, — чего же ждет оно? Оно находится слишком близко к облакам: оно ждет, вероятно, первой молнии?»
Когда Заратустра сказал это, юноша воскликнул в сильном волнении: «Да, Заратустра, ты говоришь истину. Своей гибели желал я, стремясь в высоту, и ты — та молния, которой я ждал! Взгляни, что я такое, с тех пор, как ты явился к нам? Зависть к тебе убила меня!» — Так говорил юноша и горько плакал. А Заратустра обнял его и увел с собою.
И когда они вместе прошли немного, Заратустра начал так говорить:
«Разрывается сердце мое. Больше чем твои слова, твой взор говорит мне, об опасности, которой ты подвергаешься.
Ты еще не свободен, ты ищешь еще свободы. Бодрствующим сделало тебя твое искание и лишило тебя сна. [46]
В свободную высь стремишься ты, звезд жаждет твоя душа. Но твои дурные инстинкты также жаждут свободы.
Твои дикие псы хотят на свободу; они лают от радости в своем подземелье, пока твой дух стремится отворить все темницы.
По-моему, ты еще заключенный в тюрьме, мечтающий о свободе: ах, мудрой становится душа у таких заключенных, но также лукавой и дурной.
Очиститься должен еще освободившийся дух. В нём еще много от тюрьмы и от грязи: чистым должен еще стать его взор.
Да, я знаю твою опасность. Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя: не бросай своей любви и надежды!
Ты еще чувствуешь себя благородным, и благородным чувствуют тебя также и другие, кто не любит тебя и посылает вослед тебе злые взгляды. Знай, что у всех поперек дороги стоит благородный.
Даже для добрых стоит благородный поперек дороги; и даже когда они называют его добрым, этим хотят они устранить его с дороги.
Новое хочет создать благородный, новую добродетель. Старого хочет добрый, и чтобы старое сохранилось.
Но не в том опасность для благородного, что он станет добрым, а в том, что он станет наглым, будет насмешником и разрушителем.
Ах, я знал благородных, потерявших свою высшую надежду. И теперь клеветали они на все высшие надежды.
Теперь жили они, наглые, среди кратких удовольствий, и едва на день хватало цели у них. [47]«Дух — тоже сладострастие» — так говорили они. Тогда разбились крылья у духа их: теперь ползает он всюду и грязнит всё, что гложет.
Некогда мечтали они стать героями: теперь они сластолюбцы. Печаль и ужас для них герой.
Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя: храни героя в своей душе! Храни свято свою высшую надежду!»
Так говорил Заратустра.
«Есть проповедники смерти: и земля полна теми, кому нужно проповедовать отвращение к жизни.
Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей. О, если б можно было «вечной жизнью» сманить их из этой жизни!
«Желтые» или «черные»: так называют проповедников смерти. Но я хочу показать их вам еще и в других красках.
Вот они, ужасные, что носят в себе хищного зверя и не имеют другого выбора, кроме как вожделение, или самоумерщвление. Но и вожделение их — тоже самоумерщвление.
Они еще не стали людьми, эти ужасные: пусть же проповедуют они отвращение к жизни и сами уходят!
Вот — чахоточные душою: едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учений усталости и отречения. [48]
Они охотно желали бы быть мертвыми, и мы должны одобрить их волю! Будем же остерегаться, чтоб не воскресить этих мертвых и не повредить эти живые гробы!
Повстречается ли им больной, или старик, или труп, и тотчас говорят они: «жизнь опровергнута!»
Но только они опровергнуты и их глаза, видящие только одно лицо в существовании.
Погруженные в глубокое уныние и внимательные только к маленьким случайностям, приносящим смерть: так ждут они, стиснув зубы.
Или же: они хватаются за сласти и смеются при этом, своему ребячеству; они висят на жизни, как на соломинке, и смеются, что они еще висят на соломинке.
Их мудрость гласить: «Глупец тот, кто остается жить, и мы настолько же глупы. Это и есть самое глупое в жизни!»
«Жизнь есть только страдание» — так говорят другие и не лгут: так постарайтесь же, чтоб перестать вам существовать! Так постарайтесь же, чтоб кончилась жизнь, которая есть только страдание!
И да гласить правило вашей добродетели: «ты должен убить самого себя! Ты должен сам себя украсть у себя!»
«Сладострастие есть грех, — так говорят проповедующие смерть — дайте нам идти стороною и не рождать детей!»
«Трудно родить, — говорят другие — к чему еще рождать? Родятся лишь несчастные!» И они также проповедники смерти.
«Нам нужна жалость — так говорят третьи. Возьмите, что есть у меня! Возьмите меня самого! Тем меньше я буду связан с жизнью!» [49]
Если б они были совсем сострадательные, они отбили бы у своих ближних охоту к жизни. Быть злым — было бы их истинной добротою.
Но они хотят освободиться от жизни: что им за дело, что они еще крепче связывают других своими цепями и даяниями!
И даже вы, для которых жизнь есть суровый труд и беспокойство: разве вы не очень утомлены жизнью? Разве вы еще не созрели для проповеди смерти?
Все вы, для которых дорог суровый труд и всё быстрое, новое, неизвестное, — вы чувствуете себя дурно; ваша деятельность есть бегство и желание забыть самих себя.
Если б вы больше верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но чтобы ждать, в вас нет достаточно содержания, — и даже чтобы лениться!
Всюду раздается голос тех, кто проповедуют смерть: и земля полна теми, кому нужно проповедовать смерть.
Или «вечную жизнь»: мне всё равно, — если только они не замедлят отправиться туда!»
Так говорил Заратустра.
«Мы не хотим пощады от наших лучших врагов, а также от тех, кого мы любим до глубины души. Позвольте же мне сказать вам правду!
Мои собратья по войне! Я люблю вас до глубины души; теперь и прежде я был вашим равным. И я [50]также ваш лучший враг. Позвольте же мне сказать вам правду!
Я знаю о ненависти и зависти вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться себя самих!
И если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте, по крайней мере, его воинами. Они спутники и предвестники этого подвижничества.
Я вижу множество солдат: как хотел бы я видеть много воинов! Однообразно, в мундир, одеты они: да не будет так однообразно то, что скрывают они под мундиром!
Будьте такими, чей взор всегда ищет врага — своего врага. И у некоторых из вас сквозить ненависть с первого взгляда.
Своего врага ищите вы, свою войну ведите вы, войну за свои мысли! И если ваша мысль не устоит, всё-таки ваша честность должна и над этим праздновать победу!
Любите мир, как средство к новым войнам. И притом короткий мир — больше, чем долгий.
Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победою!
Можно молчать и сидеть смирно, только когда есть стрелы и лук: иначе болтают и ссорятся. Да будет ваш мир победою!
Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.
Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных. [51]
Что хорошо? спрашиваете вы. Хорошо быть храбрым. Предоставьте маленьким девочкам говорить: «быть добрым, вот что мило и в то же время трогательно».
Вас называют бессердечными: но ваше сердце неподдельно, и я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь прилива ваших чувств, а другие стыдятся их отлива.
Вы безобразны? Ну, что ж, братья мои! Окутайте себя возвышенным, этой мантией безобразного!
И когда ваша душа становится большой, она становится высокомерной; и в вашей возвышенности есть злоба. Я знаю вас.
В злобе встречается высокомерный со слабым. Но они не понимают друг друга. Я знаю вас.
Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтоб их презирать. Надо, чтоб вы гордились своим врагом: тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами.
Восстание — это доблесть раба. Вашей доблестью да будет повиновение! Само приказание ваше да будет повиновением!
Для хорошего воина «ты должен» звучать приятнее, чем «я хочу». И всё, что вы любите, вы должны сперва приказать себе.
Ваша любовь к жизни да будет любовью к вашей высшей надежде: а этой высшей надеждой пусть будет высшая мысль о жизни!
Но ваша высшая мысль должна быть вам приказана мною — и она гласить: человек есть нечто, что должно превзойти. [52]
Итак живите вы своей жизнью повиновения и войны! Что пользы в долгой жизни! Какой воин хочет, чтобы щадили его!
Я не щажу вас, я люблю вас всем сердцем, мои собратья по войне!»
Так говорил Заратустра.
«Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, мои братья: у нас есть государства.
Государство? Что это такое? Теперь слушайте меня, ибо теперь я скажу вам свое слово о смерти народов.
Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: «Я, государство, составляю народ».
Это — ложь! Созидателями были те, кто создали народы и дали им веру и любовь: так служили они жизни.
Разрушители это те, кто ставит ловушки для многих и называет их государством: они навесили им меч и навязали им сотни желаний.
Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав.
Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем языке о добре и зле: этого языка не [53]понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и правах.
Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорить, оно лжет — и что есть у него, оно украло.
Всё в нём обман: крадеными зубами кусает оно, зубастое. Обман даже внутренности его.
Смешение языков в добре и зле: это знамение даю я вам, как знамение государства. Поистине, волю к смерти означает это знамение! Поистине, оно подмигивает проповедникам смерти!
Рождается слишком много людей: для лишних изобретено государство!
Смотрите, как оно их привлекает к себе, это многое множество! Как оно их душит, жует и пережевывает!
«На земле нет ничего больше меня: я упорядочивающий перст божию» — так рычит чудовище. И не только длинноухие и близорукие опускаются на колени!
Ах, даже вам, великие души, нашептывает оно свою мрачную ложь! Ах, оно угадывает богатые сердца, охотно себя расточающие!
Ах, даже вас угадывает оно, вы, победители старого бога! Вы устали в борьбе, и теперь ваша усталость служить новому кумиру!
Героев и честных людей хотел бы он уставить вокруг себя, новый кумир! Он любит греться на солнечном сиянии чистой совести, — холодное чудовище!
Всё готов дать вам, если вы поклонитесь ему, новый кумир: так покупает он себе блеск вашей добродетели и взор ваших гордых очей. [54]
Приманить хочет он вас, вы, многое множество! И вот изобретена была адская штука, конь смерти, бряцающий сбруей божеских почестей!
Да, изобретена была смерть для многих, но она прославляет самое себя, как жизнь: поистине, сердечная услуга всем проповедникам смерти!
Государством зову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные: государством, где все теряют самих себя, хорошие и дурные: государством, где медленное самоубийство всех — называется «жизнью».
Посмотрите же на этих лишних людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: культурой они называют свою кражу — и всё обращается у них в болезнь и несчастье!
Посмотрите же на этих лишних людей! Они всегда больны, они изливают свою желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить.
Посмотрите же на этих лишних людей! Богатства приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они, и прежде всего рычага власти, много денег, — эти бессильные!
Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны! Они лезут друг на друга и потому срываются в грязь и пропасть.
Все они хотят достичь трона: безумие их в том, — будто счастье восседало на троне! Часто грязь восседает на троне — и также часто трон на грязи.
По-моему, все они безумцы, карабкающиеся обезьяны и находящиеся в бреду. По-моему, дурным запахом несет от их кумира, холодного чудовища: по-моему, дурным запахом несет от всех этих служителей кумира. [55]
Мои братья, разве хотите вы задохнуться в чаду их ртов и желаний! Скорее разбейте окна и прыгайте вон!
Избегайте же дурного запаха! Сторонитесь идолопоклонства лишних людей!
Избегайте же дурного запаха! Сторонитесь от дыма этих человеческих жертв!
Свободною стоит для великих душ и теперь еще земля. Свободных много еще мест для одиноких и для тех, кто живет вдвоём, где веет благоухание тихих морей.
Ещё свободной стоит для великих душ свободная жизнь. Поистине, кто владеет малым, тем меньше другие будут владеть им: хвала малой бедности.
Там, где оканчивается государство, начинается впервые человек, который не есть лишний; там начинается песнь тех, кто необходимы, мелодия единожды существующая и невозвратная.
Туда, где оканчивается государство, — туда смотрите, мои братья! Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку?»
Так говорил Заратустра.
«Беги, мой друг, в свое уединение! Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и исколот жалами маленьких.
С достоинством умеют лес и скалы хранить молчание вместе с тобою. Опять уподобься твоему [56]любимому дереву с раскинутыми ветвями: тихо, прислушиваясь, склонилось оно над морем.
Где оканчивается уединение, там начинается базар; и где начинается базар, начинается и шум великих комедиантов и жужжанье ядовитых мух.
В мире самые лучшие вещи ничего еще не стоят, если никто не представляет их; великими людьми называет народ этих представителей.
Плохо понимает народ великое, т. е. творческое. Но любит он всех представителей и тех, кто играет в великие вещи.
Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир: — неслышно вращается он. Но вокруг комедиантов вращается народ и слава: это называется «мировым порядком».
У комедианта есть дух, но мало совести духа. Всегда верит он в то, чем он заставляет верить сильнее всего, — верить в себя самого!
Завтра у него новая вера, а послезавтра еще более новая. Чувства его быстры, как народ, и настроения переменчивы.
Опрокинуть называется у него: доказать. Сделать сумасшедшим называется у него: убедить. А кровь для него лучшее из всех оснований.
Истину, проскальзывающую только в тонкие уши, называет он ложью и ничем. Поистине, он верит только в таких богов, которые производят в мире много шума.
Базар полон шумящими паяцами — и народ хвалится своими великими людьми! Для него они — господа минуты.
Но минута настоятельно требует от них ответа: и они требуют его от тебя. Они хотят, [57]чтоб ты сказал: да или нет. Горе тебе, если хочешь ты сесть между двумя стульями!
Не завидуй этим безусловным, настоятельно требующим ответа, ты, любитель истины! Никогда еще истина не держалась за руку безусловного.
От этих стремительных удались в безопасность: лишь на базаре нападают с вопросом: да или нет?
Медленно течет жизнь всех глубоких родников: долго должны они ждать, прежде чем узнают, что упало в их глубину.
В сторону от базара и славы уходит всё великое: в стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей.
Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, свежий воздух!
Беги в свое уединение! Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. Беги от их невидимого мщения! В отношении тебя они только мщение.
Не поднимай руки против них! Они — бесчисленны, и не твое назначение быть махалкой для мух.
Бесчисленны эти маленькие, жалкие люди; и не одному уже гордому зданию дождевые капли и сор послужили к гибели.
Ты не камень, но ты стал уже пуст от множества капель. Ты будешь изломан и получишь трещины от множества капель.
Усталым вижу я тебя от ядовитых мух, исцарапанным в кровь вижу я тебя во многих местах; и твоя гордость не хочет даже возмущаться. [58]
Крови твоей хотели бы они при всей невинности, крови жаждут их бескровные души — и потому они кусают при всей невинности.
Но ты глубокий, ты страдаешь слишком глубоко даже от малых ран; и прежде чем ты излечивался, такой же ядовитый червь уже полз по твоей руке.
Ты кажешься мне слишком гордым, чтоб убивать этих лакомок. Но берегись, чтоб не стало твоим назначением выносить их ядовитое насилие!
Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой: навязчивость — их похвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови.
Они льстят тебе, как богу или дьяволу; они визжат перед тобою, как перед богом или дьяволом. Ну, что ж! Они — льстецы и визгуны, и ничего более.
Также бывают они часто любезны с тобою. Но это всегда было хитростью трусливых. Да, трусы хитры.
Они много думают о тебе своей узкой душою, — подозрительным кажешься ты им всегда! Всё, о чём много думают, становится подозрительным.
Они наказывают тебя за все твои добродетели. Они вполне прощают тебе только — твои ошибки.
Потому что ты кроток и справедлив, ты говоришь: «невиновны они в своем маленьком существовании». Но их узкая душа думает: «виновно всякое великое существование».
Даже когда ты снисходителен к ним, они всё-таки чувствуют, что ты презираешь их; и они возвращают тебе твое благодеяние скрытыми злодеяниями. [59]
Твоя гордость без слов всегда противоречит их вкусу; они громко радуются, когда ты бываешь настолько скромен, чтоб быть тщеславным.
То, что мы узнаем в человеке, воспламеняем мы в нём. Остерегайся же маленьких людей!
Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщение.
Разве ты не замечал, как умолкали они, когда ты подходил к ним, и как сила их покидала их, как дым покидает угасающий огонь?
Да, мой друг, укором совести являешься ты для своих ближних: ибо они недостойны тебя. И они ненавидят тебя и охотно сосали бы твою кровь.
Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами; то, что есть в тебе великого, — должно делать их еще более ядовитыми и еще более похожими на мух.
Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где веет суровый, свежий воздух! Не твое назначение быть махалкой для мух».
Так говорил Заратустра.
«Я люблю лес. В городах трудно жить: там слишком много страстных людей.
Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в предмет мечты страстной женщины?
И посмотрите на этих мужчин: их глаза [60]говорят — они не знают ничего лучшего на земле, как спать с женщиной.
Грязь на дне их души; и горе, если у грязи их есть еще дух!
О, если б вы совершенны были, по крайней мере, как звери! Но зверям принадлежит невинность.
Разве я советую вам убивать свои чувства? Я советую вам невинность чувств.
Разве целомудрие я советую вам? У иных целомудрие есть добродетель, но у многих почти что порок.
Они, быть может, воздерживаются: но пес чувственности проглядывает, с завистью, во всём, что они делают.
Даже до высот их добродетели и вплоть до сурового духа их следует за ними это животное и его вражда.
И как ловко умеет пес чувственности молить о духе, когда ему отказывают в теле!
Вы любите трагедии и всё, что раздирает сердце? Но я отношусь недоверчиво к вашему псу.
У вас слишком жестокие глаза, и вы похотливо смотрите на страдающих. Не переоделось ли только ваше сладострастие, и теперь называется состраданием?
И это знамение даю я вам: многие, желавшие изгнать своего дьявола, сами вошли при этом в свиней.
Кому тягостно целомудрие, тому надо его отсоветовать: чтобы оно не сделалось путем в преисподнюю, т. е. грязью и похотью души.
Разве я говорю о грязных вещах? По-моему, это не есть еще худшее. [61]
Познающий не любит погружаться в воду истины не тогда, когда она грязна, но когда она мелкая.
Поистине, есть целомудренные до глубины души: они более кротки сердцем, они смеются охотнее и больше, чем вы.
Они смеются также и над целомудрием и спрашивают: «что такое целомудрие!
Целомудрие не есть ли безумие? Но это безумие пришло к нам, а не мы к нему.
Мы предложили этому гостю приют в нашем сердце: теперь он живет у нас, — пусть остается, сколько хочет!»
Так говорил Заратустра.
«Всегда быть одному слишком много для меня», — так думает отшельник. «Всегда один и один — это дает со временем двух!»
«Я» и «меня» всегда слишком усердствуют в разговоре: как вынести это, если б не было друга?
Всегда для отшельника друг является третьим: третий — это пробка, мешающая разговору двух опуститься в бездонную глубь.
Ах, существует слишком много бездонных глубин для всех отшельников! Поэтому так страстно жаждут они друга и высоты его.
Наша вера в других выдаёт, во что мы охотно хотели бы верить в нас самих. Наше страстное желание друга является нашим предателем. [62]
И часто с помощью любви хотят лишь перескочить через зависть. Часто нападают и делают себе врагов, чтобы скрыть, что и на тебя могут напасть.
«Будь, по крайней мере, моим врагом!» — так говорит истинное почитание, которое не осмеливается просить о дружбе.
Если ты хочешь иметь друга, ты должен вести войну за него: а чтобы вести войну, надо уметь быть врагом.
Ты должен в своем друге уважать еще врага. Разве ты можешь близко подойти к своему другу и не перейти к нему?
В своем друге ты должен иметь своего лучшего врага. Ты должен быть к нему ближе всего сердцем, когда ты противишься ему.
Ты не хочешь перед своим другом носить одежды? Для твоего друга должно быть честью, что ты дашь ему себя, каков ты есть. Но он за это посылает тебя к чёрту!
Кто не скрывает себя, возмущает этим других: так много имеете вы оснований бояться наготы! Да, если б вы были богами, вы могли бы стыдиться своих одежд!
Ты не можешь для своего друга достаточно хорошо нарядиться: ибо ты должен быть для него страстным желанием и стрелою, устремленною к сверхчеловеку.
Видел ли ты своего друга спящим, — чтоб знать, как он выглядит? Что такое лицо твоего друга? Оно — твое собственное лицо на грубом, несовершенном зеркале.
Видел ли ты своего друга спящим? Испугался ли ты, что так выглядит твой друг? О, мой друг, человек есть нечто, что должно превзойти.
Угадывать и молчать должен уметь друг твой: не [63]всё должен ты видеть. Твой сон должен выдать тебе, что делает твой друг, когда бодрствует.
Пусть будет твое сострадание угадыванием: ты должен сперва узнать, хочет ли твой друг сострадания. Быть может, он любит в тебе несокрушенный взор и взгляд вечности.
Пусть будет сострадание к другу сокрыто под твердой корой, на ней должен ты стереть себе зубы. Тогда оно будет иметь свою тонкость и сладость.
Являешься ли ты чистым воздухом, и одиночеством, и хлебом, и лекарством для своего друга? Иной не может избавиться от своих собственных цепей и однако является избавителем для друга.
Не раб ли ты? Тогда ты не можешь быть другом. Не тиран ли ты? Тогда ты не можешь иметь друзей.
Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина не способна еще к дружбе: она знает только любовь.
В любви женщины есть несправедливость и слепота ко всему, чего она не любит. Но и в сознательной любви женщины есть всегда еще неожиданность, и молния, и ночь рядом со светом.
Еще не способна женщина к дружбе: женщины всё еще кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы.
Еще не способна женщина к дружбе. Но скажите мне, вы, мужчины, кто же среди вас способен к дружбе?
О, мужчины, ваша бедность и ваша скупость души! Сколько даете вы другу, столько даю я даже своему врагу, и не становлюсь от того беднее.
Существует товарищество: пусть будет и дружба!»
Так говорил Заратустра.
[64]
«Много стран видел Заратустра и много народов: так открыл он добро и зло многих народов. Большей власти не нашел Заратустра на земле, как добро и зло.
Ни один народ не мог бы жить, не сделав сперва оценки; если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед.
Многое, что у одного народа называлось добром, у другого называлось стыдом и позором: так нашел я. Многое, что нашел я, здесь называлось злом, а там украшалось пурпурной мантией почести.
Никогда один сосед не понимал другого; всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа.
Скрижаль добра висит над каждым народом. Взгляни, это скрижаль преодолений его; взгляни, это голос воли его к власти.
Похвально то, что кажется ему трудным; всё неизбежное и трудное называет он добром; а то, что еще освобождает от величайшей нужды, редкое и самое трудное — зовет он священным.
Что способствует тому, что он господствует, побеждает и блестит на страх и зависть своего соседа: всё это означает для него высоту, начало, мерило и смысл всех вещей.
Поистине, мой брат, если узнал ты потребность народа и страну, и небо, и соседа его: ты несомненно угадал и закон его преодолений, и почему он восходит по этой лестнице к своей надежде. [65]«Всегда ты должен быть первым и стоять впереди других: никого не должна любить твоя ревнивая душа, кроме друга» — слова эти заставляли дрожать душу грека: и шел он своей стезею величия.
«Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелою» — казалось в одно и то же время и мило и тяжело тому народу, от которого идет имя мое — имя, которое для меня в одно и то же время и мило и тяжело.
«Чтить отца и матерь и до глубины души служить воле их»: эту скрижаль преодоления навесил на себя другой народ и стал чрез это могучим и вечным.
«Соблюдать верность и ради верности полагать честь и кровь даже на дурные и опасные дела»: так поучаясь, преодолевал себя другой народ, и так преодолевая себя, стал он чреват великими надеждами.
Поистине, люди дали себе всё добро и всё зло их. Поистине, они не заимствовали и не находили его, оно не упало к ним, как глас с небес.
Человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя, — он создал сперва смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называет он себя «человеком», т. е. оценивающим.
Оценивать — значит создавать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать — это драгоценность и сокровище всех оцененных вещей.
Чрез оценку впервые является ценность: и без оценки был бы пусть орех бытия. Слушайте, вы, созидающие!
Перемена ценностей — это перемена созидающих. Постоянно уничтожает тот, кто должен быть созидателем. [66]
Созидающими были сперва народы и лишь позднее отдельные личности; поистине, сама отдельная личность есть еще самое юное из творений.
Народы некогда навесили на себя скрижаль добра. Любовь, желающая господствовать, и любовь, желающая повиноваться, вместе создали себе эти скрижали.
Чувство стада старше происхождением, чем чувство «я»: и покуда добрая совесть именуется стадом, лишь дурная совесть говорит: я.
Поистине, лукавое «я», лишенное любви, ищущее своей пользы в пользе многих: это — не начало стада, а гибель его.
Любящие были всегда и созидающими, они создали добро и зло. Огонь любви и огонь гнева горит на именах всех добродетелей.
Много стран видел Заратустра и много народов: большей власти не нашел Заратустра на земле, как дела любящих: «добро» и «зло» их имя.
Поистине, чудовищем является власть этих похвал и этой хулы. Скажите, братья, кто победить его мне? Скажите, кто набросит этому зверю цепь на тысячу голов?
Тысяча целей существовала до сих пор, ибо существовала тысяча народов. Недостает еще только цепи для тысячи голов, недостает единой цели. Еще у человечества нет цели.
Но скажите же мне, мои братья: если человечеству недостает еще цели, то, быть может, недостает еще и его самого?»
Так говорил Заратустра.
[67]
«Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасные слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему есть дурная любовь к самим себе.
Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель: но я насквозь вижу ваше «бескорыстие».
«Ты» старше, чем «я»; «ты» признано священным, но еще не «я»: до того жмется человек к ближнему.
Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее я советую вам бежать от ближнего и любить даль него!
Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему; выше еще, чем любовь к человеку, ставлю я любовь к вещам и призракам.
Этот призрак, витающий перед тобою, брат мой, прекраснее тебя; почему же не отдаешь ты ему свою плоть и свои кости? Но ты страшишься и бежишь к своему ближнему.
Вы не выносите самих себя и недостаточно себя любите: и вот вы хотели бы соблазнить ближнего на любовь и позолотить себя его заблуждением.
Я хотел бы, чтоб все ближние и соседи их стали для вас невыносимы; тогда вы должны бы были из самих себя создать своего друга с переполненным сердцем его.
Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя; и когда вы склонили его хорошо думать о вас, сами вы хорошо думаете о себе. [68]
Лжет не только тот, кто говорит вопреки своему знанию, но еще больше тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Именно так говорите вы о себе при общении с другими, и обманываете соседа на счет себя.
Так говорит безумец: «общение с людьми портить характер, особенно когда нет его».
Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой, потому что он хотел бы потерять себя. Ваша дурная любовь к самим себе делает для вас из одиночества тюрьму.
Дальние оплачивают вашу любовь к ближнему; и если вы соберетесь впятером, шестой должен всегда умереть.
Я не люблю ваших празднеств; слишком много актеров находил я там, и даже зрители вели себя часто, как актеры.
Не о ближнем учу я вас, но о друге. Пусть друг будет для вас праздником земли и предчувствием сверх человека.
Я учу вас о друге и переполненном сердце его. Но надо уметь быть губкою, если хочешь быть любимым переполненными сердцами.
Я учу вас о друге, в котором мир предстоит завершенным, как чаша добра, — о созидающем друге, всегда готовом подарить завершенный Мир.
И как мир развернулся для него, так опять он свертывается вместе с ним, подобно становлению добра и зла, подобно становлению цели из случая.
Будущее и самое дальнее пусть будет причиною твоего сегодня: в своем друге ты должен любить сверхчеловека, как свою причину. [69]
Мои братья, не любовь к ближнему советую я вам: я советую вам любовь к дальнему».
Так говорил Заратустра.
«Ты хочешь, мой брат, идти в уединение? Ты хочешь искать дороги к самому себе? Помедли еще немного и выслушай меня.
«Кто ищет, легко сам теряется. Всякое уединение есть так говорит стадо. И ты долго принадлежал к стаду.
Голос стада будет звучать еще даже в тебе! И когда ты скажешь: «у меня уже не одна совесть с вами» — это будет жалобой и страданием.
Смотри, само это страдание породила еще единая совесть: и последнее мерцание этой совести горит еще на твоей печали.
Но ты хочешь следовать голосу своей печали, который есть путь к самому себе? Покажи же мне на это свое право и свою силу!
Являешь ли ты собой новую силу и новое право? Начальное движение? Самокатящееся колесо? Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг себя?
Ах, так много вожделеющих о высоте! Так много видишь судорог честолюбия! Докажи мне, что ты не из вожделеющих и не из честолюбцев!
Ах, как много есть великих мыслей, которые делают не более, чем кузнечные меха: они надувают и делают еще более пустым. [70]
Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не о том, что ты сбросил ярмо с себя.
Из тех ли ты, что имеют право сбросить ярмо с себя? Таких не мало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от своего рабства.
Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?
Можешь ли ты дать себе свое добро и твое зло и навесить на себя свою волю, как закон? Можешь ли ты быть сам своим судьею и мстителем своего закона?
Ужасно быть одному с судьею и мстителем собственного закона. Так бывает брошена звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества.
Сегодня еще страдаешь ты от множества, ты, одинокий: сегодня еще есть у тебя всё твое мужество и твои надежды.
Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества, когда-нибудь твоя гордость согнется, и твое мужество поколеблется. Когда-нибудь ты воскликнешь: «я одинок!»
Когда-нибудь ты не увидишь более своей высоты, а твое низменное будет слишком близко к тебе; твое возвышенное будет даже пугать тебя, как призрак. Когда-нибудь ты воскликнешь: «все — ложь!»
Есть чувства, который грозят убить одинокого; если это им не удается, они должны сами умереть! Но способен ли ты быть убийцею?
Знаешь ли ты, мой брат, уже слово «презрение»? И муку твоей справедливости, быть справедливым к тем, кто тебя презирает? [71]
Ты принуждаешь многих переменить о тебе мнение: это ставят они тебе в большую вину. Ты близко подходил к ним, и всё-таки прошел мимо: этого они никогда не простят тебе.
Ты стал выше их: но чем выше ты подымаешься, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидят того, кто летает.
«Каким образом хотели вы быть ко мне справедливыми! — должен ты говорить — я избираю для себя вашу несправедливость, как предназначенный мне удел».
Несправедливость и грязь бросают они вслед одинокому: но, мой брат, если хочешь ты быть звездою, ты должен светить им, несмотря ни на что!
И остерегайся добрых и праведных! Они любят распинать тех, кто изобретает для себя свою собственную добродетель, — они ненавидят одинокого.
Остерегайся также святой простоты! Всё для неё нечестиво, что не просто; она любит играть с огнем — костров.
И остерегайся также приступов своей любви! Слишком скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается.
Иному ты, должен подать не руку, а только лапу: и я хочу, чтобы у твоей лапы были когти.
Но самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах.
Одинокий, ты идешь дорогою к самому себе! И твоя дорога идет впереди тебя самого и твоих семи демонов!
Ты будешь сам для себя и еретиком, и [72]колдуном, и прорицателем, и безумцем, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.
Надо, чтоб ты сжег себя в своем собственном пламени: как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!
Одинокий ты идешь путем созидающего: бога хочешь ты себе создать из своих семи демонов!
Одинокий, ты идешь путем любящего: самого себя любишь ты и потому презираешь ты себя, как презирают только любящие.
Созидать хочет любящий, ибо он презирает! Что знает о любви тот, кто не должен был презирать именно то, что любил он!
С своей любовью и своим созиданием иди в свое уединение, мой брат; и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость.
С моими слезами иди в свое уединение, мой брат. Я люблю того, кто хочет созидать дальше самого себя и так погибает».
Так говорил Заратустра.
«Почему крадешься ты так робко в сумерках, о Заратустра? И что прячешь ты бережно под своим плащом?
«Не сокровище ли, подаренное тебе? Или новорожденное дитя твое? Или теперь ты сам идешь по пути воров, ты друг злых?» [73]
«Поистине, мой брат! отвечал Заратустра, это — сокровище, подаренное мне: это маленькая истина, что несу я.
Но она беспокойна, как малое дитя; и если б я не зажимал ей рта, она кричала бы во всё горло.
Когда сегодня я шел один своею дорогой, в час, когда солнце садится, мне повстречалась старушка и так говорила к душе моей:
«О многом уже говорил Заратустра даже нам, женщинам, но никогда не говорил он нам о женщине».
И я возразил ей: «о женщине надо говорить только мужчинам».
«И мне также ты можешь говорить о женщине, сказала она; я достаточно стара, чтобы тотчас всё позабыть».
И я внял просьбе старушки и так говорил ей:
Всё в женщине загадка, и всё в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью.
Мужчина для женщины средство: целью бывает всегда ребенок. Но что же женщина для мужчины?
Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины, как самой опасной игрушки.
Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина для отдохновения воина: всё остальное — безумство.
Слишком сладких плодов не любит воин. По этому любит он женщину; в самой сладкой женщине:, есть еще горькое.
Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина.
В настоящем мужчине сокрыто дитя которое хочет играть. О, женщины, найдете дитя в мужчине!
Пусть женщина будет игрушкой, чистой и тонкой, [74]как алмаз, сияющая добродетелями еще не существующего мира.
Пусть луч звезды сияет в вашей любви! Пусть вашей надеждой будет: «о, если б мне родить сверхчеловека!»
Пусть в вашей любви будет храбрость! Своею любовью должны вы наступать на того, кто внушает вам страх.
Пусть в вашей любви будет ваша честь! Вообще женщина мало понимает в чести. Но пусть будет ваша честь в том, чтоб всегда больше любить, чем быть любимыми, и никогда не быть вторыми.
Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: ибо она приносит всякую жертву, и всякая другая вещь не имеет для неё цены.
Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина еще дурна.
Кого ненавидит женщина больше всего? — Так говорило железо магниту: «я ненавижу тебя больше всего, потому что ты притягиваешь, но недостаточно силен, чтобы притянуть к себе».
Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет.
«Смотре, теперь только стал мир совершенен!» — так думает каждая женщина, когда она повинуется от всей любви.
И повиноваться должна женщина и найти глубину к своей поверхности. Поверхность — душа женщины, подвижная, бурливая пленка на мелкой воде.
Но душа мужчины глубока, её бурный поток шуршит в подземных пещерах: женщина чует его силу, но не понимает её. [75]
Тогда сказала мне старушка: «Много приятного сказал Заратустра и особенно для тех, кто достаточно молод для этого.
Странно. Заратустра знает мало женщин, и однако он прав относительно их. Не потому ли это происходит, что у женщины нет ничего невозможного?
А теперь в благодарность прими маленькую истину! Я достаточно стара для неё!
Заверни ее хорошенько и зажми ей рот: иначе она будет кричать во всё горло, эта маленькая истина».
«Дай мне, женщина, твою маленькую истину!» сказал я. И так говорила старушка:
«Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!»
Так говорил Заратустра.
Однажды Заратустра заснул под смоковницей, ибо было жарко, и положил руку на лицо свое. Но приползла змея и укусила его в шею, так что Заратустра вскрикнул от боли. Отняв руку от лица, он посмотрел на змею; тогда узнала она глаза Заратустры, неуклюже отвернулась и хотела бежать. «Погоди, сказал Заратустра, я еще не поблагодарил тебя! Ты разбудила меня кстати, мой путь еще долог». «Твой путь уже короток, ответила печально змея; мой яд убивает». Заратустра улыбнулся. «Когда же [76]дракон умирал от яда змеи? — сказал он. Но возьми обратно свой яд! Ты недостаточно богата:, чтобы дарить мне его». Тогда змея снова обвилась ему вокруг шеи и начала лизать его рану.
Когда Заратустра однажды рассказал это ученикам своим, они спросили; «В чём же нравоучение рассказа твоего, о Заратустра?» Заратустра так отвечал на это:
«Разрушителем морали называют меня добрые и праведные: мой рассказ — безнравственным.
Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром: ибо это пристыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе.
И лучше сердитесь, но не стыдите! И когда проклинают вас, мне не нравится, что вы хотите благословить проклинающих. Лучше прокляните и вы немного!
И если случилась с вами большая несправедливость, скорей сделайте пять малых несправедливостей! Ужасно смотреть, когда кого-нибудь давит несправедливость.
Разве вы уже знали это? Разделенная с другими несправедливость есть уже половина права. И тот должен взять на себя несправедливость, кто может нести ее!
Маленькое мщение более человечно, чем отсутствие всякой мести. И если наказание не есть также право и честь для нарушителя, то я не хочу ваших наказаний.
Благороднее — обвинять себя, чем оправдывать, особенно если кто прав. Только для этого надо быть достаточно богатым. [77]
Я не люблю вашей холодной справедливости; во взоре ваших судей видится мне всегда палач и его холодный нож.
Скажите, где находится справедливость, которая есть любовь с ясновидящими глазами?
Найдите же мне любовь, которая несет не только всякое наказание, но и всякую вину!
Найдите же мне справедливость, которая оправдывает всякого, кроме тех, кто судит!
Хотите ли вы слышать еще и это? У того, кто хочет быть совсем справедливым, даже ложь обращается в любовь к человечеству.
Но как мог бы я быть совсем справедливым! Как мог бы я каждому воздать свое! С меня достаточно, если каждому отдаю я мое.
Наконец, братья мои, остерегайтесь быть несправедливыми к отшельникам! Как мог бы отшельник забыть! Как мог бы он отплатить!
На глубокий родник похож отшельник. Легко бросить камень в него; но если упал он на самое дно, скажите, кто захочет снова достать его?
Остерегайтесь обидеть отшельника! Но если вы это сделали, то уже и убейте его!»
Так говорил Заратустра.
«Есть у меня вопрос к тебе, брат мой: как свинцовый груз, бросаю я этот вопрос в твою душу, чтоб знать, как глубока она. [78]
Ты молод и желаешь ребенка и брака. Но я спрашиваю тебя: настолько ли ты человек, чтобы иметь право желать ребенка?
Победитель ли ты, преодолел ли ты себя самого, повелитель ли чувств, господин ли своих добродетелей? Так спрашиваю я тебя.
Или в твоем желании говорят зверь и необходимость? Или страх одиночества? Или недовольство собою?
Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода страстно желали ребенка. Живые памятники должен ты строить своей победе и своему освобождению.
Дальше себя должен ты строить. Но сперва ты должен построить самого себя правильно в отношении тела и души.
Не только в ширь должен ты расти, но и в высь! Да поможет тебе в этом сад супружества!
Высшее тело должен ты создать, начальное движение, самокатящееся колесо, — созидающего должен ты создать.
Брак: так называю я волю двух создать третьего, который больше тех, что создали его. Глубокое уважение друг перед другом называю я браком, как перед хотящими одной и той же воли.
Да будет это смыслом и правдой твоего брака. Но то, что называют браком многое множество, эти лишние, — ах, как назову я его?
Ах, эта бедность души вдвоем! Ах, эта грязь души вдвоем! Ах, это жалкое довольство собою вдвоем!
Браком называют они всё это; и они говорят, будто их браки заключены на небе. [79]
Ну, что ж, я не хочу этого неба лишних людей! Нет, не надо мне их, этих спутанных небесною сетью зверей!
Пусть подальше останется от меня бог, который, прихрамывая, идет благословлять то, чего он не соединял!
Не смейтесь над этими браками! У какого ребенка нет оснований плакать из-за своих родителей?
Достойным казался мне этот человек и созревшим для смысла земли: но когда я увидел его жену, земля показалась мне домом для умалишенных.
Да, я хотел бы, чтоб земля дрожала в судорогах, когда святой сочетается с гусыней.
Один вышел, как герой, искать истины, а в конце добыл он себе маленькую наряженную ложь. Своим браком называет он это.
Другой был осторожен в обращении и крайне разборчив. Но одним разом испортил он навсегда свое общество: своим браком называет он это.
Третий искал служанке с добродетелями ангела. Но одним разом стал он служанкою женщины, и теперь ему самому надо бы стать ангелом.
Осторожными находил я всех покупателей, и у всех у них были хитрые глаза. Но жену себе покупает даже хитрейший из них, не видав её.
Много коротких безумств — это называется у вас любовью. И ваш брак, как одна длинная глупость, кладет конец многим коротким безумствам.
Ваша любовь к жене и любовь жены к мужу: ах, если б могла она быть жалостью к страдающим и сокрытым богам! Но почти всегда два животных угадывают друг друга. [80]
Но даже ваша лучшая любовь есть только символ, полный экстаза, и болезненный пыл. Любовь — это факел, который должен светит вам на высших путях.
Некогда вы должны будете любить дальше себя! Начните же учиться любит! И потому вы должны были испить горькую чашу вашей любви.
Горечь содержится в чаше даже лучшей любви: так возбуждает она стремление к сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем!
Жажду в созидающем, стрелу, устремленную к сверхчеловеку: скажи, брат мой, такова ли твоя воля к браку?
Священны для меня такая воля и такой брак.
Так говорил Заратустра.
«Многие умирают слишком поздно, а некоторые слишком рано. Еще странно звучит учение: «умри вовремя!»
Умри во время; так учит Заратустра.
Конечно, кто никогда не жил вовремя, как мог бы он умереть вовремя? Ему бы лучше никогда не родиться! — Так советую я лишним людям.
Но даже лишние люди важничают еще своею смертью, и даже самый пустой орех хочет еще, чтоб его разгрызли. [81]
Серьезно относятся все к смерти: но смерть не есть еще праздник. Еще не научились люди чтить самые светлые праздники.
Совершенную смерть показываю я вам; она для живущих становится жалом и священным обетом.
Своею смертью умирает совершивший свой путь, умирает победоносно, окруженный теми, кто на деются и дают священный обет.
Следовало бы научиться умирать; и не должно быть праздника там, где такой умирающий не освятил клятвы живущих!
Так умереть — лучше всего; а второе: умереть в борьбе и растратить великую душу.
Но как борющемуся, так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, которая скалит зубы и крадется, как вор — и однако входит, как повелитель.
Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я хочу.
И когда же захочу я? — У кого есть цель и преемник, тот хочет смерти вовремя для цели и преемника.
Из глубокого уважения к цели и преемнику не повесит он сухих венков в святилище жизни.
Поистине, не хочу я походить на тех, кто сучит веревку: они тянут свои нити в длину, а сами при этом всё пятятся.
Иные становятся для своих истин и побед слишком стары; беззубый рот не имеет уже права на все истины.
И каждый, желающий славы, должен уметь вовремя проститься с почестью и знать трудное искусство — уйти во время. [82]
Надо перестать позволять себя есть, когда находят вас особенно вкусными: это знают те, кто хотят, чтоб их долго любили.
Есть, конечно, кислые яблоки, участь которых — ждать до последнего дня осени: и в то же время становятся они спелыми, желтыми и морщинистыми.
У одних сперва стареет сердце, у других — ум. Иные бывают стариками в юности: но кто поздно бывает юным, долго остается им.
Иному не удается жизнь: ядовитый червь гложет ему сердце. Пусть же постарается он, чтоб тем лучше удалась ему смерть.
Иной не бывает никогда сладким: он гниет еще летом. Одна трусость удерживает его на его суку.
Живут слишком многие, и слишком долго висят они на своих сучьях. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева всё гнилое и червивое!
О, если б пришли проповедники скорой смерти! Они были бы настоящею бурею на деревьях жизни! Но я слышу только проповедь медленной смерти и терпения ко всему «земному».
Ах, вы проповедуете терпение ко всему земному? Но это земное слишком долго терпит вас, вы, богохульники!
Поистине, слишком рано умер тот еврей, которого чтут проповедники медленной смерти: и для многих стало с тех пор роковым, что умер он слишком рано.
Он знал только слезы и скорбь еврея, вместе с ненавистью добрых и праведных: тогда напало на него страстное желание смерти.
Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных! Быть может, он научился бы [83]жить и научился бы любить землю — и вместе с тем смеяться.
Верьте мне, братья мои! Он умер слишком рано; он сам отрекся бы от своего учения, если б он достиг моего возраста! Достаточно благороден был он, чтоб отречься!
Но незрелым был он еще. Незрело любит юноша и незрело ненавидит он человека и землю. Еще связаны и тяжелы у него душа и крылья мысли.
Но зрелый муж больше ребенок, чем юноша, и. меньше скорби в нём: лучше понимает он смерть и жизнь.
Свободный к смерти и свободный в смерти, он говорит священное «нет», когда нет уже времени говорить «да»: так понимает он смерть и жизнь.
Да не будет ваша смерть хулою на человека и землю, друзья мои: этого прошу я у меда вашей души.
В вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря горит на земле: ели смерть плохо удалась вам.
Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня еще больше любили землю; и в землю хочу я опять обратиться, чтобы найти отдых у той, что меня родила.
Поистине, была цель у Заратустры, он бросил свой мяч: теперь будьте вы, друзья, наследниками моей цели, для вас закидываю я золотой мяч.
Больше всего люблю я смотреть на вас, мои друзья, когда вы бросаете золотой мяч! Поэтому еще немного останусь я на земле: простите мне это!»
Так говорил Заратустра.
[84]
Когда Заратустра простился с городом, который любило сердце его и имя которого было: «Пестрая корова», — последовали за ним многие, называющиеся учениками его, и составили свиту его. И так дошли они до перекрестка: тогда Заратустра сказал им, что дальше он хочет идти один; ибо он любил ходить в одиночестве. Но ученики его на прощанье подали ему посох, на золотой ручке которого была змея. обвившаяся вокруг солнца. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него; потом он так говорил к своим ученикам:
«Скажите же мне: как достигло золото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, блестяще и кротко в своем блеске; оно всегда дарит себя.
Только как символы высшей добродетели, достигло золото высшей ценности. Как золото, светится взор у дарящего. Блеск золота заключает мир между луною и солнцем.
Необыкновенна и бесполезна высшая добродетель, блестяща и кротка она в своем блеске: дарящая добродетель есть высшая добродетель.
Поистине, я угадываю вас, мои ученики: вы стремитесь, подобно мне, к дарящей добродетели. Что у вас общего с кошками и волками?
Ваша жажда в том, чтобы самим стать жертвою и даянием: потому вы и жаждете собрать все богатства в своей душе. [85]
Ненасытно стремится ваша душа к сокровищам и всему драгоценному, ибо ненасытна ваша добродетель в желании дарить.
Вы принуждаете все вещи приблизиться к вам и войти в вас, чтобы обратно текли они из вашего родника, как дары вашей любви.
Поистине, в грабителя всех ценностей должна обратиться такая дарящая любовь; но здоровым и священным называю я этот эгоизм.
Есть другой эгоизм, чересчур бедный и голодающий, который всегда хочет красть, эгоизм больных, больной эгоизм.
Воровским глазом смотрит он на всё блестящее; алчностью голода измеряет он того, кто может богато есть; и всегда ползает он вокруг стола дарящих.
Болезнь и невидимое выражение говорят в этой алчности; о болезненном теле говорит воровская алчность этого эгоизма.
Скажите мне, братья мои: что считается у нас худым и наихудшим? Нс есть ли это вырождсние? — И мы предполагаем всегда вырождение, где нет дарящей души.
Вверх идет наш путь, от рода к другому роду, более высокому. Но ужасом является для нас вырождающееся чувство, которое говорит: «всё для меня».
Вверх летит наше чувство: ибо оно есть символ нашего тела, символ возвышения. Символ этих возвышений суть имена добродетелей.
Так проходит тело чрез историю, оно нарождается и борется. А дух что он для тела? Глашатай его битв и побед, товарищ и отголосок. [86]
Символы все Имена добра и зла: они ничего не выражают, они — только знаки. Безумец тот, кто хочет познать их.
Будьте внимательны, братья мои, к каждому часу, когда ваш дух хочет говорить в символах: тогда зарождается ваша добродетель.
Тогда возвысилось ваше тело и воскресло; своей отрадою увлекает оно дух, так что он становится творцом, и ценителем, и любящим, и благодетелем всех вещей.
Когда ваше сердце бьется широко и полно, как бурный поток, который есть благо и опасность для живущих на берегу: тогда зарождается ваша добродетель.
Когда вы возвысились над похвалою и порицанием, и ваша воля, как воля любящего, хочет приказывать всем вещам: тогда зарождается ваша добродетель.
Когда вы презираете мягкое ложе и всё, что приятно, и можете отдыхать достаточно далеко от изнеженных: тогда зарождается ваша добродетель.
Когда вы хотите единой воли, и эта перемена всех потребностей называется у вас необходимостью: тогда зарождается ваша добродетель.
Поистине, она есть новое добро и новое зло! Поистине, это — новое глубокое журчание и голос нового ключа!
Властью является эта новая добродетель; господствующей мыслью является она, и вокруг неё мудрая душа: золотое солнце, и вокруг него змей познания».
[87]
Здесь Заратустра умолк на минуту и с любовью смотрел на своих учеников. Затем продолжал он так говорить: — и голос его изменился.
«Оставайтесь верны земле, братья мои, со всей властью вашей добродетели! Пусть ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли! Об этом прошу и заклинаю я вас.
Не позволяйте вашей добродетели улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! Ах, всегда было так много улетевшей добродетели!
Приводите, как я, улетевшую добродетель обратно к земле, — да, обратно к телу и жизни: чтоб дала она свой смысл земле, смысл человеческий!
Сотни раз улетали и заблуждались до сих пор дух и добродетель. Ах, в вашем теле и теперь еще живет весь этот обман и заблуждение: плотью и волею сделались они.
Сотни раз делали попытку и заблуждались до сих пор как дух, так и добродетель. Да, попыткою был человек. Ах, много невежества и заблуждений сделались в нас плотью!
Не только разум тысячелетий — также безумие их прорывается в нас. Опасно быть наследником.
Еще боремся мы шаг за шагом с исполином случаем, и над всем человечеством царило до сих пор еще бессмыслие.
Да послужат ваш дух и ваша добродетель, братья мои, смыслу земли: ценность всех вещей да будет вновь установлена вами! Поэтому вы должны быть борющимися! Поэтому вы должны быть созидающими [88]
Познавая, очищается тело; делая попытку к познанию, оно возвышается; для познающего священны все побуждения; душа того, кто возвысился, становится радостной.
Врач, исцелися сам: и ты исцелишь также и своего больного. Было бы лучшей помощью для него, чтоб увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет.
Есть тысячи дорог, по которым еще никогда не ходили, тысячи здоровых натур и скрытых островов жизни. Всё еще не исчерпаны и не открыты человек и земля человека..
Бодрствуйте и прислушивайтесь, вы, одинокие! От будущего веет незаметно ветер; и тонких ушей ищет добрая весть.
Вы сегодня еще одинокие, вы, живущие вдали, вы будете некогда народом: от вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный: — и от него сверхчеловек.
Поистине, местом выздоровления должна еще стать земля! И уже веет вокруг неё новым благоуханием, приносящим исцеление, — и новой надеждой!»
Сказав эти слова, Заратустра умолк, как тот, кто не сказал еще своего последнего слова; долго в нерешимости держал он посох в своей руке. На конец, так заговорил он: — и голос его изменился.
«Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.
Поистине, я советую вам: уходите от меня и [89]защищайтесь от Заратустры! А лучше еще: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.
Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.
Плохо отплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венок мой?
Вы уважаете меня; но что будет, если некогда рушится уважение ваше? Берегитесь, чтобы кумир не убил вас!
Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре! Вы — верующие в меня: но что толку во всех верующих!
Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то всякая вера так мало значит.
Теперь я приказываю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам.
Поистине, другими глазами, братья мои, я буду тогда искать утерянных мною; другою любовью я буду тогда любить вас.
И некогда вы должны будете еще стать моими друзьями и детьми единой надежды: тогда я захочу в третий раз быть среди вас, чтобы отпраздновать с вами великий полдень.
Великий полдень — когда человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату, как свою высшую надежду: ибо это есть путь к новому утру.
И тогда идущий к закату сам благословит себя за то, что был он переходной ступенью; и солнце его познания будет стоять у него на полдне. [90]
«Умерли все боги: теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек» — такова должна быть в великий полдень наша последняя воля»!
Так говорил Заратустра.