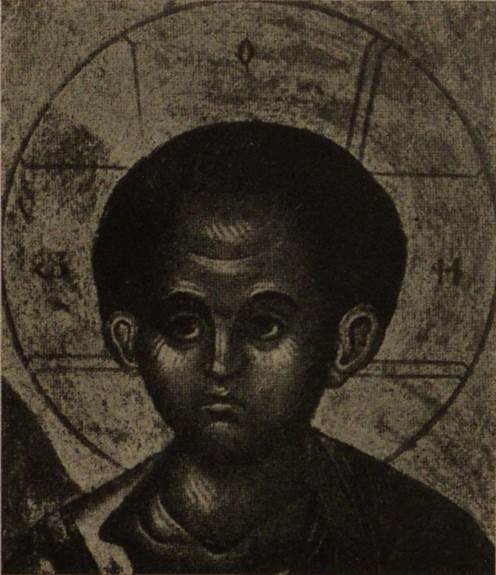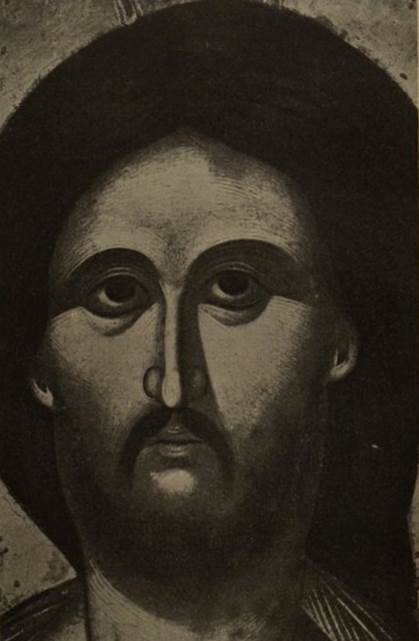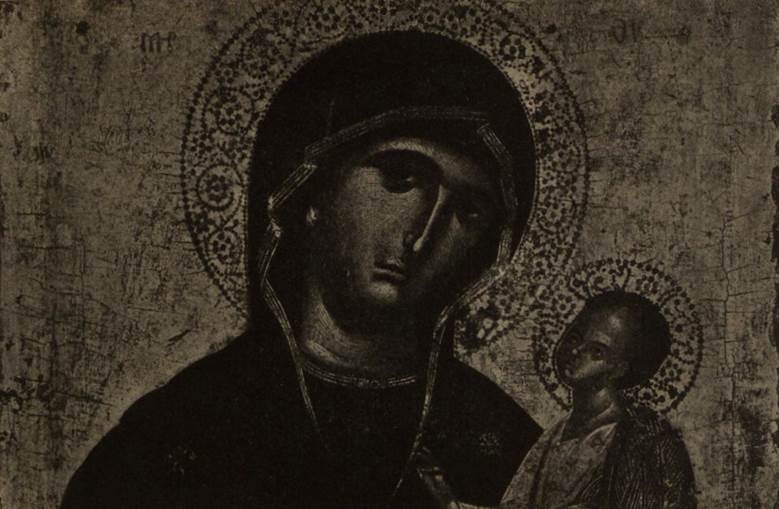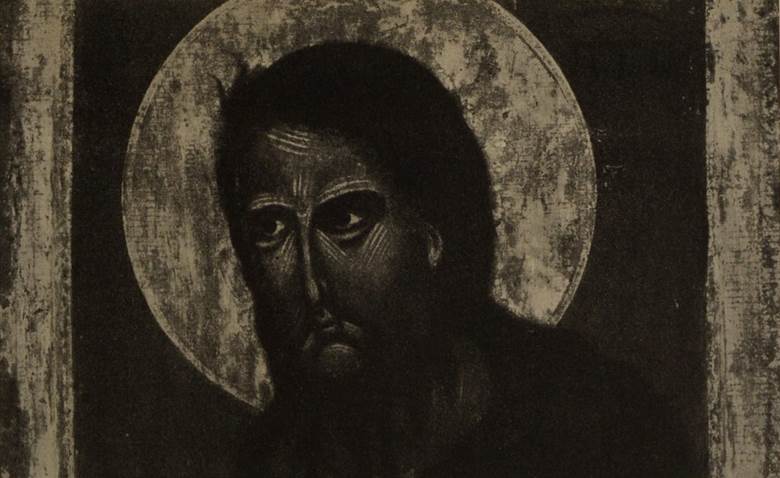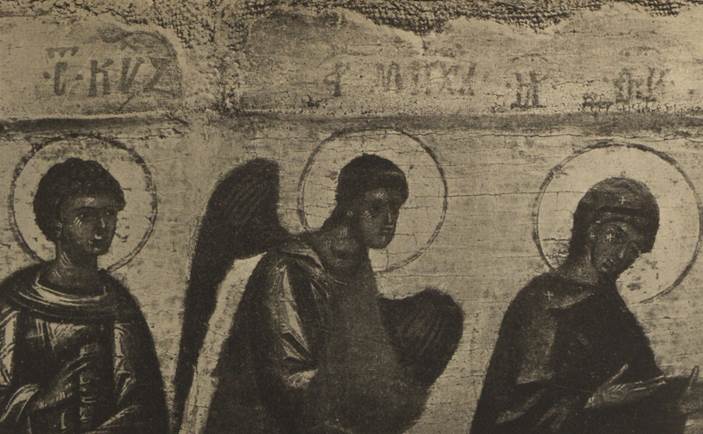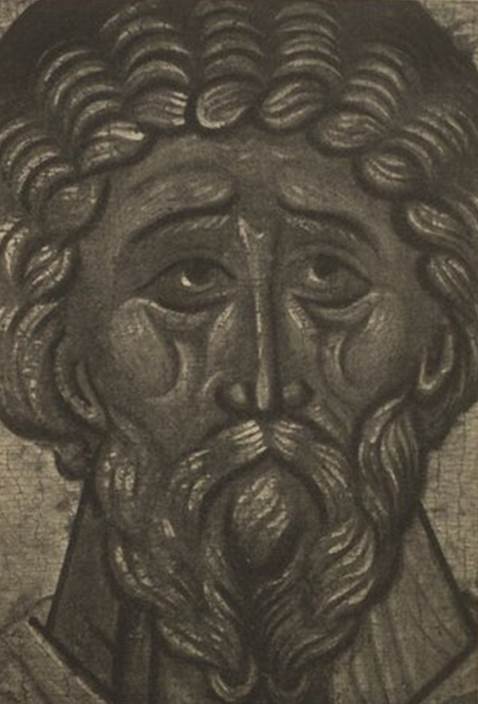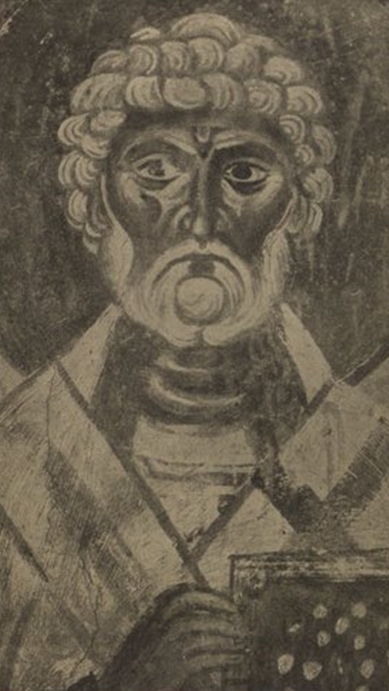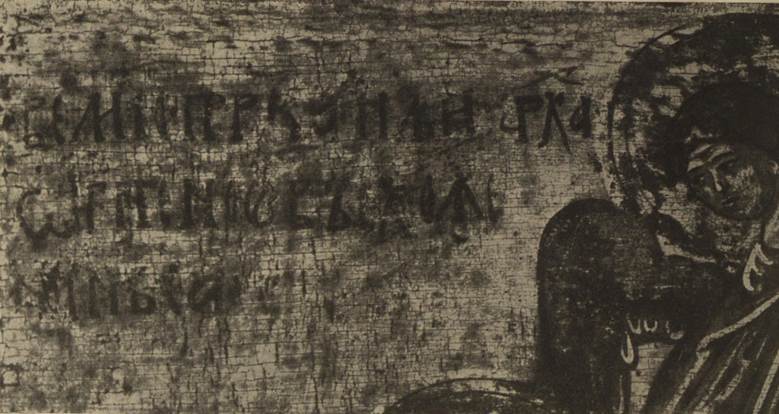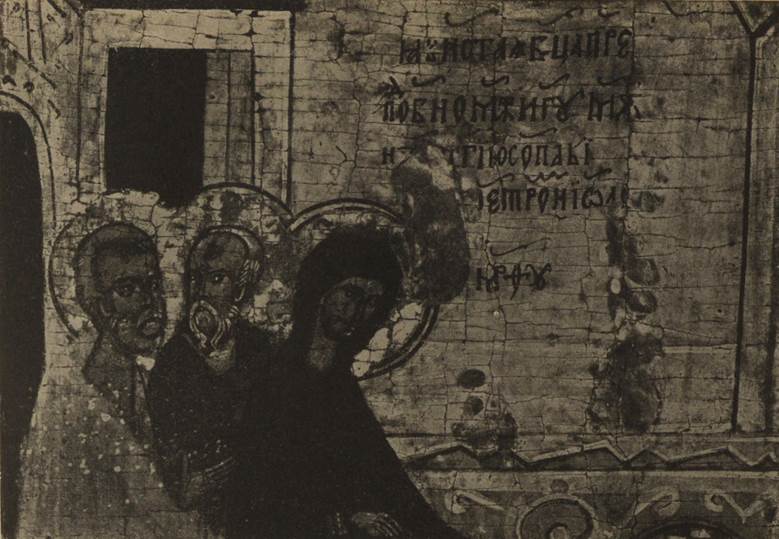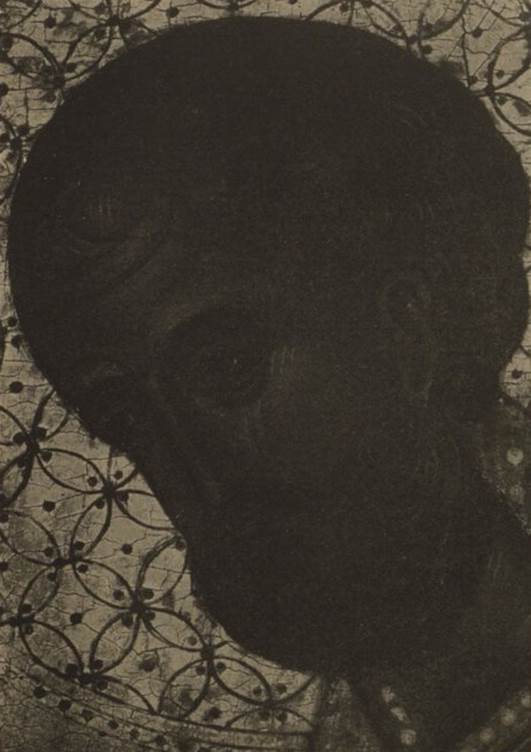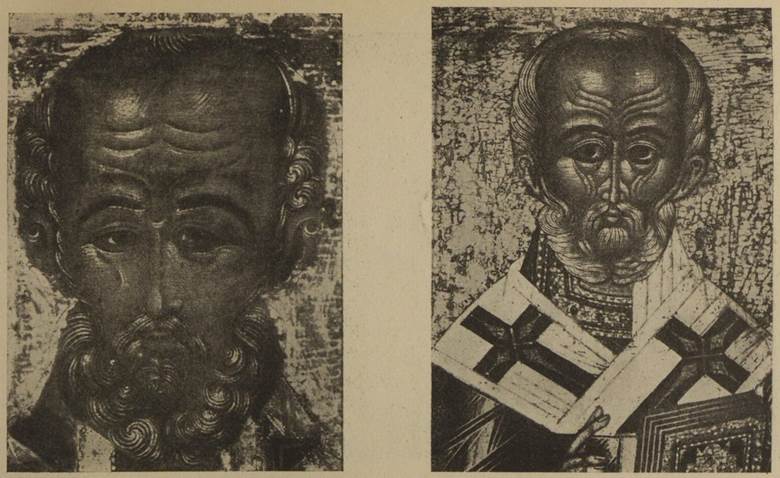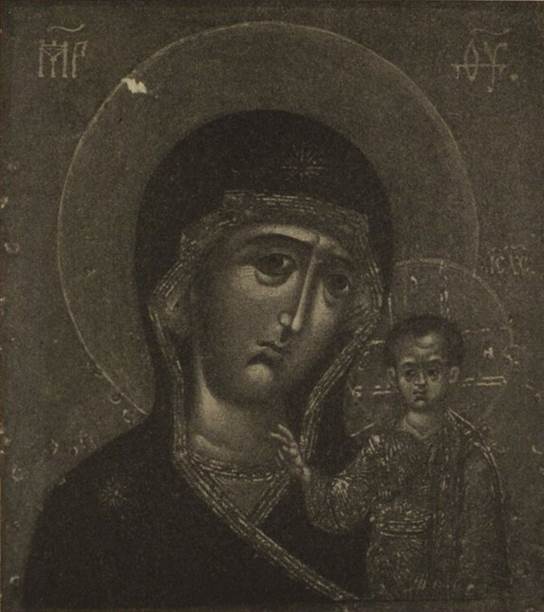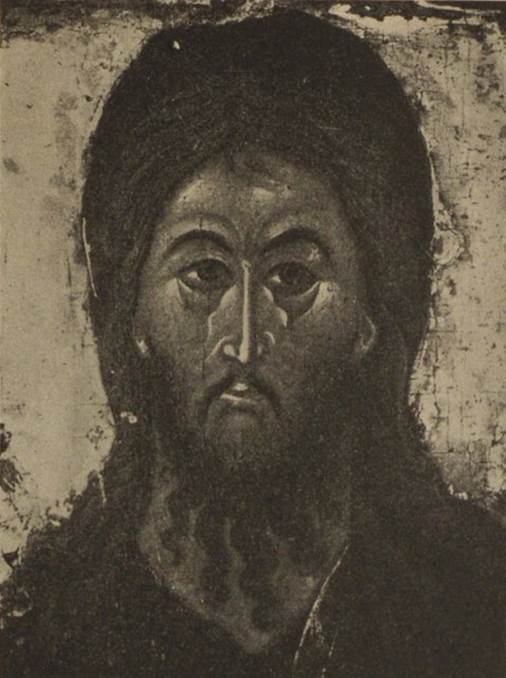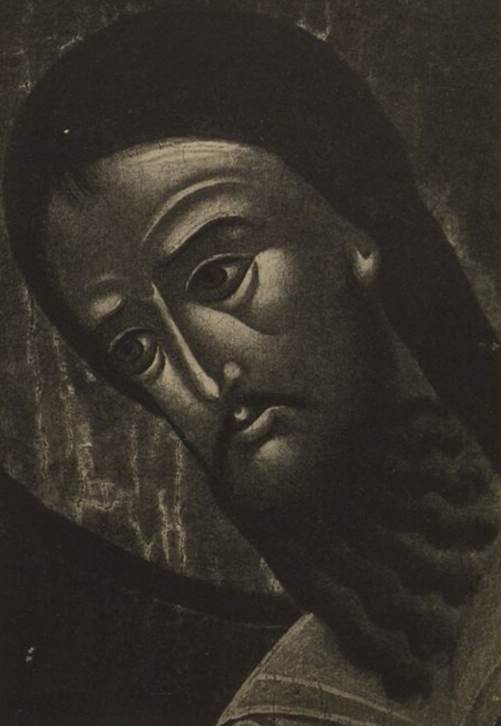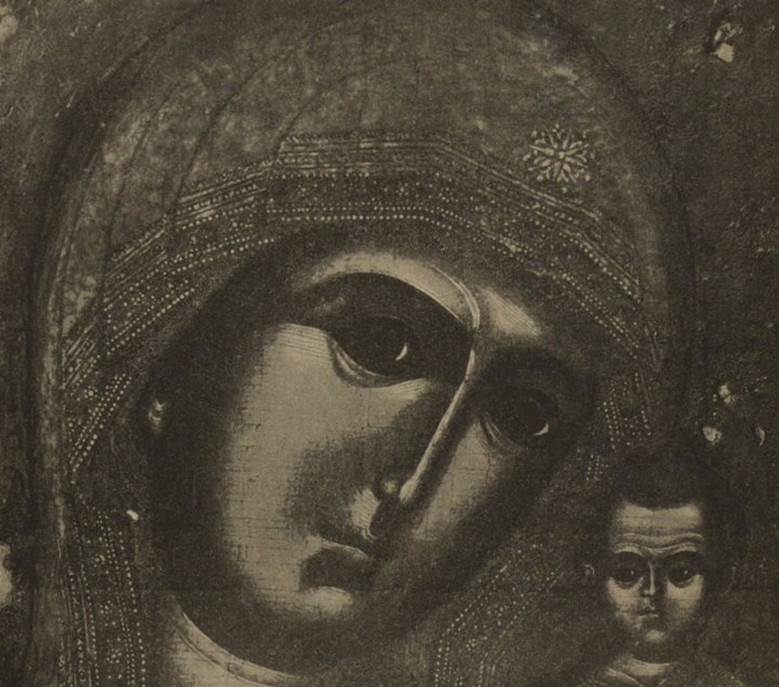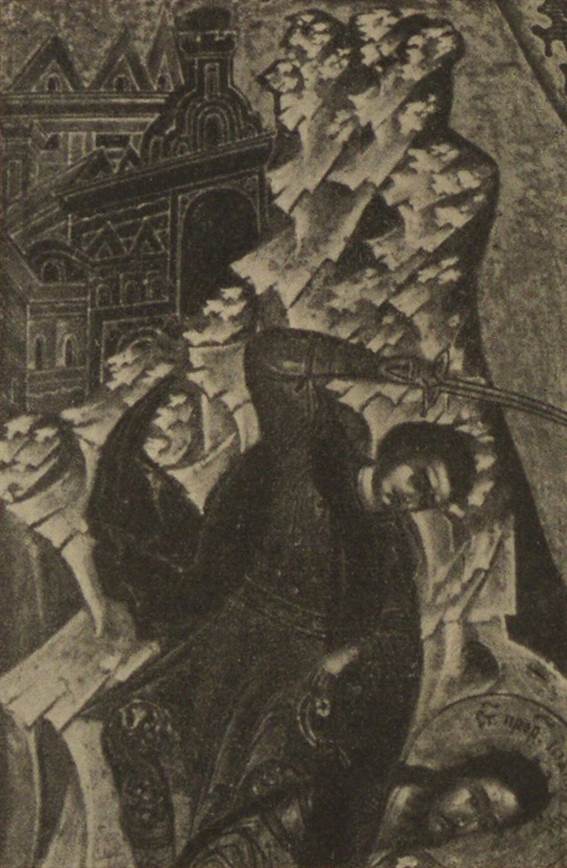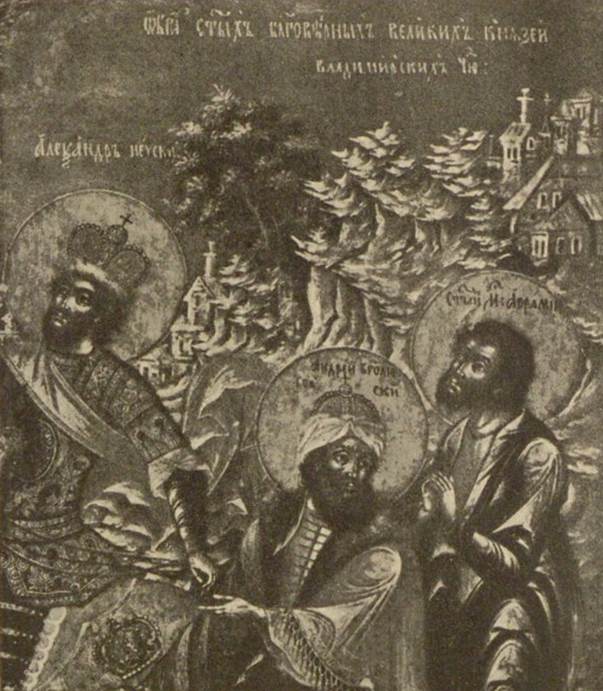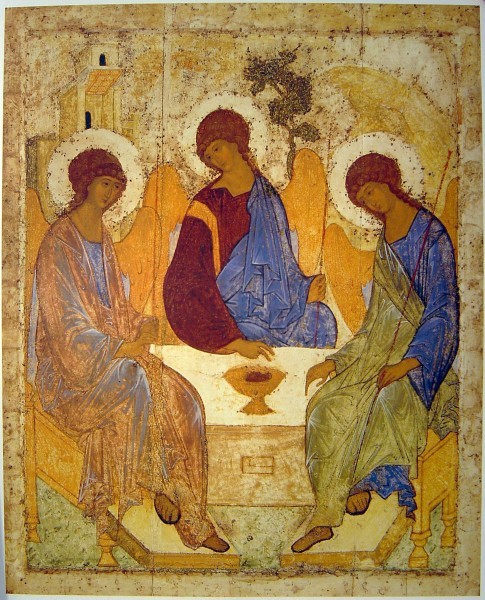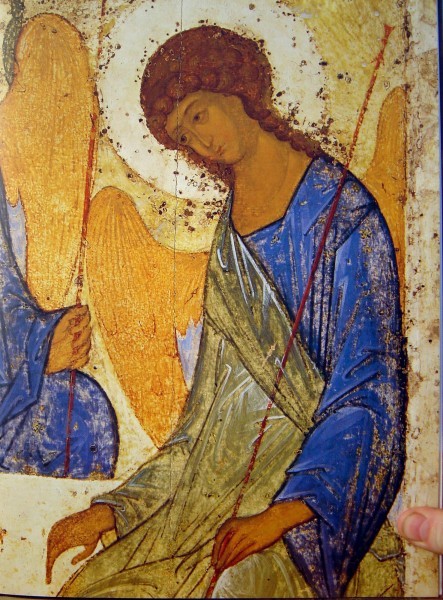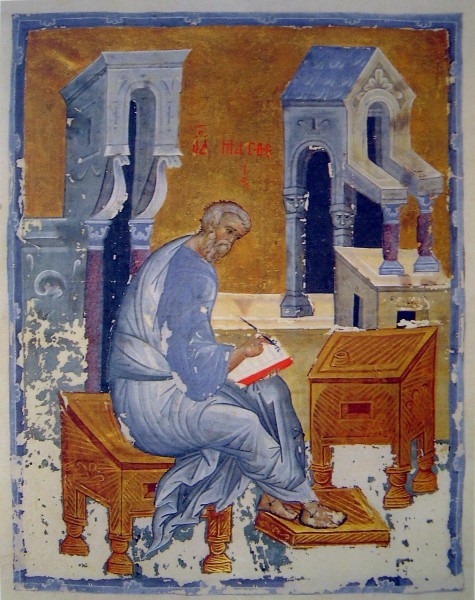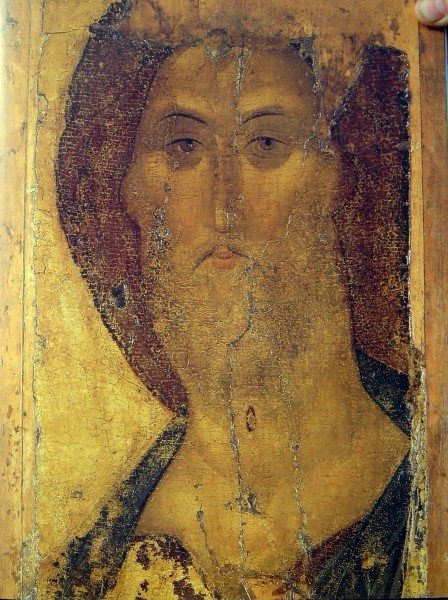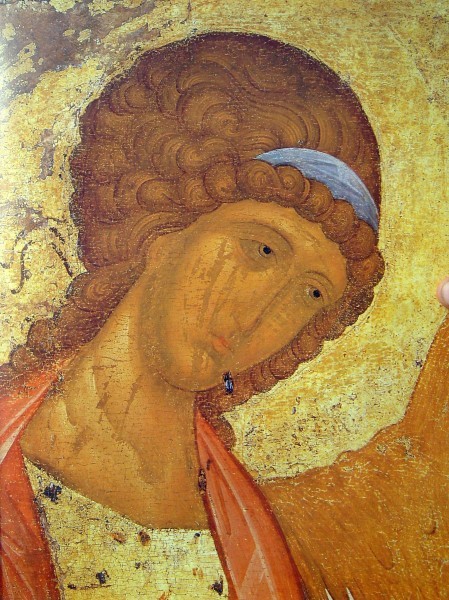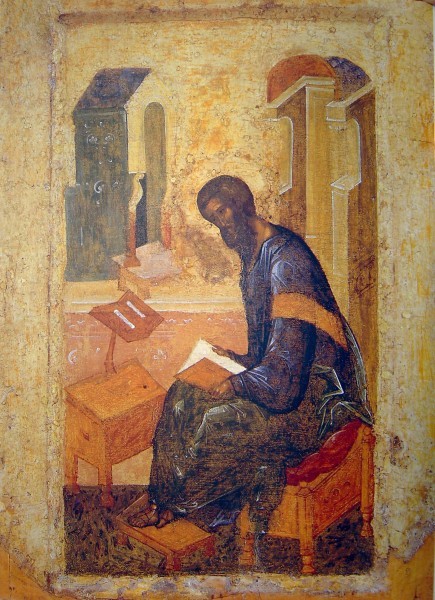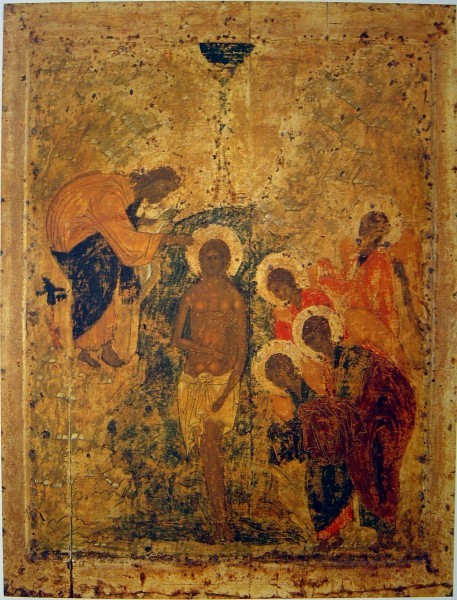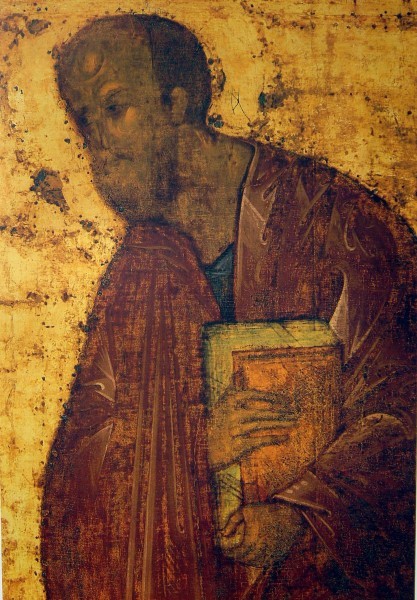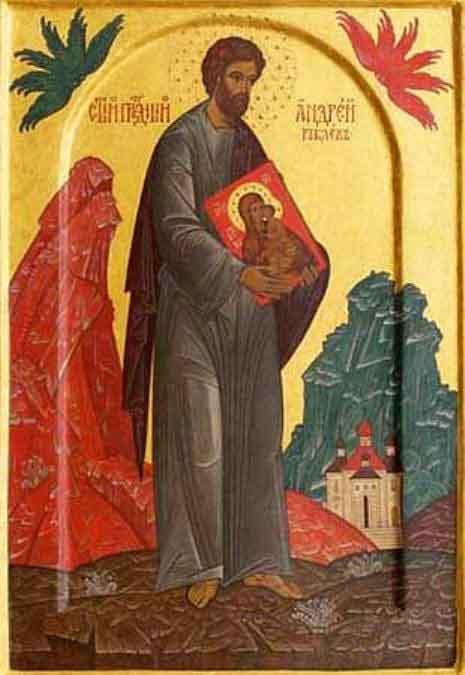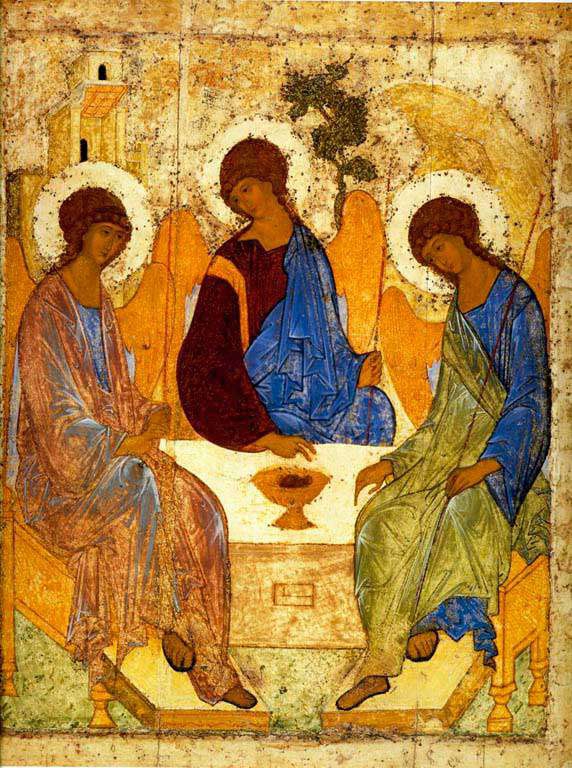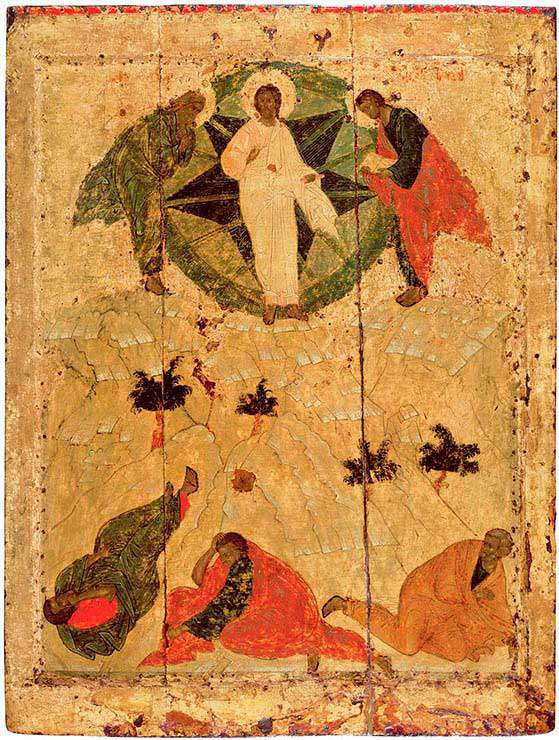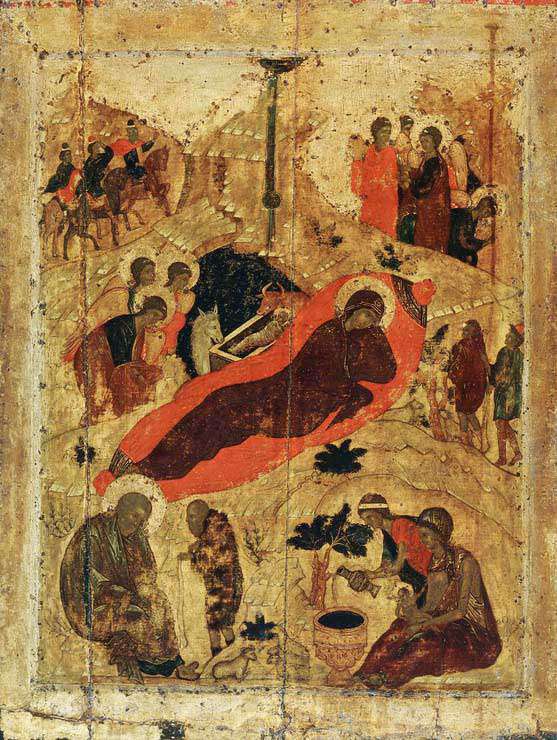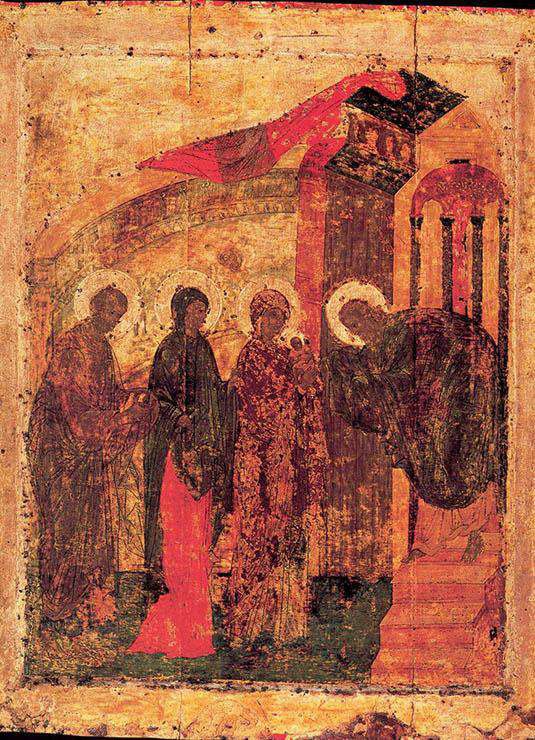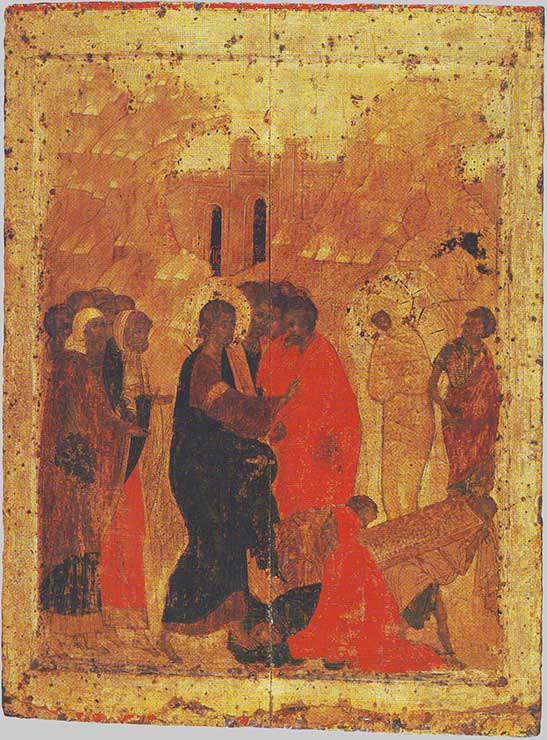Приблизительное время чтения: 5 мин.
«Писать как Андрей Рублев» — такую инструкцию для русских иконописцев утвердил в 1551 году московский Стоглавый собор. Но как именно писал Андрей Рублев? Что такого уникального было в его стиле? И почему его работы до сих пор считаются непревзойденными шедеврами иконописного искусства? Разобраться в этом нам помогает заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института святого апостола Андрея и преподаватель Коломенской духовной семинарии Ирина Языкова.
Как ни парадоксально, но известно о преподобном Андрее Рублеве очень мало. Он считался автором так называемого «Звенигородского чина» — трех образов в иконостасе звенигородского Успенского собора на Городке, но недавно факт принадлежности этих работ ему был поставлен под сомнение. Известно, что Рублев участвовал в росписи иконостаса Благовещенского собора в Кремле, но после грандиозного пожара большинство икон было утрачено, и принадлежит ли что-либо из сохранившегося Рублеву — вопрос, на который нет ответа…
Единственное, что Рублев написал несомненно, — это знаменитая «Троица».
Как тогда можно говорить об особом «стиле Андрея Рублева»?
Говорить о стиле Рублева действительно очень трудно. Но тут нужно иметь в виду один нюанс.
Иконописное искусство — принципиально анонимное, авторы почти никогда не ставят на иконах свои имена. И, тем не менее, имя Андрея Рублева — запомнилось. Оно фигурирует в летописях, его работы ценил и собирал основатель Волоколамского монастыря преподобный Иосиф Волоцкий. Значит, слава Рублева была велика, современники отмечали его, видели, что он не копиист, не подражатель византийских мастеров.
Андрей Рублев был не только художником, он был богословом, и современники это ценили.
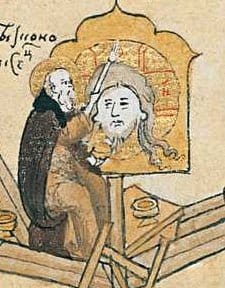
В эпоху, когда жил преподобный Андрей (а это конец XIV— начало XV века), не было ничего зазорного в том, чтобы копировать иконы чужого письма. Иконописцы часто делали списки с других икон — интерпретации исходного образца, часто довольно вольные, но обязательно связанные с оригиналом.
А у Рублева мы находим нечто совсем другое. Богословскую новизну, богословскую смелость.
Круг художественных памятников, так или иначе связанных с Андреем Рублевым, очень отличается от всего остального искусства той эпохи. Так, как написал «Троицу» Рублев, ее не писали прежде никогда. Иконописцы традиционно обращались к сюжету «Гостеприимства Авраама»: изображали, помимо трех Ангелов, Авраама и Сарру, накрытый стол, заколотого тельца и т.д.
Икона «Гостеприимство Авраама»
Время создания – XVI век, место хранения – Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Сюжет иконы опирается на повествование Книги Бытия о посещении дома Авраама и его жены Сарры Господом в образе трех мужей. Авраам угостил посетителей, приказав Сарре приготовить опресноки, а слуге – заколоть тельца, и получил от Господа обетование, что у него родится сын, в котором благословятся все народы (Быт 18:1-19).
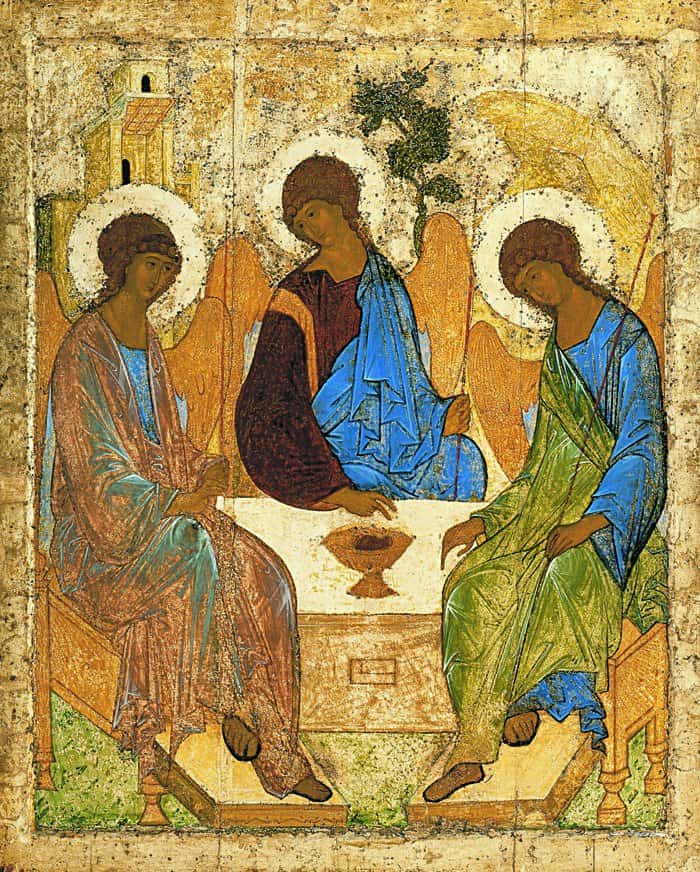
Рублев же создал икону, сосредоточенную не на бытовых деталях, а на богословии. Три Ангела — образ Предвечного Совета Лиц Святой Троицы, на котором решается участь человека. И чаша — образ святой Евхаристии…
Кроме того, «Троица» Рублева — явление поразительной гармонии и красоты. Бог является здесь в красоте и гармонии. Красота — одно из имен Божиих. И в этом тоже есть глубокое богословие.
Где еще мы находим «почерк» Рублева?
Весьма вероятно, что Рублеву принадлежит часть росписей в Успенском соборе Владимира — фрески с изображением Страшного Суда. И в этих фресках мы тоже видим глубокое богословское осмысление, свойственное Рублеву.
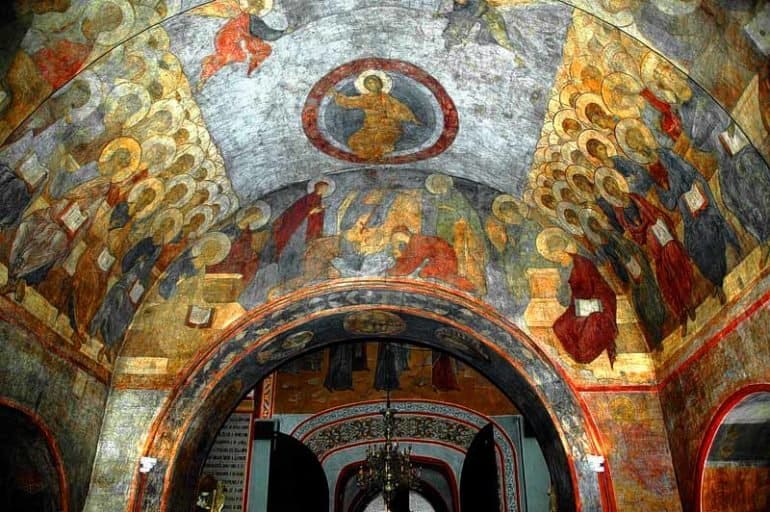
В его Страшном Суде нет ничего страшного, пугающего! Главное во всей этой композиции — явление Христа. Христос грядет, а Церковь Его встречает — вот ключевой смысл всей этой масштабной работы. Дух, которым она пронизана, удивительно мирный. Ангелы мирно беседуют с апостолами; апостол Павел ведет праведников в рай, размахивая с надписью «Грядете со мною», как бы зазывая всех за собой. Апокалиптические картины умещаются в одном-единственном круге: здесь Андрей Рублев изобразил из видения пророка Даниила, символизирующих четыре царства последних времен. Весьма характерно, что царство антихриста он представил в виде гиены, противной собачки, скорее мерзкой, чем страшной, место которой где-нибудь в углу.
А как же «Спас» из «Звенигородского чина»?
Мое мнение — этот образ тоже принадлежит Рублеву. Это такая выдающаяся работа, что ее обязательно должны были связать с кем-нибудь из мастеров. Если бы появился другой иконописец такого высокого уровня, его имя обязательно должно было бы выйти наружу. Князь Юрий Звенигородский, при котором проводилась роспись Успенского собора, не преминул бы похвастаться, если бы у него работал такой талантливый художник.
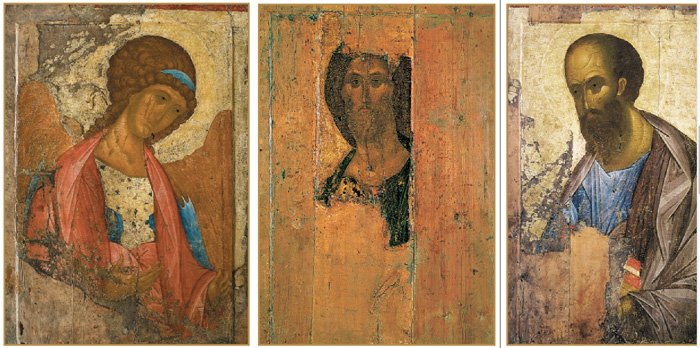
Но никаких других имен, кроме Андрея Рублева, в исторической литературе не звучит.
В лике Спаса Звенигородского нет и намека на ту удручающую суровость, которую мы часто замечаем в образах Спасителя. Этот лик одновременно и строгий, и ласковый. Необычны и боковые иконы: апостол Павел, иконописный образ которого обычно довольно строгий, здесь склоняется перед величием Господа, подносит Священное Писание словно бы к трону царя. И Архангел Михаил, которого Откровение Иоанна Богослова рисует в виде воина, возглавляющего битву с воинством сатаны, — здесь он вовсе не воинственный, а милостивый.
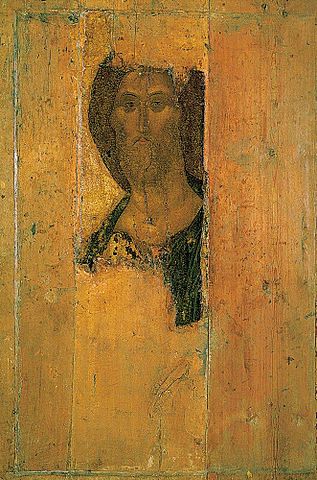
Не секрет, что Андрей Рублев входил в плеяду учеников преподобного Сергия Радонежского, который был связан с традицией. А в русском исихазме вообще особый акцент на милости Божией.
Иногда можно услышать, что будто бы Андрей Рублев просто перенял поздневизантийский стиль писания икон, который мог прийти на Русь через юго-западные границы. Но, всерьез изучая работы Рублева, мы приходим к однозначному выводу: даже если какое-то византийское влияние и было, он переработал, «переплавил» его до неузнаваемости в свою самобытную манеру.
Подготовил Игорь Цуканов
Читайте также:
Андрей Рублев. Звенигородская история
Реферат, читанный 17-го марта 1906 года
1. Средний ангел на иконе св. Троицы в Троице-Сергиевой Лавре. Принадлежность этого образа кисти Андрея Рублёва доказывается не только преданием, но и историей иконы, неоднократно упоминаемой в исторических источниках
Наталии Геннадиевне Лихачёвой посвящает нежно любящий её муж-автор
Отличительной особенностью старейшей русской иконописи, особенностью крайне затрудняющей исследователя, является сплошная, можно сказать, анонимность. Если в редких случаях и делалась запись о «молении» лиц, на чьи средства была сооружена икона, или надпись о вкладе, то всё-таки, в подавляющем большинстве известных нам фактов – без всякого указания на имя мастера, написавшего образ. Благочестивые иконописцы почитали греховным тщеславием увековечение памяти их мастерства путём подписей.
Летописные записи почти исключительно говорят о росписях церквей, исполнявшихся целыми товариществами мастеров, труды которых к тому же впоследствии неоднократно записывались и переписывались.
2. Старая византийская икона на дереве. Образец весьма редкий. «Письмо» невысокого мастерства, но для истории иконописи очень любопытное
3. Византийская икона, позднейшего периода, может быть, Афонского происхождения
4. Поздне-византийское (XV век?) «письмо» (яркое вохрение). Образец, занесённый в Москву. Обращает внимание тип Младенца (связь с итало-греческими письмами)
Для определения индивидуальных творчества и технического мастерства вся русская до-Петровская иконопись, за исключением подписанных икон XVII столетия, даёт такое незначительное количество данных, что исследователи вынуждены ограничиваться попытками распределения материала глухо – по местностям и по времени. По той же причине старая терминология деления на иконописные школы сменяется указанием на «письма», свойственные известной эпохе или характерные для той или другой местности.
Исследователи и любители в данном случае пользуются самыми разнообразными признаками и приметами:
1) Цвет лиц. Вопрос о так называемом вохрении. Цвет ликов на русских иконах очень разнообразен. Начиная от совершенно белых лиц на некоторых московских иконах и до коричневых – в краснину и коричневых – с тёмно-оливковым оттенком на некоторых памятниках главным образом XVI столетия, имеется ряд «вохрений», группирующихся в несколько пошибов. Наблюдения над иконами делают несомненным вывод, что цвет ликов отнюдь не случаен в зависимости от вкуса иконника, а характеризует определенную иконописную манеру1.
5. Деталь иконы, изображённой на рис. 4.
2) Одежда. В одеждах, как и в типах лиц святых, можно подметить ряд изменений византийской основы. Лица – руссифицируются – продолговатый овал сменяется – широколицым русским типом с небольшим носом. Св. Прасковья, например, на московских иконах, в полном смысле слова «круглолица, белолица». Постепенно появляются – шубы, особые рукава, особый покрой одежд. Весьма типичны изменения в пробелке одеяний, заимствованной из глубокой византийской древности. Старые византийцы, может быть, несколько схематично, но всё же довольно точно обрисовывали широкими штрихами складки, облегающие формы тела. Русские мастера постепенно всё более и более искажали складки одеяний, малопонятных в холодной, вынужденной кутаться, Руси, – в схему черт, сначала широких и резких, потом всё тоньше и тоньше. Формы тела постепенно исчезают под хитрым каноническим узором черточек и полосок, в какой превратилась пробелка линиями в XVII столетии.
6. Поздне-византийское письмо. Образец, занесённый в Москву. Яркое вохрение
3) Здания, – то есть, так называемое «палатное письмо» в схеме своей конечно также заимствовано из Византии и сохранялось долго и тщательно. Но и тут архитектурные новшества проскальзывают нечаянно для самого иконописца и дают ценные показания (например, хотя бы – форма куполов)2.
7. Итало-греческое мастерство. Апостол Пётр (с иконы Успения Божьей Матери в собрании автора)
8. Итало-греческое мастерство. Апостол Павел (с иконы Успения Божьей Матери в собрании автора)
4) Ландшафт, главным образом горы. Скалистый пейзаж искажается весьма быстро. Малопонятные русскому человеку (обитателю великих равнин) скалы под кистью иконописца переходят в уступы остроугольной формы, а затем в ряд мелких и коротких чёрточек, разбросанных в разных направлениях3.
5) Красочный и золочёный фон также способен дать указания. Так, например, очень типичны – красный фон некоторых древнейших икон и весьма распространенный жёлтый фон московских писем.
6) Очень ценны наблюдения над излюбленными красками и манерой их употребления. Рядом с яркими, густо наложенными красками мы видим манеру бледных, как бы полупрозрачных окрасок одежд, наиболее трудно поддающихся современным подделкам. Одно время (как кажется исключительно в XVI столетии) господствовала мода на тёмные «смирные» цвета. Вопрос об употреблении переходных тонов также представляет большой интерес и вызывает пожелание о скорейшем его исследовании.
7) Внешние приметы тоже не лишены значения. Так – Москва распространила повсюду мерные иконы (излюбленный размер 6х7 вв.). Иконы Новгородские, да и наиболее древние московские, не мерны, и в огромном большинстве случаев более продолговаты. Поздние иконы писались на толстых досках, нередко с двойной выемкой. Выемка московского периода оставляет более широкие поля, чем в новгородских иконах; ново-греческие иконы имеют поля ещё уже, чем русские древние иконы «новгородских» и «северных» писем. Особенное широкополье признак тщательной выделки доски и обыкновенно признак лучших писем. Можно подобрать и ещё ряд подобных примет, не лишённых оснований.
9. Итало-греческое мастерство особой манеры верхнего вохрения (пробелка чёрточками). Икона Спасителя, оглавная, в собрании автора
10. Итало-греческое мастерство особой манеры верхнего вохрения (вохрение яркое, пробелка чертами). Образ Божьей Матери, в собрании автора
Если мы прибавим к сказанному услуги палеографии вещевых надписей, мало ещё разработанной, но в связи с палеографией общей, уже обладающей громадным запасом данных, то станет ясно, что распределение русских икон по времени написания и по местностям производства возможно, если не в настоящем, то в будущем, когда иконописный материал будет собран и описан.
Надо сказать, что пока наблюдений сделано недостаточно и схема «писем», заимствованная у старообрядческих иконописцев, схема – касающаяся главным образом местностей, не заменена более научной.
При отмеченной нами анонимности древних икон особенное значение приобретает попытка приурочить ту или другую манеру к определенному лицу. Мы не будем говорить о поздних «ушаковских» письмах. Симон Ушаков, талантливый распространитель фрязи, оставил ряд подписанных им икон и потому «школа» его может быть выяснена до подробностей.
Совсем другое дело вопрос о «рублёвских письмах». Поразительно это единственное исключение среди анонимных писем, распределённых по русским областям.
Как хорошо известно, Рублёв (о нём есть монография М.И. и В.И. Успенских)4 был инок Спасо-Андроникова монастыря. Это – вполне достоверно; весьма вероятно, что ранее этого он монашествовал в Троице-Сергиевом монастыре. В подлинниках о Рублёве читаем: «а преже живяше в послушании у преподобнаго Никона Радонежскаго», но кто он был родом и откуда – не выяснено. Иконописный подлинник говорит – «преподобный отец Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублёв, многие св. иконы написал – все чудотворные», но и эта запись, по преданию, не вполне точно свидетельствует о происхождении из Радонежа: её можно объяснять тем обстоятельством, что Рублёв был монахом в обители Сергия Радонежского. О.И. Буслаев произвольно предполагал даже, что Андрей Рублёв и был учеником школы преподобного Сергия5. Ещё менее обосновано предположение И.М. Снегирёва о том, что Рублёв происходил из Пскова, только на основании того, что некий боярин Рублёв приезжал из Пскова послом к в. к. Ивану III в 1486 году (см. Псковскую летопись).
11. Пример одного из старейших русских писем. Богоматерь поясного Деисуса (34½ с. х 23 с.). Несмотря на то, что верхнее вохрение повыгорело и просечивает санкир, видно, что цвет лика должен был быть яркий с подрумяненными щёчками. Очертания носа, ушей и брови прочерчены тёмно-красной краской. Фон киноварный (очень типичный именно для старейших писем)
12. Св. Иоанн Предтеча «пⷬ҇тца» поясного Деисуса (34½ с. х 23 сант.). Те же особенности, что у №11. Губы очерчены красной краской
Таким образом, откуда был Рублёв и где учился, – мы не знаем. Летописные известия рассказывают лишь о совместной иконописной деятельности Андрея Рублёва, как с знаменитым мастером греком Феофаном, прибывшим из Новгорода, так и с русскими иконниками. В 1405 году Рублёв расписывает, как сотрудник Феофана и русского старца Прохора Городецкого, Благовещенский собор на князя великого дворе. В 1408 году Даниил иконник (писан на первом месте) да Андрей Рублёв подписывают Успенский собор во Владимире. Незадолго до смерти преподобного Никона, по его усиленной просьбе, Андрей Рублёв и сопостник его Даниил украсили своим письмом Троицкий Собор в монастыре преподобного Сергия. Росписью церкви Всемилостивого Спаса в Андрониковом монастыре старцы Даниил и Андрей (см. житие Никона в Макарьевских Минеях) «последнее рукописание на память себе оставиша».
Скончался Андрей Рублёв по одним известиям в 1427, по другим в 1430 году – «в старости велице». Это выражение свидетельствует о том, что юность и зрелые годы Рублёва принадлежат XIV столетию, а мы ничего не знаем о деятельности его за это время.
Несмотря на то, что в первоисточниках Андрей Рублёв писан везде или на последнем, или на втором месте (объяснение в важном для биографии Рублёва показании Иосифа Волоколамского, что Андрей был ученик старца Даниила) – слава его превзошла всех его сотрудников. Иконы Андрея Рублёва считались драгоценностями. То обстоятельство, что «Деисус Андреева письма Рублёва сгорел» записано в летописи; в житии Иосифа Волоцкого рассказано, что когда он, намереваясь помириться с князем Феодором Борисовичем – «начать князя мздою утешати – и посла к нему иконы Рублёва письма и Дионисиева»6.
13. Св. апостол Петр («агиѡсъ (г и и написаны в виде лигатуры) петръ») от поясного Деисуса (34½ с. х 22сант.). Отличительные признаки, что и у №№ 11, 12. На правой руке на пальце ключ. По трещине у левого глаза подправка. Левкасная подготовка резко отличается от обычной. Дска без выемки, тогда как у №№ 11, 12 и 14 выемка имеется.
14. Cв. Апостол Павел («павелъ агиѡсъ» г и и написаны в виде лигатуры) от поясного Деисуса (31½ с. = 23 ¼ с.). с закрытой книгою. Особенности письма те же, что и у №№ 11, 12. Форма «агиосъ» с «ъ» на деревянных иконах чрезвычайная редкость.
15. Св. Евангелист Иоанн Богослов, миниатюра с резкими оживками и особенным типом горок, из Евангелия, написанного в Московской области при великом князе Василии Дмитриевиче (находится в Императорской Публичной Библиотеке). Фотография подчеркнула оживки резче, чем они видны на оригинале. Вохрение не яркое, скорее желтое с налетом в краснину. Ср. очень близкое по времени изображение Иоанна Богослова на миниатюре 1401 года у В.Н. Щепкина в его «Новгородская школа иконописи»
Стоглавый собор, внеся имя Андрея Рублёва в свои постановления, окончательно упрочил славу знаменитого иконописца. И археологи XIX столетия говорят с восхищением о мастерстве Андрея Рублёва. Вспоминая икону св. Троицы в Троице-Сергиевой Лавре, Шевырев пишет: «Письмо византийское превосходное. Необычайная красота и грация разлиты по этим ликам (трёх ангелов) чисто греческим. Очертания лиц, глаз и волос имеют волнистое движение (sic!). Все три ангела с любовью склоняют друг к другу головы и составляют как бы одно нераздельное целое, выражая тем символически мысль о любвеобильном единении лиц Пресвятой Троицы»7. Иванчин-Писарев высказывается еще оригинальнее: «она являет в себе один из лучших, цельнейших памятников Византийского искусства, ибо стиль рисунка и самого живописания кажет в ней цветущее время оного».8 Цену этих ученых восторгов (оказавших однако влияние на последующую литературу) мы узнаем, приведя справку о новейшей реставрации иконы, произведенной В.П. Гурьяновым9: «Наиболее испорченные места я предполагал дополнить с Рублёвской иконы. И вот, когда с этой последней снята была золотая риза, то каково же было наше удивление! Вместо древнего и оригинального памятника мы увидали икону, совершенно записанную в новом стиле Палеховской манеры XIX века. На ней фон и поля были санкирные, коричневые, а надписи золотые, новые. Все одежды ангелов были переписаны заново в лиловатом тоне и пробелены не краской, а золотом; стол, гора и палаты вновь прописаны… Оставались одни только лики, по которым можно было судить, что это икона древняя, но и они были затушеваны в тенях коричневатой масляной краской».
16. Старое русское письмо с влиянием греческого (деталь большой иконы Воскресения Господа Иисуса Христа, находящейся в собрании автора). Произведение далеко не первоклассного иконописца, но любопытное по манере и времени, к которому относится памятник.
А между тем икона св. Троицы в Лавре доселе остаётся едва ли не единственным образом, более или менее достоверно принадлежащим кисти Андрея Рублёва. В житии преподобного Никона записано, что он поручил Андрею Рублёву написать икону св. Троицы – «в похвалу отцу Сергию». И житие составлено было очень рано, да и сама икона, храмовая и особенно чтимая, с которой в XVI столетии уже писались копии, относится, по-видимому, ко времени устроения собора.
Из церковных росписей, приписываемых Рублёву, частично сохранились фрески Успенского Собора во Владимире и что-то в небольшом количестве было недавно открыто в Троицком Соборе Троице-Сергиевой Лавры и, сколько знаю, ещё не вошло в научный оборот. Первая открытая фреска вызвала разочарование10. Оставив в стороне Троицкую роспись (которой и не могли пользоваться исследователи, говорившие о «письмах» Рублёва), мы должны к Владимирским фрескам отнестись с особенной осторожностью. Отзывы о них разноречивы.
17. Св. Климент, папа Римский (деталь иконы, находящейся в частном старообрядческом собрании). Образец одной из манер иконописи Новгородской области до тех «новгородских писем», которые описаны Д.А.Ровинским. Икона была в правке, приписанные верхние пряди волос резко отличаются тёмным цветом
Академик Н.П. Кондаков и гр. И.И. Толстой в «Русских Древностях»11 говорят, что «сам стиль росписи, высокие фигуры, детальное мелкое письмо, а также различные подробности, например, головные уборы святых, идущих в рай, указывают на XV век». Проф. Н.В. Покровский выражается ещё осторожнее, хотя и склоняется к предположению о принадлежности стенописи именно Андрею Рублёву: «Более верным признаком служит стиль росписи; стройные фигуры изображенных здесь святых, тонкие черты лиц, тщательность и чистота отделки, а также головные уборы цариц, идущих в рай, напоминают лучшую московскую иконопись XV-XVI вв.»12.
18. Св.Климент, папа Римский, фреска Спасо-Нередицкой церкви (с фотографии Императорской археологической Комиссии)
Проф. И.Д. Мансветов идёт ещё далее: «нет сомнения, что между этими фресками сохранилось и древнее письмо, может быть, Андреевского времени, но в картинах Страшного Суда виден уже позднейший стиль и некоторые иконографические признаки ясно указывают на приёмы строгановского письма. Древняя живопись тут, очевидно, поновлена»13.
Рублёвское мастерство, стоящее на рубеже XIV и XV вв. – и, так называемые, «строгановские письма», начало которых должно относиться к рубежу XVI и XVII вв.! Сколько изменений произошло за эти два века в русской иконописи!
19. Св. апостол Анания, миниатюра XIV столетия из Пролога Московской Типографской Библиотеки (по манере напоминает древнейшие «письма» Новгородской области)
А с другой стороны В. И. Успенский, очевидно, по совещанию с палеографами, утверждает, что «палеографические данные некоторых надписей указывают на XII-XIV век» .
Очевидно, что на основании такого материала говорить об особенностях письма Андрея Рублёва было бы более, чем рискованно.
В.И. Успенский в упомянутой нами монографии свёл указания на иконы, приписываемые Андрею Рублёву. А.И. Успенский в «Переводах с древних икон, собранных В.П. Гурьяновым» (М. 1903. 4°), дополнил эти сведения указанием из архивных источников на «застенок Рублёва письма», находившийся в 1669 году в «Образной Палате».
20. Миниатюра из Козьмы Индикоплова, рукописи XV столетия (Кир.Бел., №1197). Явное сходство с иконописью XV века.
Об иконе св. Троицы мы говорили.
Очень важен вопрос о храмовой местной иконе в Кирилло-Белозерском монастыре. В описных книгах 1621 года уже значится: «Образ местной Успения Пресвятой Богородицы Рублёва письма», и в приходо-расходной тетради об устроении ризы в 1614 году на икону преп. Кирилла, писанную св. Дионисием Глушицким, сказано: «да у Успения Пречистые Богородицы от Рублевого письма взят репей злат». Несмотря на странное искажение – «рублёвого» (напоминающее, кстати сказать, что и в лицевой летописи XVI в. говорится о мастере – «Андрей Рубль» и изображается он не в монашеской одежде) – предание ценно и вероподобно. Что на иконе изображен Авфоний – это отнюдь не говорит о позднем времени. В.И. Успенский, опровергая мнение Н.В. Покровского, указывает на несомненно древний саккос митрополита Фотия (ум. 1431), а я могу прибавить, что Успение с Авфонием находится среди миниатюр сербской Мюнхенской Псалтири (см. табл. XXIII, 49), отнесенной Сырку к первой половине XV в., а академиком Ягичем – к началу этого столетия («obgleich aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich der Münchener Kodex schon in den Anfang des 15 Jahrhunderts zu setzen ist»), по моему же мнению, представляющий памятник последней четверти XIV столетия.
21. «Причащение», миниатюра Евангелия 1339 года (Антониева-Сийского монастыря)
22. «Причащение», деталь с царских врат, письма XV столетия Новгородской области (находится в собрании автора)
К сожалению, Кирилло-Белозерская икона сплошь покрыта ризой, и о ней судить весьма трудно.
В Твери в Троицкой Затьмацкой церкви есть икона с надписью, что она письма Рублёва. Икона изображает ветхозаветную Троицу в переводе более сложном, чем Лаврский образ, а именно с Авраамом, Саррой и отроком, заколающим тельца. Внизу иконы надпись: «Письмо сии образ бывшего Государева ма(с)тера Мо(с)ковскаг(о) Рублева» – позднейшая и сделанная, по-видимому, для увековечения предания. Икона ветха и очень зачинена.
23. Св. Иаков, брат Господень, окинопись Новгородской области, имеющая связь с южно-славянской миниатброй и предшествующая «новгородским письмам», описанным Д.А.Ровинским (деталь иконы, находящейся в собрании автора). Вохрение не жёлтое, а яркое с розоватым оттенком
В «Древностях Российского Государства» издан снимок с иконы святых Макария Египетского и Макария Александрийского, о которой сказано: «наследственное предание выдает сию икону за произведение кисти знаменитого в свое время Андрея Рублёва; теперь она принадлежит Московскому мещанину Даниле Андрееву» (Отд. I. М. 1849, стр. 23).
По поводу этой иконы Снегирев говорит: «Как из этого образа, так равно из других, известных под именем Рублевых, можно судить о рисунке и раскраске в школе его, запечатлённой характером Византийского и Корсунского стиля. При своей неправильности, сильный и твёрдый его рисунок высказывается в резких чертах; колорит же вообще единообразен и мрачен, но плавок и плотен: тон строго подчинён идее. Отчётливость, тонкость и чистота отделки свидетельствуют об искусстве и ловкости приёмов, а точное согласование изображаемых лиц с преданиями православной церкви обнаруживает в художнике основательное знание её учения и древностей»14.
24. Св. Лавр, деталь той же иконы, что и №23
Едва ли не это более чем туманное определение на основании приписываемого материала способствовало выводам, сделанным проф. А.П. Голубцовым15 и за ним А. Новицким16, что: «оставаясь верным задачам церковной живописи, Рублёв оживил монотонность пошиба и привнёс в иконопись ту художественность исполнения, которой отличались потом лучшие произведения московской кисти, близко соприкасавшиеся с этой стороны с иконами, так называемого, строгановского письма».
В этой научной отписке, что ни слово – то фальшь. Где находятся те до-Рублёвские иконы, характеризующиеся монотонностью пошиба, какие иконы Рублёва могут соприкасаться с художественностью икон «строгановского» письма? Всё это одни фразы.
25. Св. Анастасия, иконопись Новгородской области, предшествовавшая «письмам», описанным Д.А. Ровинским (деталь иконы, находящейся в собрании автора). Вохрение с розоватым оттенком
Гораздо интереснее попытка старообрядцев дать точные признаки, по которым можно было бы узнать письмо Андрея Рублёва.
И старообрядцами приписывается Рублёву немалое число икон.
В.П. Успенский перечисляет – иконы в Киевском Музее (из коллекции Сорокина – «Спаситель поясной»), у Андрея Михайловича Постникова (например, Божия Матерь – «Умиление», св. Иоанн Предтеча), у Николая Михайловича Постникова (например, известный Деисус, что в Третьяковском собрании, и Царские двери – №№ 919:920) и упоминает показание Д.А. Ровинского об иконе Софии Премудрости Божьей, бывшей у старца Семена Кузьмича на Преображенском кладбище.
Указания В.И. Успенского можно дополнить сведениями ещё о некоторых и при том наиболее знаменитых в старообрядчестве иконах.
На Рогожском кладбище большая местная икона Смоленской Божией Матери (31х23 в.) предполагается письма Андрея Рублёва. Как выразился в описании альбома покойный И.Л. Силин – «по отличительно-художественному рисунку и мягким тонам красок есть основание предполагать, что эта икона, если не письма самого Андрея Рублёва, то его учеников».
26. Св. Георгий, русская иконопись, имеющая связь с южно-славянской миниатюрой (яркое вохрение). Киноварный фон (икона в собрании автора)
На Преображенском кладбище показывают большого от Деисуса Архангела в рост, как наиболее соответственного мастерству Андрея Рублёва, в Преображенском Единоверческом монастыре приписывается Рублёву – большой (неполный) пояс или Деисус.
В моленной Матвеевых славится небольшой поясной Спаситель с благословляющей ручкой.
Самые же наиболее прославленные иконы находились у К.Т. Солдатенкова. О большом Спасителе сложилась целая легенда, как он, написанный Андреем Рублёвым для своего, в котором монашествовал, Спасо-Андроникова монастыря, века охранял обитель, будучи помещен над вратами (надо заметить, что в лицевом житии XVI–XVII столетия есть изображение, как Рублёв пишет образ Спаса на стене храма в Спасо-Андрониковом монастыре), пока не был подменён искусным иконником при реставрации. От иконника образ перешёл к какому-то огороднику, наследники которого, а может быть и сам огородник, променяли икону молодому ещё в то время К.Т. Солдатенкову за весьма значительную сумму денег. Легенда могла бы претендовать на достоверность, если бы не распалась на несколько редакций. Осведомлённые люди уверяли меня, что всё дело происходило не в Спасо-Андрониковом, а в Савином-Сторожевском монастыре, а один скептик иконник высказался, что появление легенды обязано тому обстоятельству, что без неё скупой К.Т. Солдатенков не выменял бы образа, несмотря на его необыкновенно высокое письмо.
27. Св. Иоанн Богослов, старейшее русское письмо, вохрение в пробел (белесоватое), глаза, надбровные дуги и уши прочерчены красно-коричневой чертой, как на вышеприведённых №№11–14, хотя икона другого пошиба и значительно позднее (оригинал в собрании автора)
Во всяком случае этот образ пользовался среди старообрядцев самой громкой известностью. Письму Рублёва приписывались иконы на основании сходства в рисунке или вохрении с этой прославленной иконой.
28. Св. апостол Фома, икона на красном фоне; бледно-жёлтое вохрение, прототип позднейших жёлтых Новгородских писем Д.А.Ровинского. Эта манера должна иметь связь с каким-нибудь византийским пошибом не моложе конца XIII начала XIV веков (икона в собрании автора)
Чрезвычайно замечательна икона Божией Матери «Умиления», находившаяся в спальне К.Т. Солдатенкова над кроватью. Образ этот знал Д.А. Ровинский, когда икона находилась еще в моленной Афанасьева. Во втором – посмертном – издании «Обозрения иконописания в России до конца XVII века», вышедшем в свет в 1903 году (Спб.), восстановлены все цензурные и редакторские пропуски первого издания) – с одной стороны – ряд указаний и описаний икон старообрядческих собраний, с другой стороны, ряд замечаний и определений, из которых некоторые, может быть, вновь были бы пропущены, если бы автор книги был жив во время её печатания. Д.А. Ровинский в этом втором издании напрямки заявил, что «памятники русского иконописания не восходят ранее XVI столетия» (стр. 19), а потому, конечно, отнёсся с такой критикой к вопросу о «рублёвских» письмах, что почти весь текст об этом предмете в первом издании был выпущен.
«Редкий любитель», говорит Д.А. Ровинский, «не называет в своем собрании икон Рублёва; но ни одной из них (виденных мной), по моему мнению, невозможно отнести к началу XV века. Достовернее и замечательнее других икона Умиление Божией Матери, привезённая из Судиславля и находящаяся в драгоценном собрании Ерофея Афанасьева. На задней стороне её (намазанной левкасом) сохранилась надпись (скорописью XVI века), из которой видно, что её благословил инок Исаия Никиту Григорьевича Строганова, «а письмо сии образ бывшего государева мастера Московского Рублёва».
29. Св. Антоний Великий, мастерское письмо весьма редкого пошиба Новгородской области (икона XV века в собрании автора, происходит из самого Новгорода Великого). Вохрение яркое, бледно-розовое. В доличном также преобладают краски яркие светлые
30. Св. царь Константин, деталь той же иконы, что и № 29. (икона, к сожалению, сохранилась в очень фрагментарном состоянии и осыпается)
Лица коричневые, довольно светлые, с лёгкими зеленоватыми тенями и почти без оживки. Краски наложены тонким слоем; как выражаются иконники – «дымом писано»… Пробелы в ризах очень слабы. Свет и поля вызолочены червонным золотом. В венце Божьей Матери по золоту наведены травы тёмным золотом же. Рисунок иконы (в отношении к другим рисункам) довольно правилен. В лице Божией Матери есть некоторое выражение грусти (10/8:4).
«Умиление» Божьей Матери, по письму, рисовке, раскраске и золотым украшениям и описи, имеет большое сходство с письмами строгановских иконников.
Трудно приписать ей древность 4½ веков, но, отложив в сторону эти сомнения до отыскания более основательных данных, я замечу, что Умиление Божией Матери, принадлежащее Е. Афанасьеву, до сих пор единственная икона с летописью, хоть и конца XVI века, и с именем Рублёва17.
31. Св. Георгий, деталь очень старой (и весьма неискусной) иконы яркого вохрения (собрание автора)
Отметив ещё несколько образов Божьей Матери Умиление, приписываемых Рублёву18, Д.А. Ровинский продолжает: «из других икон приписывают Рублёву две небольшого размера (11.6 / 9.6): «Приидите поклонимся Трисоставному Божеству» и «Единородный Сыне», находящиеся в собрании Рахмановых. Обе писаны довольно мелко и светлыми красками. В лицах зеленоватые тени. Складки обведены золотой описью (как в Умилении) и разделаны тонкими чертами белилами. В доличном много празелени, свет вызолочен»19.
32. «Деисус», известная икона Третьяковской Галереи. Клише дано «прорисью» (негативно), но в вопросе о «вохрении» – это не меняет дело
Описание иконы Умиления, сделанное Д.А. Ровинским, даёт нам ключ к выяснению того, чем, по мнению старообрядческих знатоков, «рублёвские письма» отличаются от простых новгородских и московских. Как и в предположениях учёных, в основу всего ставится мастерство письма – «высокое письмо». Подмечается тонкость письма, в котором краски наложены тонким слоем – «дымом писано». Лица тёмного вохрения с зеленоватыми тенями (просвечивает санкир), почти без оживки, то есть со стенением вместо резких отмет, тонкая опись, слабая пробелка одеяний тонкими чертами (также со стенением). Выходит, что вохрение приближается к одному из типов так называемого новгородского письма, но без новгородских оживок, а в одеянии вместо новгородской манеры, московская тонкая пробелка. Таким образом, как кажется, сущность в том, что это такие письма, в которых на новгородской основе отразились особенности московского письма XVI столетия.
33. «Огненосное восхождение св. пророка Ильи», довольно большая икона (61х47 см), находящаяся в собрании автора. Яркое розоватое вохрение, письмо простое, но интересное по времени. В горках заметны скалистые уступы. Пророк Илья одетв милот, по-видимому, овчинную (курчавый мех). Эти «письма» в просторечии зовутся «северными» («архангельскими»). Настоящий образ конечно гораздо древнее г.Архангельска
34. Деталь иконы, изображённой на рис. №33. Надпись в состоянии дать палеографические указания на время написания
Естественно сам собою ставится вопрос, когда же могла возникнуть такая переходная стадия к «московским» письмам, такое соприкосновение двух манер, без поглощения одной другой. Для решения этого вопроса прежде всего важно выяснить – к какой эпохе относятся вообще тёмно-вохрённые письма, подвергшиеся в данном случае видоизменению.
35. Деталь иконы «Явление Божьей Матери преподобному Сергию Радоженскому» (собрание автора). Яркое вохрение с розоватым оттенком, краски в доличном также очень яркие. По времени написанная икона должна быть отнесена к XV столетию, а по переводу к Московской области. Со временем, думается, будет выяснено, что «письма» яркого вохрения были распространены не в одной только Новгородской области
Д.А. Ровинский на основании показаний старообрядческих знатоков записал схему «новгородских писем», стараясь проверить её на подлинных иконах.
Он говорит: «что же касается до раскраски новгородских образов, то в этом отношении их можно подразделить на три разряда: в одних преобладает празелень; в других, довольно тёмного цвета, лица писаны коричневой краской; третьи совершенно жёлтого цвета, переходящего иногда в оранжевый. Из сохранившихся памятников видно, что эти три пошиба в раскраске существовали в одно и то же время».
Примеры таких писем – тёмных в празелень, красно-коричневатых и темно-жёлтых Д.А. Ровинский находит (не будем проверять их точность) и среди датированных икон. Все примеры относятся к XVI столетию, причем «жёлтые письма» переходят и в XVII век. «Жёлтых писем XVII века чрезвычайно много в новгородских и ярославских церквях». Такое положение должно корректироваться фактом, что к XVII столетию и московские письма были жёлтые.
Произошло ли тёмное вохрение от копирования икон, потемневших от времени и копоти, или оно было результатом какого-либо влияния и моды, не будем решать этого вопроса, скажем только, что для XVI-го столетия, мы можем подметить рядом с тёмными письмами и в немалом количестве иконы совершенно иного пошиба с более светлыми колерами лиц. Север России, избегнувший бедствий смутного времени, является преимущественным поставщиком подобных икон, потому и получивших у иконников прозвание «северных» писем. Происходя из далёких, бедных местностей, эти памятники большей частью не блещут высоким искусством и до последнего времени или совсем не принимались в знаменитые старообрядческие собрания, или только в отдельных лучших образцах нередко, к сожалению, сильно подправленных под общепринятый вкус услужливыми иконниками.
36. Св. апостол Павел – тёмное новгородское письмо, описанное Д.А.Ровинским (подлинная икона от Деисуса в рост находится в собрании автора)
37. Св. Николай Чудотворец (собрание автора). Жёлтое новгородское письмо, описанное Д.А.Ровинским
Д.А. Ровинский совсем не знал таких икон, да и все равно пренебрёг бы ими, так как их смысл не в художественности, которую он всё-таки всего более искал в иконах, а в историческом значении. Теперь, когда иконы так называемых «высоких писем» поднялись в цене без всякой меры, всё более и более выступают на сцену иконы, которые по письму «просты», «писем монастырских», «самоучками писаны». Чтобы разобраться в малоизведанном материале в хронологическом отношении, мы должны прибегнуть к помощи палеографии. Правда, палеография надписей ещё мало разработана и способна на значительные ошибки, но всё-таки ее наблюдения должны явиться путеводной нитью.
38. Св. Николай Чудотворец жёлтого «новгородского» письма (собрание автора)
39. Св. Николай Чудотворец, московского письма (собрание автора). См. особенности вохрения, широкие глазки, частые «сединки» и т.д.
40. Св. Прасковья, фрагмент старой школы (собрание автора)
Надписи на свитках, на полях, отдельные буквы в именах святых, особые формы правописания, как например, «предтеца» или «агиосъ» с ером – всё даёт показания в ту или другую сторону.
И вот в то время, как для икон темных вохрений чрезвычайно трудно получить палеографическое определение, относящее икону в глубь XV века, среди образов светлого вохрения такие данные не представляют редкости.
Мало того, правда такие случаи весьма редки, случается, что под старыми тёмными письмами обнаруживается ещё более древнее письмо светлого вохрения.
Тот тип письма, о котором я говорю, употреблялся в течение довольно долгого времени, в разных местностях и потому, конечно, отличается разнообразием.
41. Св. великомученица Прасковья (собрание автора). «Московские письма» XVII века (вохрение в белизну, тонкая пробелка одежд)
42. Казанская Божья Матерь, хорошее московское письмо белого вохрения (первая половина XVII столетия). Икона в собрании автора
43. Св. Иоанн Предтеча, деталь известной иконы Третьяковской Галереи. Прекрасное московское письмо конца XVI века
Самое понятие о светлом вохрении – относительно. Можно подразделить эти старые письма на несколько групп, каковы:
1) Розоватое в краснину вохрение, с сильными и резкими оживками. Можно предположить с некоторой вероятностью, что именно из этой манеры и образовалось темное вохрение.
2) Светло-жёлтое вохрение, непосредственно соприкасающееся с «жёлтыми» новгородскими письмами. Характеризуется резкими оживками, румянами на щёчках, обилием киновари на устах.
3) Бледно-розовое, иногда в краснину, иногда с оттенком в резкую белизну. Очень интересное письмо, лучшие образцы которого по памяти, может быть, о древности его, иконники называют «корсунскими письмами». Характеризуется не оживками чертами, а как бы мазками светлой краски, оттеняющей выпуклые места. Замечательна связь этих писем с памятниками южно-славянской миниатюры. Миниатюры Мюнхенской псалтири, о которой я уже упоминал, поразительно напоминают старейшие иконы этого (так называемого «северного») письма.
44. Св. Алексей Человек Божий, московское письмо больших икон конца XVI века, первой половины XVII веков (собрание автора)
45. Казанская Божья Матерь. Икона XVII века, так называемое строгановское письмо. Образ отличается вохрением, застеклевшим, как эмаль, и был выменен одним старообрядческим любителем весьма дорого. В художественном же отношении письмо не стоит на большой высоте. Как образец «строгановского» вохрения надо привести икону Спаса Нерукотворённого, письма Прокопия Чирина, изданную Н.П.Кондаковым в его «Лицевом Иконописном подлиннике», т.1, табл. 23
Все три группы объединяются общими особенностями от других писем: 1) преобладанием светлых ярких красок в доличном, 2) широкой пробелкой – то есть пробелкой толстыми чертами, краска на краску, чем эти письма сближаются с новгородской пробелкой.
Русской иконописи на дереве пока, по доступным, не записанным образцам, отводятся довольно узкие хронологические границы. Конечно, нельзя не упомянуть, что даже датированные якобы иконы начинаются Нижегородской иконой Божьей Матери конца X века; правда – глубокая древность многих собранных святынь – несомненна, но они совершенно недоступны для изучения особенностей характеризующего их письма. По доступным расчищенным образцам исследователь с трудом может заглянуть в конец XIV века. далее полная неизвестность, так как и ту знаменитую икону XIV века Св.Георгий в житии (что находится в Музее императора Александра III), надо поставить особняком. В ней отражается связь с южно-славянскими рукописями типа известного московского Георгия Амартола, но этот тип не должен был быть общим. И в эпоху Нередицких росписей, и в эпоху Спасо-Мирожских – между стенописью и иконами должна была быть связь. Отнюдь не через манеру миниатюр Амартола и манеру одинокой иконы св. Георгия русская иконопись могла бы эволюционироваться в формы Владимирских и Московских росписей XV века.
45. Господь Эммануил (икона в собрании автора). Икона очень хороших писем XVII века. Лучшее «московское» мастерство, которое можно назвать и «строгановскими письмами»
О русской иконописи на дереве в XIV столетии можно скорее гадать, чем делать обоснованные выводы, хотя (оговоримся) данные для научных наблюдений имеются и в крупных, и в мелких вещах на металле, и в рукописях с миниатюрами. Есть и такие рукописи, которые несомненно предшествуют волне южно-славянского влияния, того влияния, которое, может быть, со временем будет поставлено во главу угла при изучении старейшей русской иконописи конца XIV – первой половины XV вв.
В тёмных письмах, приписываемых Рублёву, сквозит столкновение Москвы с Новгородом, закончившееся и в иконописи, как и в политике, господством Москвы. Датированные иконы второй половины XVII века, несомненно написанные в Новгороде, кажутся посредственными «московскими» письмами; только копиисты чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери тщетно стараются и в это время писать образа по старой манере. Расцвет взаимодействия разных «писем», из которых потом образовались «царские» или «старо-московские» письма, несомненно относится к эпохе митрополита Макария и особенно ко времени непосредственно следовавшем за великим пожаром 1517 года, когда со всех сторон были созваны иконники и из разных городов привезены иконы для копирования.
47. Успение Божьей Матери (икона в собрании автора). «Царские письма» – («московские лучшие письма») вероятнее всего конца XVI столетия. Икона под первой олифой, совершенно не тронута и даёт драгоценные показания о московском вохрении и «частой» пробелке20
Как кажется, именно к концу первой половины XVI столетия и придётся относить те «улучшенные» тончайшие письма, которые обычно хотят приписать Рублёву.
Может быть, Андрей Рублёв был лучшим мастером среди своих товарищей и сотрудников, может быть, он был до известной степени и новатором, но всё же он был человеком своего времени. Как не мог Тициан появится в XIV столетии, так не мог и Андрей Рублёв работать в той манере, которая вырабатывалась через столетие после его смерти и в которой не одним, а многими исследователями уже чувствуется переход к весьма поздней, так называемой, «строгановской» (а на самом деле тоже московской) иконописи.
48. Св. Иоанн Богослов, миниатюра из Евангелия Кир. Белоз. мон., №96. «горки» схожи с «горками» на иконах «северных» писем (главным образом XV века, но встречаются и немного позднее)
49. Св. Иоанн Богослов, миниатюра первой половины XV века [Евангелие Библиотеки Императорской Академии Наук, 34. 7. 3].«Горки» схожие с иконописными горками XV столетия
50. Св. Иоанн Богослов, миниатюра из Евангелия Успенского Собора, №4 («горки» хороших и старых «новгородских писем»)
Андрей Рублёв не мог не отражать техники времени, вкусов окружающей среды. Если все писали со светлым вохрением, широкими пробелками, резкими оживками, то и он должен был в большей или меньшей степени подчиняться господствующему течению.
Такие теоретические соображения любопытно и даже, можно сказать, важно проверить по одному недавно сделанному наблюдению по подлинным иконам.
51. «Неопалимая купина», изображения горок на медных дверях «корсунского дела» в Благовещенском Соборе в Москве (некоторые особенности вызваны условиями техники, но в общем соблюдён современный тип)
52. «Горки» на итало-греческих иконах (пример с иконы XVII века)
53. «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи» (икона в собрании автора). Изображение горок в иконописи XV и первой половины XVI столетия. Образец не совсем обычный (ср. с горками на медных дверях, рис. №51)
54. «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи». Тот же «перевод», что и на рис. №53, но исполненный в XVII столетии с типичными для этого времени «горками»
55. Деталь иконы «Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа». «Горки» на иконе XV столетия
56. Деталь иконы «Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа». Тот же «перевод», что на рис. №55, но исполненный в конце XVII столетия. Можно сличить наглядно разницу в вохрении, пробелке и «горках»
57. Деталь иконы «Св. Троицы» писем Московской области по времени приблизительно конца XVI века. «Горки» совсем теряют характер скалистых уступов
58. Конец XVII века. Пример перехода изображения гор в схематический почти орнаментальный рисунок. Ср. со старыми «московскими письмами» на рис. №57 (с подобной же иконы ветхозаветной Троицы)
59. Изображение «горок» на лучших «строгановских» иконах
В конце 1904 года наместник Троице-Сергиевой Лавры пригласил известного иконописца-реставратора В.П.Гурьянова произвести, под наблюдением Императорского Московского Археологического Общества, реставрацию всех икон Троицкого собора. Реставрация была предположена неполная – только промыть иконы и укрепить треснувшие и грозящие выпасть места. Оказалось, что в Троицком соборе всех икон в иконостасе и столбовых киотах находится около ста, относящихся по времени написания к разным эпохам21, при чём есть среди них греческого происхождения и с греческими надписями. Весь этот драгоценный материал для исследователей русского иконописания остаётся и поныне недоступным, так как за недостатком времени и по желанию властей иконы были только промыты. Троицы подверглись полной расчистке и дали возможность точно судить об особенностях их письма. Первая икона – это та, которая приписывается Андрею Рублёву, как написанная «в похвалу отцу Сергию», вторая – копия с неё, писанная, по преданию, диаконом Никифором Грабленым в 1567 году. Говоря по преданию, мы с горечью должны напомнить, что драгоценные древние описи и вкладные книги Лавры до сих пор не изданы, да, по-видимому и недоступны исследователям. В.П.Гурьянов подробно и весьма тщательно описывает22 расчистку иконы, приписываемой Рублёву. Образ оказался настолько заделанным, что являлось сомнение та ли это икона, что приписывается Андрею Рублёву. «Я решился сделать пробу», говорит В.П.Гурьянов, «почистить фон между горой и дубом. Оказалось, что фон был переписан три раза. Самый древний и основной фон золотой на полименте, за ним санкир светлый, затем санкир коричневый тёмный и, наконец, тот же санкир, но значительно светлее. По опыту зная, что если переписан фон, то возможно, что и всё остальное также переписано, я почистил ещё левое плечо правого анлега и гору: оказалось, что контур ангела прибавлен на целые полвершка, гора и посох у ангела хорошо сохранились с незначительным повреждением. Мне стало понятно, что прежняя иконопись должна хорошо сохраниться».
С разрешения Лаврского начальства икона была расчищена – тщательно и вполне.
60. Горный ландшафт на поздних «строгановских» иконах
Относительно вохрения В.П.Гурьянов делает следующее замечание: «санкир лиц на Рублёвской иконе светлый, оливковый в зелень; опись глаз тёмная, твёрдая, а нос и уста кармином с чернелью, уста сильно подрумянены киноварью, вохрение плавное и плотное, несколько в разбел, на щеках видна подрумянка киноварью, на сильных бликовых частях отметки были твёрдые, но от времени постёрты23, но всё же хорошо заметны. Вохрение у среднего ангела освещено, по выражению иконописцев, с тайной стороны24.
61. Исход XVII столетия. Начало превращения гор в схематический рисунок, напоминающий кустарник. (По недосмотру рисунок вышел негативно, но это для изображения гор безразлично)
Уже одно это замечание о вохрении не вяжется с обычным представление о «рублёвских письмах». Наблюдения над доличным только подтвердили это обстоятельство.
62. Горы на иконы 1814 года. Схематический рисунок скорее напоминает растения и листву, чем скалистый пейзаж
«Все известные мне иконы», говорит В.П. Гурьянов, «выдаваемые за работу Андрея Рублёва, мало подходят под характер письма означенной иконы св. Троицы.
В тех краски не ярки, пробелы жидки и плоски, в ликах вохрение нежное, но жидкое, без белых твёрдых отметок, опись лёгкая, чем подходят под характер древних хороших новгородских икон… В Лаврской иконе в отношении манеры заключается большое сходство с фресками того времени, напр. в росписи складок одежды у ангелов, а также в описи контуров руки ног и всего доличного.
Все контуры сделаны массивно, пробелы же сделаны в несколько красок, наложенных одна на другую очень плотно широкими, жирными, большими мазками. Контуры представляют собой резкую выпуклость, в особенности же белые отметки на пробелах. В ликах также все вохры очень плотны, на некоторых местах видны даже мазки (у среднего ангела) и хорошо видны белые отметки, щёки и уста подрумянены киноварью. Это манера греческая, в особенности освещение лиц с тайной стороны, а также золотой на полиментфон.
По моему мнению, этой техникой воспользовался и Андрей Рублёв, который, как известно, работал совместно с греческими мастерами Феофаном и другими по росписи и украшению стен соборов в гг. Москве, Владимире и в Сергиевой Лавре» (стр.9).
63. Горы на иконе 1827 года
Таково мнение иконописца. Оставив в стороне вопрос о технике в иконах греческих мастеров, работавших в Москве в XIV столетии, который должен быть проверен по оригиналам, мне неизвестным, мы не можем не констатировать тот факт ,что манера письма на иконе св. Троицы отличная от так называемых «новгородских» и «московских» писем, в значительной мере сохраняет те особенности, которые мы перечисляли по старейшим русским иконам вообще. Св. Троица в Лавре – икона великого мастера и художественный памятник, те целые иконы и фрагменты, которые имеются в руках исследователей и собирателей, большей частью просты, мало – художественны, но печать-то на них времени – общая. В мировой жизни нет ничего неподвижного, но и самые смелые новаторы обрамлены окружающей средой.
Так несомненно было и с Андреем Рублёвым. Наблюдения, сделанные В.П. Гурьяновым, только подтверждают предположение о том, что икона св. Троицы принадлежит письму Рублёва и внушают уверенность, что она действительно относится к началу XV столетия.
Иконописцы создали легенду о тонких «рублёвских» письмах, «писанных дымом», иконописцу же подобало и разрушить её.
Следует приветствовать появление в литературе таких специальных заметок по реставрации древних икон, с какой выступил В.П. Гурьянов.
Н.Лихачёв
https://ria.ru/20220717/ikona-1802833539.html
«На Руси так не писали». Загадки самой известной иконы
«На Руси так не писали». Загадки самой известной иконы — РИА Новости, 19.07.2022
«На Руси так не писали». Загадки самой известной иконы
Православные отмечают день памяти преподобного Андрея Рублева. О его знаменитом творении — иконе Святой Троицы — ученые спорили десятилетиями. Специалисты… РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-17T08:00
2022-07-17T08:00
2022-07-19T21:29
религия
сергий радонежский
иван грозный
аналитика — религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802818668_0:119:3074:1848_1920x0_80_0_0_b0e8e64626956477fa009052118c5b02.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти преподобного Андрея Рублева. О его знаменитом творении — иконе Святой Троицы — ученые спорили десятилетиями. Специалисты выясняли, где и когда создан образ, сомневались и в авторстве. О загадках древнерусского шедевра — в материале РИА Новости.Слой за слоемВ начале XX века в живописи произошел настоящий переворот. Неожиданно открылась область, которая столетиями оставалась неизученной, — иконопись. Искусствоведы стали рассматривать церковные образы как полноценные художественные шедевры.Их вынимали из дорогих окладов, расчищали и тщательно исследовали. Среди прочих внимание привлекла икона Святой Троицы, которая находилась в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. В отличие от Владимирской или Казанской, реликвия не пользовалась огромным почитанием у верующих и не считалась чудотворной.Ученых интересовало другое — предположительно, образ написал знаменитый Андрей Рублев. Документ, подтверждающий этот факт, всего один.В 1551-м на Стоглавом соборе встал вопрос о правилах изображения триединого Бога. «Писати иконописцем иконы, — говорилось в постановлении, — с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти».Из этого следовало, что участники Стоглава говорили о некой иконе, написанной Рублевым. Она, по их мнению, отвечала церковным канонам и могла быть образцом.В 1904-м группа специалистов во главе с Василием Гурьяновым приступила к работе.»Когда была снята золотая риза (оклад. — Прим. ред.), — вспоминал Гурьянов, — мы увидали икону, совершенно записанную <…> На ней фон и поля были коричневые, а золотые надписи совсем новые. Все одежды ангелов были переписаны <…> Оставались только лики, по которым можно было судить, что эта икона древняя, но и они были затушеваны коричневой масляной краской».Современные искусствоведы поясняют: Гурьянов увидел напластования XVIII-XIX веков. Реставраторы прошлого обновляли икону, попросту переписывая все заново. Однако, когда команда добралась до слоя XV века, вопросов стало еще больше.Когда написанаПрежде всего не было известно, когда и где написали икону. В этом могли помочь немногочисленные письменные свидетельства.Так, в «Сказании о святых иконописцах», составленном в конце XVII века, говорилось: ученик и преемник Сергия Радонежского, игумен Никон, попросил Рублева «образ написати пресвятые Троицы в похвалу отцу своему Сергию».Однако ни в житии монаха, ни в житии иконописца нет ни слова о заказе. Зато об этом гласит предание — правда, не об одном образе. Предчувствуя скорую кончину, настоятель лавры пригласил артель Рублева, чтобы украсить недавно построенный каменный собор. Мастера должны были расписать его, а заодно создать многоярусный иконостас.Вполне возможно, что Троица могла быть его частью — тогда время работы над шедевром относится к первой четверти XV века. Однако эти версии ученые посчитали недостоверными.Еще большую путаницу внес советский историк Владимир Плугин. По его мнению, образ создали не в Троице-Сергиевой лавре. Его якобы подарил монастырю царь Иван Грозный в 1564-м. В итоге специалисты оказались в тупике.Однако благодаря одному письменному источнику удалось установить, что Троицу Рублев написал в первой четверти XV века — в обители Сергия Радонежского. Помогло житие самого преподобного.»В раннем варианте агиографии есть прямое указание на то, что иконописец создал образ по заказу именно там», — говорит начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева искусствовед Жанна Белик.Кто где сидитНе менее трудная задача — определить, кто именно изображен. Понятно, что речь идет об ипостасях Бога — Отце, Сыне и Святом Духе. Однако неясно, кто где на иконе.»Многие авторы, например, полагали, что правый ангел — это Святой Дух. Основывались они на том, что цвет его гиматия (плаща. — Прим. ред.) — зеленый. В некоторых богословских толкованиях это означает «вечно молодое, находящееся в полноте сил». Однако в большинстве переводов фраза существенно искажена. Более точно она звучит как «зеленый — своевременная отрасль», — рассказывает доктор исторических наук Олег Ульянов.Специалист добавляет: если вспомнить библейскую фразу «И произойдет отрасль от корня Иессева, и ветвь произрастет от корня его», то сразу становится ясно, что правый ангел олицетворяет Бога Сына.»Мы также видим, — продолжает Ульянов, — что гиматий правого ангела препоясан справа налево. А по русскому обычаю на мужчине-покойнике одежду застегивали не на правую, как при жизни, сторону, а на левую, как на женщине».Это, подчеркивает он, еще одно доказательство, что правый ангел — Христос, который, согласно догматам, страдал и умер на кресте ради всего человечества.При создании иконы, отмечают искусствоведы, Рублев с особой тщательностью подошел к цветовой семантике. Именно она помогает понять взаиморасположение трех лиц.»Так, одежды среднего ангела украшены клавием — вертикальными полосами от плеча до нижнего края. Особая торжественность и центральное место обусловлены тем, что это Святой Дух. В то же время сочетание синего и красного цвета присуще лишь одеждам среднего и левого ангела. Это символизирует догмат об исхождении благодати Святого Духа», — объясняет Ульянов.Итальянский следНемало вопросов и об иконографии образа.»Он иллюстрирует ветхозаветный сюжет о встрече Авраама с Богом. Исторически, помимо Бога, явившегося в виде трех ангелов, было принято изображать самого пророка и его жену Сарру. А на «Троице» историческая часть полностью отсутствует», — говорит Жанна Белик.На Руси, по ее словам, раньше так не писали. И даже знаменитый учитель Рублева Феофан Грек, которого во многом считали новатором жанра, в изображении библейского сюжета строго придерживался канона: Авраам и Сарра должны обязательно присутствовать.Глядя на тонкие линии письма и аскетизм обстановки, некоторые специалисты во второй половине XX века предположили, что Рублев испытал влияние итальянских мастеров Возрождения. Однако позднее эту версию отвергли.»Главным источником для него была византийская живопись. Именно отсюда он почерпнул элегантные типы своих ангелов и мотив склоненных голов. А памятников итальянского искусства Рублев попросту не знал», — писал русский искусствовед Виктор Лазарев.А вот необычную иконографию иконописец придумал сам.»Принято считать, что такое понимание Троицы, как на его иконе, возникло на Руси благодаря учению Сергия Радонежского. Под влиянием русской духовной культуры Рублев переосмыслил традиционный сюжет и воплотил его в красках», — поясняет Жанна Белик.Искусствоведы отмечают: именно потому, что рублевская икона — такая необычная и новаторская, вокруг нее возникло множество вопросов. И ученые все же смогли на них ответить.
https://ria.ru/20220626/khristos-1797970915.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802818668_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_bb3dc7606f75be48ca4cc3a8fe6aec43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергий радонежский, иван грозный, аналитика — религия и мировоззрение
Религия, Сергий Радонежский, Иван Грозный, Аналитика — Религия и мировоззрение
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти преподобного Андрея Рублева. О его знаменитом творении — иконе Святой Троицы — ученые спорили десятилетиями. Специалисты выясняли, где и когда создан образ, сомневались и в авторстве. О загадках древнерусского шедевра — в материале РИА Новости.
Слой за слоем
В начале XX века в живописи произошел настоящий переворот. Неожиданно открылась область, которая столетиями оставалась неизученной, — иконопись. Искусствоведы стали рассматривать церковные образы как полноценные художественные шедевры.
Их вынимали из дорогих окладов, расчищали и тщательно исследовали. Среди прочих внимание привлекла икона Святой Троицы, которая находилась в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. В отличие от Владимирской или Казанской, реликвия не пользовалась огромным почитанием у верующих и не считалась чудотворной.
Ученых интересовало другое — предположительно, образ написал знаменитый Андрей Рублев. Документ, подтверждающий этот факт, всего один.
В 1551-м на Стоглавом соборе встал вопрос о правилах изображения триединого Бога. «Писати иконописцем иконы, — говорилось в постановлении, — с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти».
Из этого следовало, что участники Стоглава говорили о некой иконе, написанной Рублевым. Она, по их мнению, отвечала церковным канонам и могла быть образцом.
В 1904-м группа специалистов во главе с Василием Гурьяновым приступила к работе.
«Когда была снята золотая риза (оклад. — Прим. ред.), — вспоминал Гурьянов, — мы увидали икону, совершенно записанную <…> На ней фон и поля были коричневые, а золотые надписи совсем новые. Все одежды ангелов были переписаны <…> Оставались только лики, по которым можно было судить, что эта икона древняя, но и они были затушеваны коричневой масляной краской».
Современные искусствоведы поясняют: Гурьянов увидел напластования XVIII-XIX веков. Реставраторы прошлого обновляли икону, попросту переписывая все заново. Однако, когда команда добралась до слоя XV века, вопросов стало еще больше.
Когда написана
Прежде всего не было известно, когда и где написали икону. В этом могли помочь немногочисленные письменные свидетельства.
Так, в «Сказании о святых иконописцах», составленном в конце XVII века, говорилось: ученик и преемник Сергия Радонежского, игумен Никон, попросил Рублева «образ написати пресвятые Троицы в похвалу отцу своему Сергию».
Однако ни в житии монаха, ни в житии иконописца нет ни слова о заказе. Зато об этом гласит предание — правда, не об одном образе. Предчувствуя скорую кончину, настоятель лавры пригласил артель Рублева, чтобы украсить недавно построенный каменный собор. Мастера должны были расписать его, а заодно создать многоярусный иконостас.
Вполне возможно, что Троица могла быть его частью — тогда время работы над шедевром относится к первой четверти XV века. Однако эти версии ученые посчитали недостоверными.
Еще большую путаницу внес советский историк Владимир Плугин. По его мнению, образ создали не в Троице-Сергиевой лавре. Его якобы подарил монастырю царь Иван Грозный в 1564-м. В итоге специалисты оказались в тупике.
Однако благодаря одному письменному источнику удалось установить, что Троицу Рублев написал в первой четверти XV века — в обители Сергия Радонежского. Помогло житие самого преподобного.
«В раннем варианте агиографии есть прямое указание на то, что иконописец создал образ по заказу именно там», — говорит начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева искусствовед Жанна Белик.
Кто где сидит
Не менее трудная задача — определить, кто именно изображен. Понятно, что речь идет об ипостасях Бога — Отце, Сыне и Святом Духе. Однако неясно, кто где на иконе.
«Многие авторы, например, полагали, что правый ангел — это Святой Дух. Основывались они на том, что цвет его гиматия (плаща. — Прим. ред.) — зеленый. В некоторых богословских толкованиях это означает «вечно молодое, находящееся в полноте сил». Однако в большинстве переводов фраза существенно искажена. Более точно она звучит как «зеленый — своевременная отрасль», — рассказывает доктор исторических наук Олег Ульянов.
Специалист добавляет: если вспомнить библейскую фразу «И произойдет отрасль от корня Иессева, и ветвь произрастет от корня его», то сразу становится ясно, что правый ангел олицетворяет Бога Сына.
«Мы также видим, — продолжает Ульянов, — что гиматий правого ангела препоясан справа налево. А по русскому обычаю на мужчине-покойнике одежду застегивали не на правую, как при жизни, сторону, а на левую, как на женщине».
Это, подчеркивает он, еще одно доказательство, что правый ангел — Христос, который, согласно догматам, страдал и умер на кресте ради всего человечества.
При создании иконы, отмечают искусствоведы, Рублев с особой тщательностью подошел к цветовой семантике. Именно она помогает понять взаиморасположение трех лиц.
«Так, одежды среднего ангела украшены клавием — вертикальными полосами от плеча до нижнего края. Особая торжественность и центральное место обусловлены тем, что это Святой Дух. В то же время сочетание синего и красного цвета присуще лишь одеждам среднего и левого ангела. Это символизирует догмат об исхождении благодати Святого Духа», — объясняет Ульянов.
Итальянский след
Немало вопросов и об иконографии образа.
«Он иллюстрирует ветхозаветный сюжет о встрече Авраама с Богом. Исторически, помимо Бога, явившегося в виде трех ангелов, было принято изображать самого пророка и его жену Сарру. А на «Троице» историческая часть полностью отсутствует», — говорит Жанна Белик.
На Руси, по ее словам, раньше так не писали. И даже знаменитый учитель Рублева Феофан Грек, которого во многом считали новатором жанра, в изображении библейского сюжета строго придерживался канона: Авраам и Сарра должны обязательно присутствовать.
Глядя на тонкие линии письма и аскетизм обстановки, некоторые специалисты во второй половине XX века предположили, что Рублев испытал влияние итальянских мастеров Возрождения. Однако позднее эту версию отвергли.
«Главным источником для него была византийская живопись. Именно отсюда он почерпнул элегантные типы своих ангелов и мотив склоненных голов. А памятников итальянского искусства Рублев попросту не знал», — писал русский искусствовед Виктор Лазарев.
А вот необычную иконографию иконописец придумал сам.
«Принято считать, что такое понимание Троицы, как на его иконе, возникло на Руси благодаря учению Сергия Радонежского. Под влиянием русской духовной культуры Рублев переосмыслил традиционный сюжет и воплотил его в красках», — поясняет Жанна Белик.
Искусствоведы отмечают: именно потому, что рублевская икона — такая необычная и новаторская, вокруг нее возникло множество вопросов. И ученые все же смогли на них ответить.
«Много споров». Какие свидетельства об Иисусе Христе сохранились
Андрей Рублев — это личность с большой буквы, привнесшая огромный вклад в развитие национального искусства. Мастер, о котором имеется много легенд и мифов из-за малочисленных достоверных фактов и атрибутируемых произведений. Но это не мешает признавать его гением Древней Руси с исключительными иконами, а самая знаменитая из них — «Троица» — официально считается образцом для русских иконописцев.
След в истории
Жизнеописание Андрея Рублева собирается по очень скупым и отрывочным сведениям, сохранившимся в летописях и некоторых житиях. Но их наличие показывает, что предания о мастере хранились долго, в то время как его сотоварищи так и остались безвестными. Точная дата рождения иконника не известна и определяется приблизительно между 1360 и 1370, исходя из того, что умер он «в старости велицей» 29 января (11 февраля по новому стилю) 1430 —традиционная дата его смерти, хотя не подтверждена).
Рубеж XIV-XV веков, когда жил и творил Рублев, является важным и на редкость драматичным периодом для Руси: победа на Куликовом поле, страшный разгром Москвы татарами спустя два года, сожжение и разграбление Владимира, а также множество других набегов и усобиц. Но на этом фоне шло духовное взросление Руси, сложнее и глубже становилась религиозная жизнь народа. Расцвет христианской культуры, который переживали русские земли, был тесно связан с духовным подъемом православного Востока, страдающего от неравной борьбы с турками-османами.
История Византийской империи, будучи могущественной и процветающей державой, близилась к своему концу. Константинополь терзается в 1394-1402 годах длительной турецкой осадой. Но в отличие от переживающей схожие бедствия Руси, у древней империи греков не было будущего. Но в то же время византийский народ в последние годы своей независимости сплотились в единой молитве и внутреннем сосредоточении — священном безмолвии — ради открытия Бога в себе и наполнения смыслом для души.
Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря
В рублевское время как никогда не были столь тесно связаны зреющая духовно Русь и преумножающая духовные богатства Византия. Яркие и образцовые примеры византийских икон и фресок, наполненные ощущением близости Царства Небесного, богословские мысли только укрепляли эту связь.
В последней трети XIV века вклад в искусство Руси приходит с Балкан. И зримым выражением единства православного мира стала работа над росписями русских церквей многочисленными художниками — выходцев из славянских и греческих народов Балканского полуострова, Малой Азии, Константинополя. Самым талантливым из них был Феофан Грек, старший современник Рублева. Их совместная работа в Московском Кремле стала первым упоминанием имени русского изографа в летописи: «Тое же весны начаша подписывати церковь Благовещенья на великого князя дворе [Василия I Дмитриевича, сына Дмитрия Донского] первую, не ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник Гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша ю». Это сообщение о росписи в 1405 древнего Благовещенского собора, стоявшего тогда на месте нынешнего храма, сохранила Троицкая летопись, составленная в 1412-1418.
Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
В следующий раз имя Рублева названо в той же летописи при упоминании о работах во владимирском Успенском соборе в 1408: «Того же лета мая в 25 начаша подписывати церковь каменную великую съборную святая Богородица иже въ Владимире повеленьем князя великого, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев».
На этом прижизненные свидетельства о художнике исчерпываются. Он нем написал после смерти иконописца афонский иеромонах Пахомий Серб, ставший насельником Троице-Сергиевой Лавры и автором житий преподобных Сергия и Никона Радонежских. В третьей редакции жития Преподобного Сергия около 1442, Пахомий говорит о росписи Андреем Рублевым Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве (фрески не сохранились) и о кончине художника в той же обители. Именно в этом тексте Рублев впервые назван «иконописцем преизрядным, всех превосходящим».
Свидетельства Пахомия, записанные, возможно, по рассказам лично знавших Рублева, считаются учеными вполне достоверными. Последующие сказания были написаны намного позже, отдаляясь от жизни мастера, тем самым делая ее более легендарной. Упоминания о рублевских иконах неоднократно встречаются в книжных записях XVI-XIX веков, что говорит о прочном сохранении памяти о мастера в русском обществе.
Успенский собор во Владимире
В XVI веке работы Андрея Рублева уже пользовались непререкаемым авторитетом. Постановлением Стоглавого собора 1551 года его икона Троицы Ветхозаветной была признана обязательным образцом: «Писати иконописцем иконы с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая тройца, а от своего замышления ничтоже претворяти».
Позже дургих упоминает о Рублеве «Сказание о святых иконописцах», составленное на рубеже XVII-XVIII веков. Источник носит откровенно компилятивный характер, однако чаще всего цитируются именно его строки, говорящие об иконе Троицы: «Преподобный Андрей Радонежский иконописец прозванием Рублев, писаше многие святые иконы, чудны зело и украшены. Яко же пишет о нем в Стоглаве святого чудного Макария митрополита, что с его письма писати иконы, а не своим умыслом. Бе той Андрей прежде живяше в послушании преподобного отца Никона Радонежского. Той повеле ему при себе написати образ Пресвятые Троицы, в похвалу отцу своему святому Сергию чудотворцу. Последи же живяше в Андроникове монастыре, со другом своим Даниилом, и зде скончася».
Как бы ни были разрозненны и скудны сведения, ученым удалось восстановить основные этапы биографии Андрея Рублева. Предполагаемое время рождения — 1360-1370. Незадолго до 1405 он стал монахом («чернецом», по Троицкой летописи, а так обычно именовали новопостриженных иноков). Андрей – монашеское имя иконописца, мирское осталось неизвестным, как и происхождение. Прозвище по отцу «Рублев» (фамилий в то время не было) могло происходить от слова «рубель», обозначавшего инструмент для разглаживания ткани или накатки кож, что открывает простор для всевозможных предположений. Похоже, что он был москвичом, но где и у кого учился своему мастерству — неизвестно. В той же Троицкой летописи из работавших в Благовещенском соборе художников Рублев назван последним, а значит, в это время он только начинал свой творческий путь. К сожалению, кремлевские фрески не сохранились, но уцелели росписи другого храма — владимирского Успенского собора, которые являются сегодня единственным подтвержденным летописью памятником рублевского искусства.
Фрески Успенского собора Владимира
В 1408 Даниил Черный и Андрей (именно в таком порядке художники названы в летописи) получили заказ на поновление древнего митрополичьего кафедрального собора во Владимире. Этот храм, построенный в XII веке, был расписан еще в домонгольский период, но к XV столетию прежняя живопись сильно пострадала. Заменившие ее фрески Андрея и Даниила сохранились частично, а их нынешнее состояние и вид далеки от первоначального, к тому же некоторые из них закрыты иконостасом.
Лучше всего видны росписи в западной части храма под хорами, на сводах и прилегающих участках стенных плоскостей. Здесь, в среднем нефе (расширенная часть внутреннего пространства здания на продольной оси от входных дверей до алтаря), на небольшой высоте расположена грандиозная композиция Страшного суда, выполненная в русле византийской традиции, но представляющая картину Второго пришествия Христа очень своеобразно. Под низкими сводами хора, в полутемном пространстве собора человека ждет долгожданная встреча со сходящим к нему с небес Богом. Христос Судия кажется совсем близким, Он легко парит в сиянии Своей многоцветной славы, с воздетой в приветствии десницей. Ничего грозного и карающего в Его облике нет, напротив, лик Его кроток и светел, Он несет мир и спасение людям.
Страшный суд. Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире
Вокруг, на склонах свода под хорами, примыкающих арках и в тимпане (полукруглая стена над арочным проемом), расположились участники этого действа, описанного в Апокалипсисе, видении пророка Даниила и других религиозных текстах: парящие Ангелы со свитком неба в руках, воссевшие на судейские скамьи апостолы, ангельские чины у них за плечами, Престол уготованный с орудиями Страстей, припавшие к нему прародители Адам и Ева, в молении стоящие по сторонам от Престола Богородица и Иоанн Предтеча. Легкие, чуть объемные силуэты фигур свободно вписаны в отведенные для них участки стен, гармоничные пропорции и небольшой масштаб рождают чувство покоя, лики безмолвны и благожелательны.
Именно фрески Успенского собора являются тем памятником-«камертоном», по которому исследователи имеют возможность настроиться на волну подлинно рублевской образности и стиля, выделить наиболее характерные для мастера приемы письма, особенности живописного построения формы, закономерности композиционной структуры. Ярче всего запоминаются типично рублевские лики с нависающими шарообразными лбами мыслителей и по-детски широко раскрытыми глазами, пытливо и доверительно, милостиво и кротко смотрящими на нас с апостольских скамей.
Незначительные остатки фресок сохранились на стенах верхней подкупольной зоны над хорами, где в 1974–1979 были открыты фрагменты «Введения Богоматери во Храм», «Жертвоприношение Иоакима и Анны», «Преображение», «Сошествие Святого Духа» и «Крещение», а также отдельные фигуры святых. В жертвеннике реставраторами были расчищены остатки сцен житийного цикла Иоанна Предтечи — «Благовестие Захарии» и «Уход младенца Иоанна в пустыню», где тот изображён ведомым за руку Ангелом в блистающих светом одеждах.
Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире «Ангел ведет младенца Иоанна Крестителя в пустыню»
Преображение. Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире
Сошествие Святого Духа. Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире
Время оказалось беспощадным к этому великолепному ансамблю. Особенно пострадал колорит росписей, лишившийся былой звучности цвета в некогда лазурных фонах и золотистой охры в письме ликов и одежд. Реставрация владимирских фресок началась в 1918 и была продолжена в 1970–1980-е. К сожалению, в ходе нее были предприняты избыточные тонировки утрат авторского слоя, прописаны контуры многих ликов и фигур, что не могло не сказаться на художественной выразительности росписей. На сегодняшний день состояние бесценной живописи Андрея Рублева и Даниила все более усугубляется неблагоприятным воздействием на нее в ходе постоянных богослужений, совершаемых в действующем храме.
Троица
Икона Троицы Ветхозаветной, созданная около 1411 или 1425-1427, стояла вплоть до 1918 в местном ряду иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. Она занимает особое место не только в творчестве Андрея Рублева, но и во всей древнерусской иконописи. Много лет икону считают величайшим шедевром, а исследователь М.В. Алпатов считает, она должна признаваться критерием подлинности для всех приписываемых Рублеву произведений. Об авторстве свидетельствует только «Сказание о святых иконописцах» XVII-XVIII веков, куда эта информация могла попасть лишь через устные предания, сохранившиеся в монастыре в течение трехсот лет. Тем не менее после раскрытия образа из-под записей в 1904 никто уже не сомневался в том, что перед нами подлинное творение великого иконописца, хоть и сильно пострадавшее от времени. Каждая икона со временем записывалась (поновлялась), так как из-за копоти, потемневшей олифы и возможных механических повреждений она становилась трудноразличимой. Реставраторы убирают эти поздние слои живописи, открывая древний образ и древние краски.
Троица Ветхозаветная. 1411 или 1425–1427
Темой иконы стало ветхозаветное сказание о гостеприимстве праотца Авраама — приеме и угощении им трех странников, пришедших возвестить Аврааму и его жене Сарре о рождении сына Исаака (Бытие, 18; 1-16). Христиане увидели в этом событии прообразовательный, то есть обращенный в новозаветную историю смысл. Гостившие у патриарха странники — это и указание на открывшуюся позже троичность Бога, и на воплощение Бога Сына и Его искупительную жертву, и на установление Христом Таинства Причастия. Первые сцены гостеприимства Авраама появляются еще в V веке, так что ко времени Рублева существовала древняя и достаточно единообразная изобразительная традиция этого библейского эпизода.
Рублевская икона представляет собой новый образ хорошо знакомого сюжета, основанный на оригинальном иконографическом решении — безупречном с точки зрения логики богословского прочтения и вместе с тем облеченном в совершенную художественную форму. Икона лишена обычных повествовательных деталей: нет Авраама и Сарры, их жилище и Мамврийский дуб, под которым совершалась трапеза, убраны на задний план и почти не бросаются в глаза. Все поле средника занято тремя фигурами Ангелов-странников, спокойно и безмолвно сидящих вокруг стола с угощением. Их позы, движения, взгляды становятся предметом драматического действия иконы, объектом вдумчивого созерцания и высокой богословской рефлексии. Живая конкретика эпизода уходит, остается возвышенный образ предвечного совета и предопределенности Христовой жертвы. Троичность Божества, единого по природе, но множественного в Лицах-ипостасях, никогда еще не раскрывалась столь убедительно средствами искусства. Фигуры Ангелов равномасштабны и равночестны, но каждый из Них воспринимается как свободная и самодостаточная личность, пребывающая в абсолютном согласии и единении с остальными. Их силуэты вторят друг другу линиями скользящих и опадающих контуров одежд, наклоны голов и обращенность взглядов способствуют зарождению ритма плавного круговращения, объединяющего всю композицию.
Центральный Ангел традиционно отождествляется с Христом. Его правая рука благословляет стоящую на столе чашу с головой тельца — образ ветхозаветной жертвы. Очертания чаши повторены в форме словно растущего ввысь пространства, разделяющего двух боковых Ангелов: силуэт центрального Ангела «отражается» в границы стола, очерченные нижней частью Их фигур. Музыкальной ритмике подобных соотношений способствуют тонкий рисунок, легкая уплощенность фигур, суженность пространственных планов. Кисти Рублева-художника в этой иконе присуще поистине античное чувство меры, пропорций, ритма. Творя в заданных рамках иконописного художественного канона, он крайне деликатно оперирует категориями пространства и объема, целиком не жертвуя ни тем, ни другим, а преображая их необходимой долей условности.
Созданный Рублевым мир полон неявного, подспудного драматизма, но к человеку он обращен в первую очередь своей гармоничной, светлой стороной, зовущей к любви и согласию, духовному и телесному совершенству единомышленников.
Даже среди самых выдающихся русских икон XIV– XV веков рублевский шедевр выделяется несравнимой зрелостью и совершенством образного и художественного решения, достигнутого в момент наибольшего сближения древнерусской и византийской культур. По словам византиниста Димитрия Оболенского, нашего соотечественника, «никогда ни до, ни после византийская традиция не достигала такой зрелости и совершенства на русской почве». Другой зарубежный исследователь назвал икону Троицы «греческим гимном на славянском языке».
Постановление Стоглава 1551 об иконописных образцах касалось правил рублевского письма «Троицы», но сам образ в нем не назывался. Тем не менее в иконографической традиции XVI–XVII веков мы узнаем черты этого произведения мастера, ставшие частью русского иконописного канона. Один из самых ярких примеров — икона Симона Ушакова и Никиты Павловца 1679, созданная в иную эпоху и отразившая другие вкусы, но в иконографии своей сохранившая духовное и художественное совершенство рублевского прототипа.
В настоящее время «Троица» Андрея Рублева — общенародное достояние, хранимое в одном из лучших музеев страны — Государственной Третьяковской галерее. Но раз в год на Троицын день ее переносят в музейную церковь Святителя Николая в Толмачах, где икона, участвуя в праздничном богослужении, вновь становится доступной для поклонения в освященном пространстве храма.
Звенигородский чин
История трех деисусных икон, получивших название «Звенигородский чин», удивительна и показательна одновременно. Они были обнаружены экспедицией И. Э. Грабаря в 1918 в дровяном сарае близ звенигородского Успенского собора «что на Городке» (постройки до 1399) и атрибутированы Рублеву лишь на основе стилистического анализа («их создателем мог быть только Рублев: только он владел искусством подчинять единой гармонизирующей воле все эти холодные розово-сиренево-голубые цвета»). К этому времени наследие мастера едва начали изучать, а количество приписывавшихся ему «по обычаю» икон исчислялось десятками. Но первая атрибуция, сделанная Грабарем, оказалась удивительно верной. На сегодняшний день звенигородские иконы — единственные, в отношении которых авторство Андрея Рублева, не подтвержденное никаким документальным свидетельством, разделяется практически всеми исследователями. Причина одна — высочайший художественный уровень письма, соединение в образном и эстетическом строе произведений тех качеств, которые связываются в нашем представлении со стилем и мировоззрением художника.
Звенигородский чин — это три полуфигурные иконы, некогда входившие в состав единого деисусного чина: Спас, Архангел Михаил, апостол Павел. Первоначально он насчитывал не менее семи икон, то есть предназначался для достаточно большого храма, сопоставимого по размерам с Успенским собором «на Городке». Наиболее совершенен погрудный образ Христа, бывший и композиционным, и смысловым центром всего чина. Прекрасно сохранившийся лик Спасителя изображен почти точно в анфас; спокойный, задумчивый и удивительно благожелательный взгляд Господа направлен на созерцающего икону человека. Этот лик внушает надежду, обещает близость и сердечное участие, но в то же время удерживает дистанцию со зрителем; его возвышенная красота — красота идеального, бесконечно удаленного от нас мира.
Спас. Фрагмент. Около 1400
Два других образа показаны в трехчетвертном ракурсе, с обеих сторон обращенными к Спасу. Письмо лика Архангела Михаила во многом напоминает икону Спасителя, но еще больше — лики Ангелов Троицы: удлиненные, на гибких, чуть вытянутых стебельками шеях, шапкой густых завитков волос, характерными чертами рисунка, задумчиво кротким и умиротворенным выражением глаз.
Архангел Михаил. Фрагмент. Около 1400
Апостол Павел. Около 1400
Образу апостола Павла труднее найти соответствия в других произведениях Рублева, а по стилю он несколько отличается от двух остальных икон Звенигородского чина. В его богатой цветовой гамме больше активных и контрастных цветов, линии рисунка подчинены иным ритмам — менее плавным, более дробным и резким. По мнению Л. А. Щенниковой, есть вероятность, что автор этой иконы — другой мастер, такой, например, как Даниил — многолетний сподвижник Рублева. Традиционно считается, что иконы чина написаны около 1400, то есть во время, близкое ко времени возведения собора «на Городке». Если эта дата верна, то перед нами одни из ранних произведений рублевского искусства, предшествующие фрескам Владимира и еще более поздней иконе Троицы.
Святой мученик Флор. Фреска из Успенского собора «на Городке» в Звенигороде. Около 1400
Святой мученик Лавр. Фреска из Успенского собора «на Городке» в Звенигороде. Около 1400
Пророк Даниил. Фреска из Успенского собора «на Городке» в Звенигороде. Около 1400
Список иконы Богоматери Владимирской
Еще одна икона, возможно принадлежащая кисти Андрея Рублева, — список прославленного чудотворного Владимирского образа Божией Матери XII века из Успенского собора Владимира.
В 1918 И. Э. Грабарем икона была расчищена и отнесена к произведениям великого мастера: «Никогда сюжет материнства не был выражен в более совершенной художественной форме, никогда не был высказан столь просто, лаконично, прочувствован столь исчерпывающе и глубоко, как в этом подлинно великом произведении мирового искусства. Здесь все, сверху донизу, от Рублева — холодный голубоватый общий тон, характер рисунка, черты лица, с типичной для Рублева легкой горбинкой носа, изящные руки, прекрасный силуэт всей композиции, ритм линий и гармония красок».
Список иконы Богоматери Владимирской. Конец XIV– начало XV веков
Многие исследователи оставили проникновенно поэтические описания этой иконы, однако не все из них безоговорочно приняли атрибуцию И. Э. Грабаря. Эта двойственность восприятия памятника сохраняется по сей день: в нем усматривают черты рублевского стиля, но автором называют либо самого Андрея Рублева, либо художника его ближайшего круга, мастерской.
История создания иконы точно неизвестна, но она неотделима от истории как самого прославленного образа-протографа, так и второго списка с него, находящегося в Москве и не связываемого никем с кистью Рублева. Оба списка относятся к числу древнейших копий чудотворной святыни, но авторство и порядок их появления на свет продолжает вызывать споры.
Список, хранящийся во Владимире, мог быть исполнен либо вскоре после 1395, либо после 1410. Обе эти даты связаны с принесением в Москву чудотворного Владимирского образа Божией Матери. В 1395 москвичи молились перед ним о спасении от полчищ Тамерлана, а в 1410 его забрали в столицу для реставрации и восстановления оклада после разорения Владимира татарами. Полагают, что в те разы в Москве и были изготовлены копии, очевидно, лучшими на тот момент художниками. Одна предназначалась для кремлевского Успенского собора и замещала собой оригинал до его окончательного оставления в Москве в 1480, другая приняла на себя функции прототипа во владимирском Успенском храме, сначала временно, а затем и постоянно.
Московский список по рисунку несколько ближе к оригиналу, чем владимирский. По мнению ряда ученых, это делает более приемлемой раннюю дату его создания (после 1395), когда Рублев еще не был тем известным и опытным мастером, каким он, без сомнения, стал к 1410.
Благовещенский иконостас
Одна из самых больших загадок древнерусского искусства связана с историей иконостаса из Благовещенского собора Московского Кремля. Это один из древнейших православных иконостасов и самый ранний, где в качестве композиционного и смыслового центра использован ростовой деисусный чин, над которым располагается ряд многочисленных праздничных икон.
Расчистка икон из-под записей XVIII–XIX веков началась в 1918. И. Э. Грабарь, руководивший этими работами, первым увидел памятник в его изначальном древнем виде и потому связал иконы с летописным свидетельством 1405 о работе в кремлевском соборе Феофана Грека, Прохора с Городца и Андрея Рублева. Настойчивость и убежденность Грабаря определили понимание Благовещенского иконостаса поколениями исследователей на десятилетия вперед. Предполагалось, что деисус почти целиком был создан Феофаном, но некоторые из боковых икон могли быть написаны русским мастером — Андреем или Прохором. Праздничный ряд, расположенный над деисусным, признавался совместной работой Рублева и, скорее всего, того же Прохора с Городца, причем была разработана методика различения их рук.
Первые сомнения в исходных атрибуциях появились в 1960-х, а исследования 1970–1980-х окончательно убедили историков искусства в том, что нынешний иконостас составлен хоть и из древних икон, но в Благовещенском соборе он мог появиться только после 1547. Когда и при каких обстоятельствах — об этом свидетельствует Царственная книга 1566–1568. В ней говорится о великом пожаре 21 июня 1547, когда «и церковь на царьском дворе у царьскые казны Благовещение златоверхая, деисус Андреева писма Рублева, златом обложен, и образы, украшенные златом и бисером, многоценные, греческаго писма, прародителей его от много лет собранных и казна великаго царя погоре». Нельзя сказать, что этот текст не был известен ранее. Знал его и Грабарь, но был убежден в том, что иконы деисуса лишь «погорели», были спасены и по тому сохранились.
Опровергающие его мнение аргументы набирались постепенно, по мере изучения истории кремлевского ансамбля. Выяснилось, что Благовещенский собор, расписанный в 1405, был разобран уже через десять лет; что сменивший его храм, в свою очередь, к 1485–1489 уступил место существующему, который и горел в первый год воцарения Ивана Грозного. По словам благовещенского протопопа Сильвестра на соборе 1553–1554, после пожара для церкви были заново написаны «Деисус, и Праздники, и Пророки», а из этого неоспоримо следует, что нынешний состав иконостаса появился в ней даже не сразу после пожара, а лишь после 1554 и неизвестно, в силу каких причин (сегодня иконы деисусного и праздничного рядов закреплены в иконостасной конструкции 1894–1896). Решающим же аргументом стали расчеты археологов, показавшие, что размеры первоначального Благовещенского храма были таковы, что он физически не смог бы вместить столь монументальный многочастный иконостас, как тот, который мы видим в существующем здании.
Поиски храма, для которого более шестисот лет назад были написаны иконы двух главных рядов Благовещенского иконостаса, продолжаются; так же далека от завершения дискуссия, касающаяся вопроса о единовременном либо раздельном создании обоих его древнейших чинов.
Однако, несмотря на многочисленные споры ученых о том, кто же писал деисусный и праздничный чины, версия, по которой часть последнего мог создать Андрей Рублев, не отвергается категорически. На сегодняшний день подтверждается четкое размежевание древних икон Благовещенских праздников на две группы с выделением рук обоих писавших мастеров: левую (Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Крещение, Преображение, Вход в Иерусалим) и правую (Тайная вечеря, Распятие, Положение во гроб — Оплакивание, Сошествие во Ад, Сошествие Святого Духа, Успение Богоматери) половину иконного ряда. Композиционно-иконографические и стилистические различия между ними, впервые замеченные И. Э. Грабарем, а затем дополненные и уточненные В. Н. Лазаревым, служат основанием для атрибуций левой половины — Андрею Рублеву, а правой — Даниилу. Рублевские иконы исследователи сопоставляют с фресковыми образами 1408 из владимирского Успенского собора, находя в них то же духовное и телесное совершенство, ту же степень гармонии и созерцательного покоя, ту же композиционно-ритмическую отточенность и согласованность форм. В. Н. Лазарев обращал внимание на сходство Ангельских ликов в иконах Благовещения, Рождества и Крещения с ликами Троицы и владимирских фресок, в первую очередь ликом знаменитого «трубящего Ангела».
Благовещение. Икона из праздничного чина Благовещенского собора Московского Кремля. 1410-е
Рождество Христово. Икона из праздничного чина Благовещенского собора Московского Кремля. 1410-е
Сретение. Икона из праздничного чина Благовещенского собора Московского Кремля. 1410-е
В правых иконах, приписываемых более старшему Даниилу, ученые видят ощутимые признаки стиля XIV века с его подвижной до экспрессивности манерой художественного высказывания, асимметрично выстроенными композициями, лишенными идеальной гармонии.
Объективный характер различения икон по обеим группам подтвердили также исследования реставраторов, выявившие технико-технологические особенности в их написании (например, красочный состав пигментов и тому подобное).
Тем не менее все выводы об авторстве икон праздничного ряда Благовещенского иконостаса остаются гипотезами, не имеющими точных обоснований. Считать вполне установленным можно то, что они стоят у истоков обновленной традиции, определившей иконографический и композиционный строй иконных образов этой тематики на протяжении всего XV века Они могли быть созданы в ведущей мастерской того времени и получить широкое распространение именно в силу авторитетности ее главы — предположительно, Андрея Рублева.
Иконостасы Успенского собора Владимира и Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры
С именем Андрея Рублева издавна связывают еще два иконных комплекса, происходящих из иконостасов Успенского собора во Владимире и Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. Только второй из них сохранился на своем первоначальном месте, первый же был разобран в 1768–1775 и продан в церковь села Васильевское (поэтому он известен также под названием Васильевского чина), откуда уже в 1919–1922 в разрозненном виде частично перенесен в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный Русский музей.
Иконы многократно вычинялись и переписывались, расчистка большинства из них не завершена, но руку Андрея Рублева опознают в монументальной фигуре Спаса в силах, Богородицы, ликах Архангелов Михаила и Гавриила, апостола Павла, в которых проявляются типологические черты образов Звенигородского чина и владимирских фресок Страшного суда.
Дату создания иконостаса выводят из времени росписи Андреем Рублевым и Даниилом Черным Успенского собора в 1408 либо от поновления храма в 1410-х. В последнем случае авторство обоих художников ничем документально не подкреплено, однако в верности атрибуции убеждают стилистические качества икон сильно пострадавшего деисуса. Рублев также мог являться автором общего замысла иконостаса, развивавшего тему иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля.
Спас в силах. Икона из деисусного чина Успенского собора во Владимире. 1408
Троицкий иконостас — явление по-своему уникальное. Он представляет единственный случай полностью сохранившегося архитектурно-живописного храмового ансамбля, созданного в период расцвета древнерусского искусства и действующего до сих пор. Однако именно в силу этих причин иконы его труднодоступны для изучения и предлагают больше вопросов, чем дают ответов.
В деисусном чине иконостаса кисть мастера предположительно видна в иконах, на которых запечатлены апостолы Петр и Павел, Архангел Гавриил, Дмитрий Солунский.
Праздничный чин иконостаса — один из самых протяженных по сравнению с другими комплексами раннего XV века. В него помимо традиционного набора сцен включены иконные образы Страстного цикла («Тайная вечеря», «Омовение ног», «Оплакивание», «Снятие со креста») и литургические композиции («Причащение апостолов»).
Признаваемая всеми дата написания этих икон — 1425–1427 — опирается на свидетельство из жития преподобного Никона Радонежского о воздвижении в Лавре каменного собора и росписи его Андреем и Даниилом, причем для обоих мастеров эта работа стала последней. Тем не менее вопрос об атрибуции троицких икон далек от разрешения. Традиционное желание связать их с именем Рублева оспаривается теми, кто по множественным причинам констатирует невозможность признания аргументированного авторства тех или иных икон. И все же ситуация не является тупиковой: в одном из итоговых заключений, сделанных в ходе реставрационных работ, высказана твердая уверенность в том, что среди икон «есть и принадлежащие Андрею Рублеву». Дальнейшее изучение комплекса должно помочь их отысканию.
Успение Богоматери. Икона из праздничного чина Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. 1425–1427
Все три комплекса праздников — из Благовещенского, Успенского и Троицкого соборов, в той или иной степени связываемые именно с письмом Андрея Рублева, несут как несомненные черты близости, так и различий между собой.
Евангелие Хитрово
Среди гипотетических памятников рублевского письма есть и произведение, стоящее особняком. Это миниатюры напрестольного Евангелия Хитрово, в XVII веке принадлежавшего царю Федору III Алексеевичу, а затем через руки боярина Богдана Матвеевича Хитрово попавшего в Троице-Сергиеву Лавру, где и оставалось до 1931. В настоящее время эта рукопись находится в собрании Российской государственной библиотеки.
Евангелие Хитрово. Верхний правый символ — евангелиста Иоанна Богослова; верхний левый символ — евангелиста Матфея; нижний правый символ — евангелиста Марка; нижний левый символ — евангелиста Луки.
Начало XV века
История Евангелия Хитрово до XVII века неизвестна, однако не подлежит сомнению, что оно было создано в лучшей мастерской великокняжеской Москвы на рубеже XIV–XV веков и вполне могло являться напрестольным Евангелием одного из кремлевских соборов (например, Архангельского). Особое великолепие рукописи придают крупные заставки и многочисленные (более четырехсот!) цветные инициалы, в отделке которых часто используется творёное золото. Текст сопровождают восемь лицевых иллюстраций-миниатюр с изображениями евангелистов и их символов — все превосходной сохранности.
Качество и стиль миниатюр позволили исследователям атрибутировать их ведущим мастерам того периода: Феофану Греку, Даниилу и Андрею Рублеву. Наиболее часто называются имена двух последних, однако уверенное распределение рук по отдельным миниатюрам еще впереди. Более того, диапазон высказанных предположений необычайно широк: от признания всех миниатюр работой одного Даниила Черного (Г. И. Вздорнов) до прямо противоположного мнения об их авторстве одного Рублева (О. С. Попова). Основанием обеих гипотез остается сравнение миниатюр с росписями владимирского Успенского собора, которые, хоть и считаются эталонными для суждений о рублевском стиле, зачастую по-разному интерпретируются учеными в поисках критериев распределения фресок между двумя художниками-единомышленниками.
Святой иконописец
Андрей Рублев преставился в 1430. Он умер монахом Спасо-Андроникова монастыря в Москве, в котором и был похоронен. По некоторым данным, его могила сохранялась в обители несколько веков и была окончательно разрушена уже в советское время. Имеется, скорее всего, вымышленное свидетельство об обнаружении в 1940-х могильной плиты великого мастера, исчезнувшей вскоре после того.
Долгое время имя Рублева жило отдельно от его наследия. Подлинное искусство великого живописца все глубже скрывалось от глаз под множившимися слоями записей на иконах и фресках. Слава его с неизбежностью принимала все более отвлеченный, легендарный характер. Особенно почитали мастера старообрядцы, чьи собрания икон в XIX веке полнились десятками «рублевских» образов. Даже трудно представить, какие только иконы в то время не выдавали за написанные самим Рублевым! Впоследствии почти все они оказались не старше XVI века.
Скульптор О. К. Комов. Архитектор Н. И. Комова. Памятник Андрею Рублеву на Соборной площади во Владимире. 1995
Подлинный Рублев-живописец начал открываться лишь в ХХ веке, прежде всего, с расчисткой его «Троицы» в 1904, а затем по мере успехов работы Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи во главе с И. Э. Грабарем. Обретение Звенигородского чина и фресок владимирского Успенского собора, расчистка Благовещенского иконостаса — вот главные ее достижения, позволившие наконец изучать творчество этого мастера по всем традиционным направлениям науки об искусстве, раскрывая все новые грани его дарования, сопоставляя его произведения с современными им памятниками Руси и Византии.
Скульптор О. К. Комов. Архитекторы Н. И. Комова, В. А. Нестеров. Памятник Андрею Рублеву в сквере перед Спасо-Андрониковым монастырем в Москве. 1985
В 1947 в стенах Спасо-Андроникова монастыря, где когда-то монашествовал и закончил свои дни Андрей Рублев, был создан музей древнерусского искусства, получивший имя великого иконописца и открывший свои двери для посетителей в 1960. Тот год ЮНЕСКО объявила годом шестисотлетнего юбилея живописца.
В год тысячелетия Крещения Руси (1988) Андрей Рублев был причислен к лику святых Русской православной церковью, членом которой он был и вместе с которой силой своего таланта всю жизнь славил Бога.
Знаем ли мы житие преподобного Андрея Рублева?
О житии преподобного Андрея Рублева летописи говорят очень скупо. Мы знаем только то, что он был иноком, знаем, что он расписал несколько соборов, причем часто не один, а вместе с другими известными иконописцами: Феофаном Греком, Прохором и Даниилом. Знаем, что в дни, когда он не занимался иконами (в праздники), преподобный Андрей предавался духовному созерцанию. Знаем, что жил и умер в Спасо-Андрониковом монастыре.
Данных очень мало, и они часто противоречивы, что дает обильную почву для бесконечных споров историков и искусствоведов. Точно так же обстоит дело и с иконами, которые связывают с Андреем Рублевым. Но важно главное: Церковь чтит память преподобного Андрея Рублева именно как святого иконописца. И чтит иконы, связанные с его именем. Эти иконы говорят лучше всяких слов.
Загадка иконописца Андрея Рублева
Справка: Андрей Рублев — один из самых загадочных людей своего времени. Мы мало знаем о нем. Известно лишь, что годы его жизни совпали с трудным периодом русской истории. Но даже в условиях голода, лишений, нашествия татар, создавались великие произведения живописи, которые продолжают восхищать и наших современников. До сих пор остается загадкой точное количество его работ, об авторстве некоторых из них продолжаются споры. Его останки также были найдены при необычных обстоятельство в Спасо-Андрониковом монастыре. Там, где хоронили людей, имевших особые заслуги перед Церковью. Великий иконописец был канонизирован Церковью в лике преподобных.
Известный Режиссер Тарковский снял фильм «Андрей Рублев», где представил свое видение жизненного пути художника и иконописца. В фильме события русской истории проходят перед глазами Андрея Рублева и через призму его восприятия.
Документальных свидетельств об Андрее Рублеве осталось крайне мало. Предполагают, что он родился в семье ремесленников. Его творчество соответствовало традициям Московского княжества. Он расписал Благовещенский храм в Московском Кремле. Скончался Андрей Рублев во времена морового поветрия в 1482 году.
Ряд его работ сейчас приписывают кисти работников Артели Андрея Рублева или другим авторам — его современникам. Но нельзя отрицать, что творчество Андрея Рублево оказало огромное влияние на всю школу живописи того времени.
«Троица» Андрея Рублева
Одна из самых знаменитых работ Андрея Рублева икона «Троица». Ее история удивительна. В 1422 году на Руси наступил страшный голод. Икона изображает трех сидящих за столом ангелов. На столе у них стоит чаша с головой тельца. Ангелы сидят на фоне необычного пейзажа. Это — дом, дерево и гора. Дом — это палаты Авраама, дерево — Мамврийский дуб, а гора — гора Мориа. Храмовая гора или гора Мориа возвышалась над Иерусалимом, именно там стоял Иерусалимский храм, место для которого Царь Давид приобрел у иевусея Аравны (Орны). Мамврийский дуб — то самое дерево, под которым Авраам встретил Господа. Авраам встретил трех ангелов Господних, явившихся ему под видом усталых путников. Он предложил им отдохнуть в тени дуба. Дуб стоит на своем месте до сих пор.
Русский паломник, игумен Даниил писал о нем — Дуб же тот святой рядом с дорогой; когда там идешь, по правую руку; и стоит, красив, на высокой горе. А вокруг корней его внизу Бог вымостил мрамором белым как пол церковный. Вымощено около всего дуба того хорошего; посреди этого помоста вырос дуб святой из камня этого, удивительный! Дуб этот не очень высок, раскидист очень и густ ветвями, и плодов на нем много. Ветки же его низко к земле склонились, так что муж может, на земле стоя, достать его ветки. Окружность его в самом толстом месте две сажени, а высота его ствола до ветвей — полторы сажени. Удивительно и чудесно, что столько много лет стоит дерево то на такой высокой горе и не повреждено, не искрошилось!
Сюжет «Гостеприимство Авраама» заложен в основу иконы. В ней наиболее полно раскрыто догматическое учение о Святой Троице. Единство Святой Троице и благодать Богообщения раскрыты в удивительной работе Андрея Рублева, одной из немногих точно принадлежавших его кисти. Авторство «Троицы» не вызывает сомнений.
Существуют два списка иконы.
- Копия Годунова, заказанная царём в 1598—1600 годах.
- Копия Баранова и Чирикова 1926—1928 годов для международной реставрационной выставки икон 1929 года.
Обе иконы сейчас находятся в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, где находилась и сама икона, пока ее не перенесли в Третьяковскую галерею.
Сейчас «Троица» находится в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи. Для нее создан специальный шкаф, поддерживающий нужный уровень влажности и температуры, чтобы сохранить уникальное произведение искусства.
На праздник Троицы икону переносят в храм-музей, ранее шли разговоры о передаче «Троицы» епархии, но было принято решение отказаться от этой идеи и картина принадлежит Третьяковской галерее. Иконе нужен специальный уход и температурный режим. Люди продолжают восхищаться этим потрясающим образцом древнерусской живописи, дошедшим до наших дней.
(по клику икону можно рассмотреть в более высоком разрешении)
Иконы Андрея Рублева
Читайте также — Он просто видел иной мир
Троица
Троица, фрагмент
Троица, фрагмент
Троица, фрагмент
Евангелие Хитрово, миниатюра
Евангелие Хитрово, миниатюра
Евангелие Хитрово, миниатюра
Евангелие Хитрово, миниатюра
Евангелие Хитрово, миниатюра
Евангелие Хитрово, миниатюра
Спас, Звенигородский чин
Спас, Звенигородский чин, фрагмент
Архангел Михаил, Звенигородский чин
Архангел Михаил, Звенигородский чин, фрагмент
Читайте также — Андрей Тарковский. Ностальгия по настоящему
Апостол Павел, Звенигородский чин
Апостол Павел, Звенигородский чин, фрагмент
Царские врата
Царские врата, фрагмент
Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире
Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире
Спас в силах
Апостол Павел
Иоанн Креститель
Преображение Господне
Крещение Господне
Апостол Павел
Владимирская Богородица
Читайте также:
- Два Андрея
- «Страшный Суд» Андрея Рублева: призыв к Встрече
- Троица Андрея Рублева — 4 дня в храме
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
Андрей Рублев. Икона (иконопись)
На рубеже XIV — XV веков в Москве творил величайший из мастеров древней Руси Андрей Рублев, ставший, по существу, основателем самостоятельной Московской художественной школы.
Творческая деятельность этого величайшего русского иконописца немало способствовала возрождению раздавленной монгольским нашествием Руси. Самосознание средневековых людей во многом определялось церковью, любое историческое движение было для них исполнено религиозного смысла. В это темное для Руси время, время азиатской стихии, мрачной действительности противопоставляется христианство, как духовный взлет полоненной Руси.
Отец русского возрождения, монах Сергий Радонежский, построил Троицкий храм, который стал родным домом для Андрея Рублева, выросшего в этом монастыре. Андрей Рублев почитал Сергия Радонежского как родного отца, разделял его взгляды, мечты и надежды.
В 1400 году Андрей переезжает в Москву, где вместе с Феофаном Греком и другими мастерами расписывает сначала Благовещенский собор в Кремле, а затем Успенский собор во Владимире и другие храмы. Рублев был очень благодарен Феофану Греку, который научил его свободным ударам кисти, умению понять и передать в иконе живые жесты, походку. И все же как непохожи апостолы Рублева на грозных старцев Феофана! Какие живые, какие человечные. какие противоречивые характеры!
Драматизм, бурный темперамент греков сменяется у него чувством покоя, задумчивой тишины. Это свойство чисто русское. Люди, изображенные Рублевым, участвуя в событиях, вместе с тем погружены в себя. Художника интересует в человеке не внешнее, а внутреннее состояние духа, мысль и чувство. Удивительно радостен и гармоничен цвет у Рублева, ясное, чистое его свечение — образ света, исходящего от иконы.
Рублев писал эти иконы, как писали до него многие сотни лет, но под его кистью они наполнялись тихим светом, именно светом доброты и любви ко всему живому. Каждое движение его кисти было осмысленным и трепетным. За сосредоточенным, углубленным его трудом стояли навсегда живые для него впечатления от волнующих, ежегодно повторяющихся по всей Руси из поколения в поколение празднуемых дней. И сейчас, столетия спустя, всматриваясь в эти исполненные тонкой поэзии произведения, мы только тогда поймем замысел великого художника, если обратимся к смыслу изображений и в первую очередь к сюжетам, которые легли в их основу и которые хорошо были известны и художникам и зрителям — современникам Рублева, тем, для кого были написаны.
(Для описания икон использован материал из книги «Рублев», автора Валерия Сергеева)
Троица
В честь Сергия Радонежского, вдохновителя объединения русских земель, Андрей Рублев написал свою самую знаменитую икону « Троица», ставшую символом возрождающейся Руси. Иконы святой Троицы создавались в те времена по всему православному миру.
Основой для Троицы Андрея Рублева послужил библейский сюжет о гостеприимстве, оказанном праотцом Авраамом и его Саррой Богу, который посетил их в образе трех путников. Приняв угощение, Бог возвестил супругам чудо: несмотря на глубокую старость, у них родится сын, и от него произойдет народ, великий и сильный, и благословятся в нем все народы мира.
До Рублева иконописцы обычно стремились передать эту историю со всеми подробностями. Трое путников ( а это были Бог — отец, Бог — сын и Бог — Святой Дух) в виде прекрасных грозных ангелов восседают за столом под сенью дубравы, возле которой жил Авраам. Праотец подносил им яства, а жена Сарра в шатре прислушивалась к разговору гостей.
Рублев дал этому сюжету свое решение. Страна стонет под монгольским игом, раздирается междуусобицей, и Андрей Рублев кладет в основу сюжета идею единства, о чем и мечтал Сергий Радонежский. Ни Авраама, ни его жены Сарры нет на рублевской иконе, т.к. это не главное в сюжете. В центре — три ангела — путника. они не взирают грозными повелителями, а печально и нежно склоняются друг к другу, образуя единую круговую группу вокруг круглой чаши. Исходящая из них самих любовь клонит их друг к другу и связывает воедино.
Для своего шедевра Рублев достал ляпис — лазурь, краску, которая ценилась дороже золота, т. к. приготовлялась из бирюзы. Ее звонкая синева превратила плащи ангелов в подобие драгоценного самоцвета, вделанного в икону.
Стоусая молва об иконе, словно круги по воде, расходилась по Руси. Русский народ хранит сердечную память о своем знаменитом художнике, Андрее Рублеве.
Спас в силах
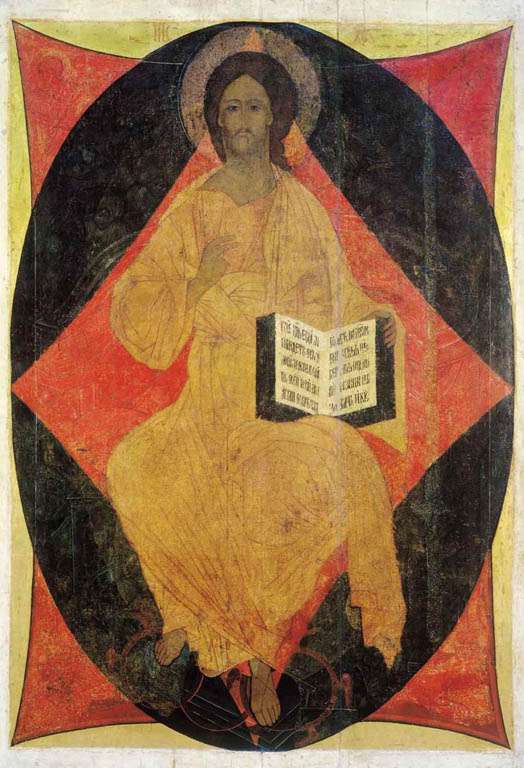
В распространенных в древнерусской живописи иконах часто рисуют «Спаса на престоле» и извод «Спас в силах». Сюжет икон очень похож.
Спас Рублева торжественно восседает на престоле, на красно-черном фоне. Его фигура строго выпрямлена, складки одежды лежат неподвижно. Сосредоточенный, и в своей сосредоточенности недоступный взгляд устремлен прямо перед собой. Жест поднятой перед грудью благословляющей десницы сдержан, спокоен и ясен. Левой рукой Спас придерживает Евангелие на той странице, где начертан Закон, по которому он спокойно и твердо творит свой Суд, Закон, ясно и непреложно дающий путь спасения, возможность обрести то благословение, которое несет поднятая десница.
Евангельский текст на открытой странице гласит: » Я свет всему миру, кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь жизнь вечную»,
Апостол Павел (из деисусного чина) 1410-е

Перед нами образ апостола Павла, у которого очень драматическая судьба — сначала он был ярым гонителем христиан, а потом стал апостолом — проповедником. Рублев не показывал драму становления , сложности жизненного пути апостола. Рублев представил идеальный, совершенный образ мыслителя-созерцателя. Всматриваясь в это лицо, в окруженные глубокими тенями глаза, ясно осознаешь, что апостол видит что-то недоступноевнешнему, физическому взору. Соединение огромной внутренней мощи и покоя — одна из поразительных особенностей иконы.
Таинственным, чуть холодноватым светом освещены синие, с белыми проблесками и блекло-сиреневые, с серым оттенком одежды. Складки их сложны, не совсем спокойны. Одежды развернуты на плоскости и составляют контраст с почти скульптурными объемами как бы сгорбленной спины, мощной шеи и великолепно вылеппленной головы апостола. Ярко выраженная пластика лица, прозрачность живописной техники лица смягчают острые черты, сглаживает их, выделяя внутреннее состояние, мысль.
Павел немолод, но сохранил физическую крепость. Признак возраста — облысевшая спереди голова — выявляет мудрость павла, открывая огромный купол лба. Складки лба не только выделяют рельеф, их движение как будто выражает высокую меру постижения, ведения. Рублев показывает Павла как праведного человека высоких духовных возможностей.
Архангел Михаил (из деисусного чина) 1414

Михаил, как грозный воевода небесных сил, всегда изображался в виде сурового вестника в доспехах воина. На этой иконе кроткий и углубленный в себя русоволосый архангел, с нежно склоненной кудрявой головой, он не причастен злу. В этом решении образа — вызревшая, давно ставшая близкой Рублеву мысль: борьба со злом требует величайшей высоты, абсолютной погруженности в добро. Зло страшно не только само по себе, но и тем, что, вызывая необходимость противостоять ему, порождает и в самом добре свой зародыш. И тогда в оболочке правды и под ее знаменем возрождается в ином виде то же самое зло и «последнее бывает горше первого». Здесь, решая для себя извечный вопрос о добре и зле как о несоизмеримых, несоприкасающихся началах. Рублев как бы основывает традицию, никогда не оскудевавшую в русской культуре будущего.
Что-то свежее, юное, утреннее пронизывает сам образ архангела, настроение, цвет. Светлое выражение распахнутых глаз, нежность мягко округленного, розоватого светящегося лица. Упругие волны вьющихся волос, мягкие руки. Небесно-лазоревые и розовые, как заря, одежды, теплое свечение золотистых крыл. Лазоревого цвета повязка, придерживающая волнистые, мягкие волосы, оканчивается развевающимися лентами позади его головы. Они назывались в древнерусском языке «тороками», или «слухами», и обозначали свойство ангелов — постоянное слышание высшей воли, соединенность с ней. Правая рука архангела протянута вперед, а кисть ее едва заметно округлена, как будто в этой руке он держит нечто округлое и совершенно прозрачное, не являющееся преградой для взора. Это очерченное легкой линией «зерцало» — образ постоянного созерцания Христа.
Благовещение
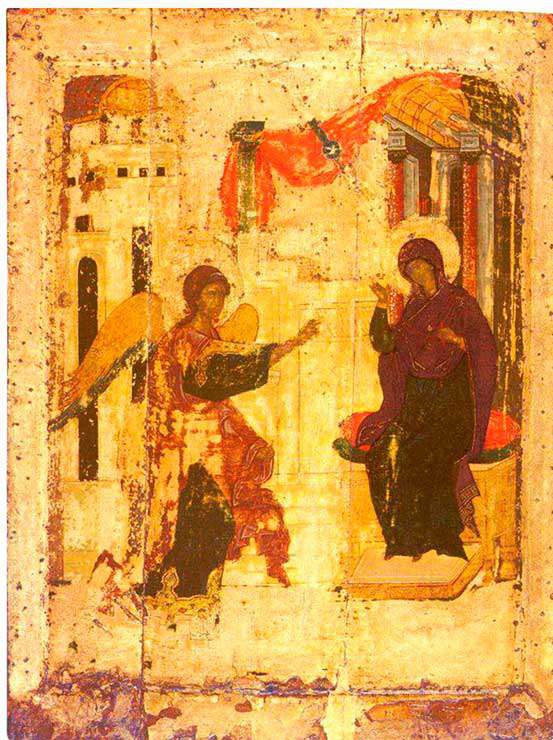
Благовещение — это изображение весеннего мартовского (по старому стилю) праздника. Март, по старому русскому календарю, — первый месяц года. Он считался и первым месяцем творения. Утверждалось, что земля и воды, небесная твердь, растения и звери, и первый человек на земле начали свое бытие в марте. И тогда же, в марте, произошло Благовещенье деве Марии о рождении от нее спасителя мира. С детства Андрей слышал много раз это повествование , с детства помнил знакомые ему ощущения — запах тающего снега, серое. теплое утро и среди скорбных дней поста радостное пение, голубой дым от ладана, сотни горящих свечей и медленно, нараспев возвещаемые дьяконом посреди церкви слова.
Эту евангельскую сцену он и писал теперь по золотому фону, как писали ее с древнейших времен. Римские катакомбы, где сейчас находится самое старое из сохранившихся изображение вестника, коленопреклоненного перед девой Марией, археологи датируют вторым веком нашей эры.
На иконе Архангел Гавриил в движении, с приподнятыми крыльями, с подвижными складками одежд, с благословляющей рукой, протянутой в сторону Марии. Он смотрит на нее долгим, глубоким взором. Мария, как будто не видит Гавриила, она опустила голову, размышляет. В руках — алая нить пряжи, необыкновенная весть застает ее за работой. Легкие формы палат, полукруглые своды на стройных колоннах. Алое полотнище, ниспадающее с палат, пронзает луч света с парящим голубем в круглой сфере — образ духа, неземной энергии, ниспосланной Марии. Свободное, воздушное пространство. Тонкое и чистое звучание вишнево-коричневого, красного, от нежного и прозрачного, сквозящего легкой желтизной, до густого, глубокого. Золотистые охры, вспышки белил, ровный свет золота, киноварь.
Богоматерь Владимирская (ок.1408)

Существует знаменитая икона «Владимирской Богоматери» XII века, написанная неизвестным константинопольским художником. Сначала она была в Успенском соборе г.Владимира, а позднее была перевезена в Москву. Но Владимир тоже не хотел оставаться без подобной иконы, и Андрей Рублев, будучи в 1408 году во Владимире, создал свой «список» с той иконы. (Следует сказать, что тогда была такая традиция — иконописцы делали списки с различных, любимых народу, икон.)
Рублевская икона «Владимирской Богоматери» — одно из самых знаменитых ее повторений, созданная для того, чтобы заменить собой в Успенском соборе Владимира древнюю святыню.
Естественно, что художник, создавая эту икону, старается не отступать от оригинала, сохраняя, по древнерусскому выражению, «меру и подобие» древней иконы, повторяя ее размер и все характерные особенности. Действительно, и сейчас, глядя на Рублевскую «Владимирскую», мы узнаем в ней древний прообраз: в тех же позах предстают ласкающие друг другаа прекрасная Богородица и ее таинственный, наделенный недетской мудростью младенец Сын, таак же простерта в жесте молитвы к нему ее рука. Но по сравнению с древней иконой здесь мягче прекрасные узнаваемые черты Богородицы, прозрачнее зрачки ее удлиненных глаз,светлее тонкие брови над ними, более округл и мягок сам овал сияющего розовым светом лика. И иной оттенок обретает одушевляюее эти черты безмерное материнское чувство: чиста, нежна и просветленна та всеобъемлющая сосредоточенная любовь, которой исполнен здесь лик Богородицы.
Крещение Господне
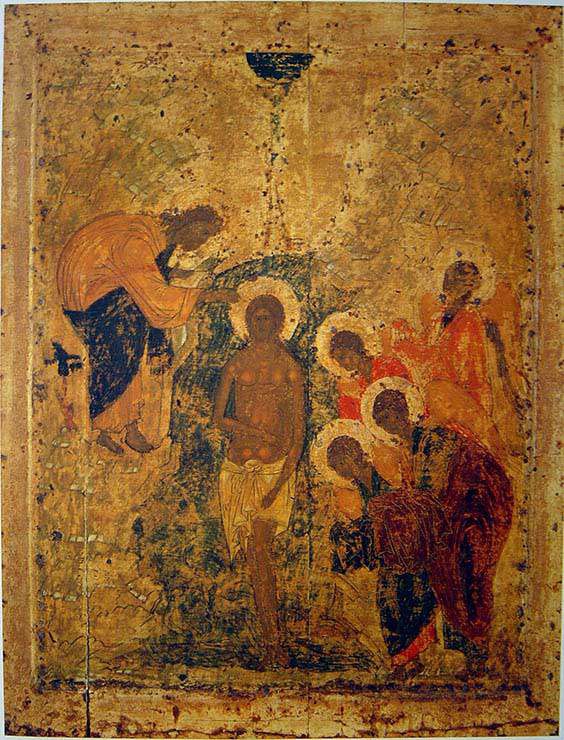
В центре иконы на синих водах Иордана стоит Иисус Христос, на которого указывает отчая рука, к которому летит голубь. И по традиции, восходящей к глубокой древности, в водах Иордана фигуры старца и юноши — олицетворение реки, а рядом с ними плещутся рыбы.
Облик Христа так ясно проявляет здесь его чудесную природу, что, постигая чудо, не к небу, а к нему обращены взоры всех участников события — и Предтечи,и ангелов на другом берегу. Благоговейно касается его рукой, совершая обряд, Иоанн, и это благоговение тем более трогательно, что не только не утратил здесь своей традиционной мощи Христов Предтеча, но она еще подчеркнута широким очерком его фигуры.
Вся икона залита светом, освещая все фигуры на иконе, заливая золотом вершины горок, что за спиной Христа.
Крещение Господне празднуется 6 (18) -го января. Этот праздник следует через 12 дней за Рождеством Христовым. С древности это самое веселое и радостное время года — святки. Святочные радости, забавы и веселья известны нам до сих пор по многочисленным описаниям в русской литературе. И в образах Рождества Христова, и в образах Крещения Господня в русском искусстве никогда не исчезал мотив радости, которую несет миру и рождение, и явление ради него Бога.
Преображение Господне
Об этом выдающемся произведении, где наиболее отчетливо видны не только манера, но и миросозерцание великого художника, написано, пожалуй, больше, чем о всех других праздничных изображениях из Благовещенского собора. «Особенно хорошо «Преображение», выдержанное в холодной серебристой гамме. Надо видеть в подлиннике эти серебристо-зеленые, малахитово-зеленые, бледно-зеленые и белые цвета, тонко гармонирующие с ударами розовато-лилового, розовато-красного и золотистой охры, чтобы по достоинству оценить исключительный …дар художника» (В.И.Лазарев).
В августе празднуют день Преображения на Руси — издревле он отмечался всенародно и радостно. Ранним, уже холодным утром спешил народ на освящение первых поспевших яблок. Отсюда и просторечное название празднику — «яблочный» спас. Корзины, чистые холщовые узелки с отборными, лучшими плодами. Легкий, как будто цветочный, запах. Синее небо, еще летнее, но веет от него предосенним холодком. Зелень листвы серебрится под ветром. Слегка начинает пожухать, желтеть трава. Осень подает свои первые знаки. Время пожинать плоды годовых трудов на земле…
Но это не простой праздник. Предание гласит, как на праздник яблочного спаса Спаситель с тремя своими учениками, ближайшими, доверенными, Иоанном, Петром и Иаковом, отправился однажды из шумного города в дальнее уединенное место, на гору Фаворскую. И там ученикам дано было увидеть странное, загадочное…Тело учителя перед их взором вдруг осиялось необыкновенным светом. Многие считали это явление как проявление божества в Иисусе Христе. (Хотя вот об этом-то чудесном свете, о смысле его, а главное, о происхождении, природе и размышляли, спорили, и не пришли к единому мнению исследователи в дальнейшем).
Икона Рублева изнутри сияет легким и ровным светом. Мы не видим лучей, от которых укрылись апостолы. Они созерцают свет внутри себя. Он разлит во всем творении, просвещает тихо и почти невидимо людей, и землю, и растения. Лица людей обращены не на внешнее, они сосредоточены, в движениях фигур больше задумчивости, чем мгновенного потрясения. Таинственный свет повсюду. В иконе Рублев очень тонко передал образ летней природы в день самого праздника, когда едва заметно блекнут краски, отсветы лета становятся прозрачней, холодней и серебристей, и еще издали чувствуется начавшееся движение к осени. Это прозрение значения праздника в образах самой природы — черта национальная, русская.
Рождество Христово (Благовещенский собор)
Действие происходит на Земле. Горки-лошадки при входе в пещеру, мягкие холмистые округлости внизу иконы, разбросанные то тут, то там небольшие деревья и кусты — все это образ земного пространства, по которому долго скачут за таинственной, движущейся по небу звездой к месту рождества, к Вифлеему мудрецы Востока — волхвы (они изображены в верхнем левом углу иконы).
Это и вершины, с которых слышится пастухам пение ангелов. И ту часть пути по земле, который проделали извещенные чудным ангельским пением пастухи, тоже изображают эти поросшие лесом горки и холмы.
Вот в правом верхнем углу из поющего ангельского сонма выделены три ангела в сияющих одеждах. Первый из них держит руки в складках одежд. Покровенные руки — древний символ благоговения, уважения. Здесь это знак преклонения перед совершающимся. Средний ангел, беседуя с первым, как бы узнает о событии…Третий из них, преклонившись долу, обращается к двум пастухам, сообщая им радостную весть. Те внимательно слушают, опершись на свои узловатые посохи. Им первым на земле открыто о дивном рождении.
Эти пастухи, стерегущие день и ночь в удаленной от селения местности свой скот, «были очищены уединением и тишиною». Вот один из них — старец в сшитой из шкур мехом наружу одежде, которая называлась у греков и славян милотью и была одеждою самых нищих, бедных людей, стоит. с доброжелательным вниманием склонившись перед Иосифом — обручником Марии. Иосиф изображен Рублевым раздумывающим о чудесных событиях. За пастухом под тенью дерева лежат несколько животных — овцы, козы. Они, как и люди, растения, сама земля, — участники события, которое столь значительно, что касается всего творения, всякой отдельной твари.
А в центре иконы в соответствии с традицией Андрей изобразил алое ложе, на котором полулежит, опершись на руку, Мария, окутанная в багряно-коричневые одежды. Ее фигура очерчена гибкой, певучей линией. Она не потрясена и не устала, необыкновенное рождение безболезненно. Но оно трудно вместимо в человеческое сознание. Поэтому Мария осознает происшедшее в глубокой задумчивости. Она находится в пещере, но по законам пространства, свойственным иконописи, ее ложе «вынесено» художником на первый план и дано на фоне пещеры в более крупном виде, чем остальные фигуры. Зритель видит все сразу: и гору, и вход в пещеру, и то, что происходит внутри ее.
За ложем Марии в яслях-кормушке для животных лежит спеленутый младенец, а над ним стоят животные — вол и похожий на лошадь осел. Рядом — еще одна группа ангелов, согбенных, с покровенными руками.
Внизу служанки купают новорожденного «отрачо младо». Одна из них, склонившись, льет воду из кувшина в купель, другая держит на коленях полуобнаженного младенца, который тянется к ней детской своей ручонкой…
Личное. живое и трогательное переживание события, глубокая поэзия свойственны этому рублевскому творению.
Сошествие Святого Духа.(Фреска) Владимир.1408г.
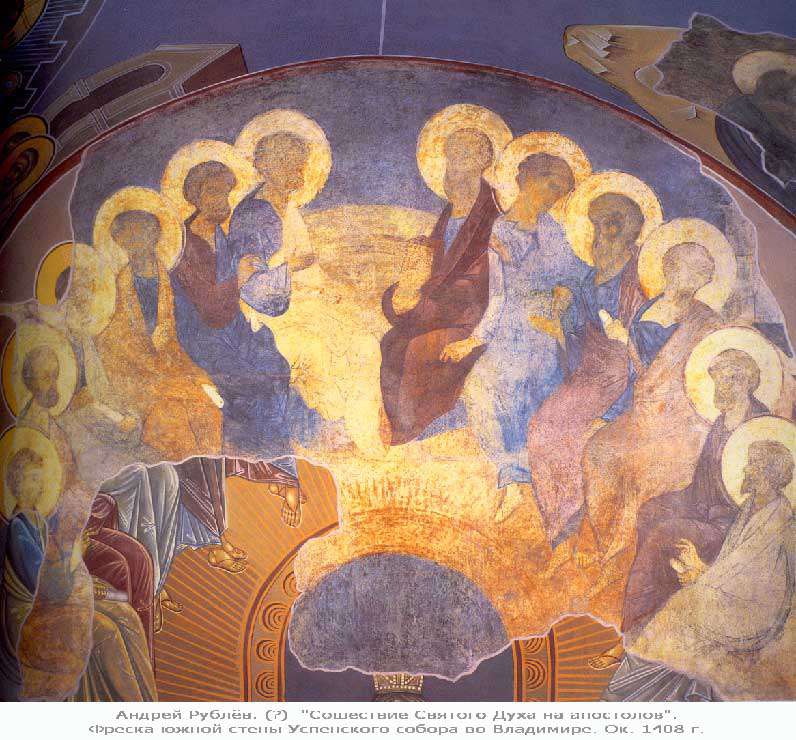
Сошествие Святого Духа на апостолов с глубокой древности почиталось как событие важнейшее: в нем проявил себя снизошедший в мир Дух Божий, освятив начало проповеди Христова учения, начало Церкви как сообщества людей, объединенных одной верой. Сошествие Святого Духа на апостолов поминается через 50 дней после Пасхи. Во второй день этого праздника, который называется Духовым днем, воздается особое почитание Святому Духу, видимо сошедшему на учеников Христовых.
Изображать Сошествие святого Духа на апостолов начали с древнейших времен. Для этого еще в византийском искусстве была выработана очень простая и выразительная композиция.
В центре композиции закрытые двери — знак той закрытой горницы, в которой апостолы пребывали единосущно в день Пятидесятницы, — восседают они здесь как бы по сторонам развернутого на зрителя полуовала. В знак того, что на них снизошел Святой дух, вокруг апостолов золотые нимбы, золотой свет разлит вокруг, даровав апостолам силу. Знаком их высокого, обращенного к миру учительства, являются свитки в руках четырех апостолов и поднятые в благословении руки святых.
Сошествие во ад (1410)
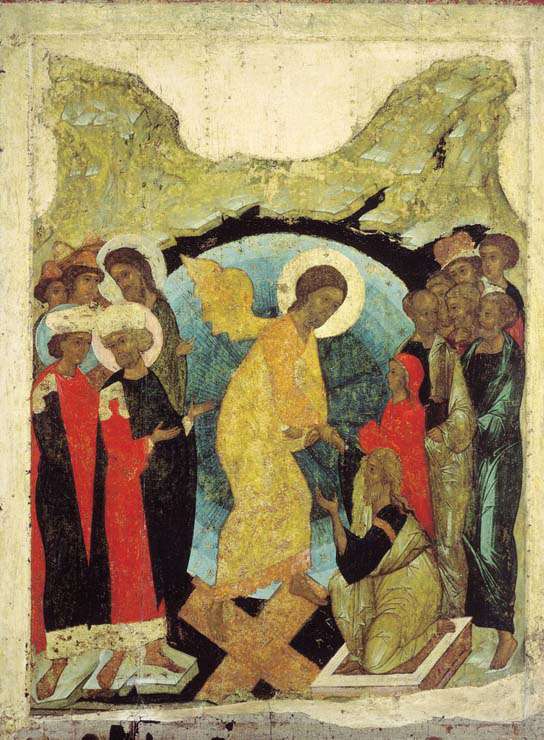
После распятия Иисус Христос спустился в ад, сокрушив его ворота, принес свою, евангельскую проповедь, освободил заключенные там души и вывел из ада всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. Сошествие Христа в ад входит в число Страстей Христовых. Считается, что это событие произошло на второй день пребывания Христа во гробе и вспоминается за богослужением Великой Субботы.
В Христианстве «Сошествие во ад» завершило искупительную миссию Иисуса Христа и явилось пределом уничижения Христа и в то же время началом его славы. Согласно христианскому вероучению, Иисус своим вольным страданием и мучительной смертью на кресте искупил первородный грех прародителей и даровал силу бороться с его последствиями их потомкам.
Стоя на скрещенных створках врат ада, Христос взял за руку Адама, представленного справа преклонившим колено в своей каменной гробнице. За Адамом выпрямилась маленькая Ева в красной одежде. Позади теснятся праотцы, за ними виднеется сын Симеона Богоприимца, от лица которого и рассказывается о событии в апокрифе.
Слева представлены цари Давид и Соломон. Над ними выделяется крупная фигура Иоанна Предтечи, обернувшегося к идущим за ним пророкам.
Светло-голубая слава Христа круглится на фоне черной пещеры.Выше вздымается широкая пологая скала с двумя вершинами, уходящими в верхние углы иконы. Рублев использовал для своей живописи золотистую и зеленоватую охру, синий цвет, голубец и яркую киноварь. Икона создает настроение радости и надежды.
Спас Вседержитель (15 в.)
Лик Спаса дышит силой и покоем. Это лицо зрелого человека в мерном развитии духовных и физических сил. Сильно открытая, крепкая шея Спаса повернута как бы несколько в сторону, в то время как лицо, обрамленное тяжелой шапкой длинных, спускающихся почти до плеч волос, обращено прямо к зрителю. Такое соотношение разворота шеи и лица сообщает сразу ясно уловимое движение по направлению к человеку, который стоит перед иконой. Небольшие, чуть суженные глаза внимательно и доброжелательно смотрят из-под слегка приподнятых бровей. В нежном живописном свечении лица, написанного плавными бликами прозрачной охры, с теплыми высветлениями, которые мягко обозначают объемы, этот взгляд определенно выделен. Рублев четкой, уверенно очерченной линией обозначил глаза, верхние веки и брови.
«Спас» Рублева поразил современников. Русский человек выделил самое главное, что он видел в Спасе, — любовь, готовность пострадать за ближнего вплоть до мучительной смерти. Та же мысль была ясно выражена и в надписи, которая была когда-то начерчена Рублевым на раскрытых листах книги в руках Иисуса. Надпись эта утрачена, поскольку от иконы сохранилась лишь голова и малая часть одежд. Предположительно, слова были такие: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и аз упокою вы».
Сретение Господне (1405)
Праздник «Сретение» был известен уже в IV веке. В Риме, в церкви Марии Великой, сохранилось до наших дней древнейшее из дошедших изображений, относящееся к V веку. Сретение по смыслу тесно связано с Рождеством. Его и отмечали на сороковой день после рождественских торжеств. На Руси в первые дни февраля (сейчас это 15 февраля), по старой народной примете, после ветреных метельных дней усиливался мороз. Стояла глубокая зима. Но начинались приготовления к весенним полевым и иным работам. Дни еще короткие. Тихое, располагающее к раздумьям время. Сам праздник строгий, в его песнопениях нарастает настроение покаяния. Посмотришь на икону Рублева, и первое впечатление, что изображен исполненный торжества и значительности обряд. Мария и Иосиф приносят сорокадневного Иисуса в храм. Здесь, при храме, живет пророчица Анна. Она предсказывает необыкновенную судьбу новорожденному. В самом храме их встречает, отсюда и название события «сретение» — встреча, старец Симеон, которому уже давно дано обетование, что он не вкусит смерти, пока не узрит и не примет на руки рожденного на земле спасителя мира. И сейчас он узнаёт, ясно чувствует, что миг этот настал…
На иконе, мерно ступая, движутся навстречу Симеону на одинаковом расстоянии друг от друга мать с младенцем на руках, Анна, за ней обручник Иосиф. Высокие стройные их фигуры Рублев изобразил так, что они видятся соединенными, перетекающими одна в другую. Их мерному движению, торжественному, неуклонному и неотменимому, как бы указывая на его значительность, вторит легко изгибающаяся стена, которая изображает преддверие храма. А навстречу младенцу в глубоком, смиренном поклоне протягивает благоговейно покровенные одеждами руки ветхий служитель ветхозаветного храма. Сейчас он приемлет на руки…Свою собственную смерть. Дело его на земле окончено: «Ныне отпушаеши раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром…».На смену старому, ветхому приходит мир новый, завет иной. И ему, этому новому, таков всеобщий и всеобъемлющий закон жизни, придется укорениться в мире только через жертву. Юное «отроча» ждет позор, поругание, крестная мука.
В сдержанном настроении, в лицах, как бы подернутых дымкой печали, Рублев выразил это будущее, жертвенное, смертное. И с особой силой пережил это художник, когда писал лицо Богоматери. Мария знает о судьбе сына, прозревает и собственное страдание, «оружие», которое «пройдет ее сердце». Трепетное это материнское чувство хорошо видно, но дано с редкой и благородной мерой сдержанности. Все, чему суждено свершиться, нужно для людей, для всего мира.
Воскрешение Лазаря
Праздник «Лазарева суббота» приходится на субботу перед Вербным Воскресеньем, всегда весной, в апреле или мае. В природе все как будто в ожидании. Вроде бы и зима миновала, и снег почти сошел, и звенят первые капели, но по утрам еще бывают заморозки. И только днем, когда выглянет солнце, волнующе запахнет оттаявшая земля. На лесных опушках скромное среднерусское первоцветье, пушистые шарики расцветающей вербы…
Иисус с немногими учениками странствует по каменистым пустыням и селениям Палестины. Он творит множество добрых дел, исцеляет больных, увечных. Все более определенно в его словах звучат признания о его небесном посланничестве.
Но не такого «мессию» — спасителя ждали для себя иудеи. Многие согласны бы считать его и учителем и пророком, но он проповедует терпение и кротость, призывает отдать свое и не брать чужое. И совсем странные, непереносимые мысли иногда слышит толпа, которую он привлекает своими речениями. Не один народ на земле избран богом, есть и другие, и отнимется вскоре честь избранничества от «жестоковыйного Израиля».
Власти и книжники иудейские ищут способа схватить Христа и убить. Но есть и понимающие, благодарные, жаждущие научения. И все же времена сбываются, смертный час его близок. Но Иисус пока уклоняется от рук преследователей и уходит в Заиорданье, в те места, где еще недавно призывал народ к очищению и покаянию его предшественник — «предтеча» Иоанн. Во время отсутствия Иисуса в Вифании — селении неподалеку от Иерусалима — умирает его друг Лазарь. Когда Иисус, возвращаясь назад, проходил это селение, сестры умершего — Марфа и Мария сообщают, что брата их нет в живых уже четвертый день…
И вот пишет Андрей Рублев икону «Возвращение Лазаря». Вот уже очерчены человеческие фигуры, палаты…У входа в погребальную пещеру Иисус, его ученики, толпа. Справа, в горе намечает он спеленутую по ногам и рукам фигуру…
«Откиньте камень, — говорит Иисус и уже громким голосом взывает: — Лазарь, иди!..» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами…
Быстрыми мазками выписывает детали. Последние мазки…Вот благодарные Марфа и Мария припадают к стопам Иисуса. Эта стремительность подчеркнута Рублевым и движущимися в противоположную сторону согнутыми фигурами юношей, которые несут тяжелую плиту, отваленную от пещеры. Лазарь медленно и неловко движется, но уже вне могилы. Юноша справа от Лазаря в живом движении повернулся в сторону воскрешенного, в его руке конец ленты, которой обмотаны погребальные пелены.
Все действие происходит на фоне золотистых, мягко светящихся горок, между которыми в отдалении видна почти не отличающаяся по цвету постройка, очевидно, покинутый дом Лазаря. Теплое это свечение сообщает всему изображению настроение праздничной радости и покоя.
Это праздник победы света, жизни над темой смерти.
Вознесение Господне (1408)

Вознесение на небо Иисуса Христа, воплотившегося Бога и Сына Божьего, — великое, завершающее событие евангельской истории. в честь него установлен один из величайших христианских праздников. Еще в византийском искусстве сложился канон изображения Вознесения в тех деталях и подробностях, которые унаследовали и древнерусские иконописцы. наполнив изображения Вознесения той радостью, которую стремится раскрыть людям его праздник.
Вот на иконе Рублева предстает пред нами Вознесение. Белые горки, залитые светом, изображают собой и гору Елеонскую, и всю покинутую вознесшимся Иисусом Христом землю. Сверху парит над ней сам вознесшийся; его человеческая одежда уже преобразилась в пронизанные золотом одежды, и знаком божественного света окружает его сияющий бирюзовый круг мандоролы — славы.
Иисус Христос, согласно Евангелию, вознесся сам, но здесь несут его мандоролу ангелы, вечные спутники Божии, воздавая ему честь. Подлинным Вседержителем, победившим страдание и смерть, присущие человеческому естеству, предстает здесь Иисус Христос. И потому такую радость и надежду несет то благословение, которое он из сияющего света посылает, подняв десницу, оставляемой им земле, стоящим на ней свидетелям его Вознесения. Прямо под Иисусом Христом стоит Богородица. Она радуется победе Сына и свет этой радости легкими тонкими мазками пронизывает ее одежды. С двух сторон окружают Богородицу апостолы. Радостного потрясения исполнены их жесты, свет наполняет и их алые, темно-розовые, нежно-желтые одежды. Между Богородицей и апостолами с двух сторон торжественно смотрят на нее два ангела, которые явились на место Вознесения. Их фигуры в белоснежных одеяниях и мерцающие золотом нимбы усиливают ощущение света и радости, исходящие от иконы. А их воздетые руки вверх указывают на возносящегося Иисуса Христа как на источник радости не только для апостолов, но и для всех, кто смотрит на эту икону.
с. 264¦ Рублев Андрей
Родился около 1370 года, умер 29 января («на память Игнатия Богоносца») 1430 года1 в «старости велице»2. Рублев был иноком Андроникова монастыря3. В 1405 году он работал в Благовещенском соборе Московского Кремля вместе с Феофаном Греком и старцем Прохором с Городца4. В 1408 году Андрей Рублев вместе с Даниилом Черным расписывал стены и писал иконы в Успенском соборе города Владимира5. В 1420-х годах Андрей Рублев, вместе с Даниилом и «некими с ними», работает в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры6, а в конце этого десятилетия — в Спасском соборе Андроникова монастыря в Москве7. Лучшее и наиболее бесспорное произведение Рублева — Троица из Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (см. № 230). Сохранились написанные им вместе с другими художниками иконы в иконостасах
с. 264
с. 265¦
Благовещенского собора Московского Кремля и в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря, а также иконы праздничного, деисусного и пророческого чинов Успенского Владимирского собора (см. № 223, 224, 225). Принято считать, что руке Андрея Рублева принадлежат три иконы поясного деисусного чина, вывезенные из Звенигорода (см. № 229). Возможно, что Рублев вместе с другими иконописцами создал Успение из иконостаса Успенского собора Кириллова Белозерского монастыря (см. № 228). Из произведений его монументальной живописи сохранилась только часть фресок в Успенском соборе в г. Владимире и фрагменты орнамента в Андрониковом монастыре8. Существует мнение, что кисти Андрея Рублева и художников его круга принадлежат миниатюры, заставки и заглавные буквы лицевых рукописей конца XIV — начала XV века: Евангелия Кошки (до 1389 г., ГБИЛ), Евангелия Андроникова монастыря (конца XIV — начала XV в., ГИМ), Евангелия Хитрово (конца XIV — начала XV в., ГБИЛ)9. с. 265
¦
АНДРЕЙ РУБЛЕВ, русский художник конца 14 — первой трети 15 века, создатель фресок, икон, миниатюр; преподобный (канонизирован в 1988, память 17 июля). Был известен при жизни, знаменит после смерти (источники 1430-1460-х годов), особо прославляем с конца 15 века («Отвещание…» Иосифа Волоцкого); в 16 веке его работы становятся обязательными образцами для подражания (постановление Стоглавого собора 1551).
Биографические сведения
Имя Андрея Рублева обросло легендами, а в 20 в. — научными гипотезами. Реальные представления о его искусстве появляются после реставрационной расчистки его иконы «Троица» в 1904, но в полной мере — начиная с 1918, когда были расчищены фрески Успенского собора во Владимире и найдены иконы Звенигородского чина.
Первое упоминание о нем — в 1405: по свидетельству летописи он расписывает Благовещенский собор Московского Кремля вместе с Феофаном Греком и старцем Прохором с Городца. Андрей Рублев назван «чернецом», т. е. монахом, и числится последним в перечне имен, т. е. был младшим.
По позднему источнику — «Сказанию о святых иконописцах» (17 в.) известно, что Андрей Рублев жил в Троицком монастыре при Никоне Радонежском, ставшем игуменом после смерти Сергия Радонежского (1392). Предполагают, что здесь он был пострижен в монахи (по другой гипотезе — в Андрониковом монастыре в Москве). В 1408, по свидетельству летописи, расписывает вместе с Даниилом Черным древний (12 в.) Успенский собор во Владимире; назван вторым после Даниила.
В 1420-х гг. по свидетельству «Жития Сергия Радонежского» (редакция Епифания Премудрого и Пахомия Серба) и «Жития Никона» — источников 1430-50-х гг. — оба мастера расписывают церковь св. Троицы в Троицком монастыре, построенную в 1423-24 над гробом Сергия Радонежского вместо старой деревянной (1411). После смерти Даниила, похороненного в Троицком монастыре, Андрей Рублев возвращается в Москву в Андроников монастырь, где исполняет свою последнюю работу — роспись церкви Спаса (ок. 1426-27), законченную ок. 1428. Умер 29 января 1430 в Андрониковом монастыре (дата установлена П. Д. Барановским по копии 18 в. с надписи на утраченной надгробной плите).
Проблемы атрибуции
Из указанных в источниках произведений Андрея Рублева, сохранились крайне мало: фрески в Успенском соборе во Владимире и знаменитая икона «Троица» из иконостаса Троицкого собора Троицкого монастыря. Из двух дат написания «Троицы», предлагаемых источниками, — 1411 и 1425-27 — более вероятной представляется последняя. Другие произведения, перечисленные источниками, либо не сохранились, либо принадлежат не Андрею Рублеву, а ученикам — членам артели, возглавляемой Даниилом Черным и Андреем Рублевым (иконостасы Успенского собора во Владимире и Троицкого собора Троицкого монастыря).
Андрею Рублеву приписывают также следующие произведения, о которых нет исторических свидетельств:
1) некоторые миниатюры и инициалы евангелия Хитрово, нач. 15 в. [в том числе миниатюры с изображениями евангелистов Матфея, Марка, Луки];
2) две иконы из Деисуса и семь икон из Праздничного ряда [«Благовещение», «Рождество», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «Воскрешение Лазаря» и «Вход в Иерусалим»] иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля [Исследования, проведенные в 1980-е гг., показали, что все убранство Благовещенского собора погибло в огне пожара 1547 года — в том числе и «деисус Андреева писма Рублева». Тем не менее, сегодня не достигнуто единодушного мнения исследователей по вопросу атрибуции дошедших до нас деисусного и праздничного рядов иконостаса Благовещенского собора. Более подробная информация по атрибуции изложена в отдельных разделах сайта, посвященных деисусному и праздничному рядам иконостаса. — прим. ред. сайта];
3) Звенигородский чин: три иконы (Христос, архангел Михаил и апостол Павел) из Деисуса, состоявшего по меньшей мере из семи икон, нач. 15 в.;
4) икона Богоматери «Умиление» из Успенского собора во Владимире, ок. 1408 (сейчас в музее г. Владимира);
5) три иконы из Деисуса (Христос, Иоанн Предтеча и апостол Павел) и одна икона из праздничного ряда («Вознесение») из иконостаса Успенского собора во Владимире, 1408;
6) фрагменты фресок на алтарных столбах Успенского собора на Городке (Звенигород) с изображениями Флора, Лавра, Варлаама и Иоасафа, преподобного Пахомия и явившегося ему ангела в монашеской схиме;
7) фрагменты фресок на алтарной преграде Рождественского собора в Саввино-Сторожевском монастыре около Звенигорода, 1415-20 гг., с изображением преподобных отшельников Антония Великого и Павла Фивейского;

9) маленькая иконка «Спас в силах» нач. 15 в. (Государственная Третьяковская галерея).
Из всего перечня несомненно принадлежащими Андрею Рублеву можно считать только миниатюры евангелия Хитрово, Звенигородский чин и икону «Богоматерь «Умиление» из Владимира, а также — с известной долей допустимости — фрески в Успенском соборе на Городке.
Образы и стиль
Андрей Рублев воспринял традиции классицизма византийского искусства 14 в., которое он знал по работам греческих мастеров, находившихся в Москве, и особенно по созданиям Феофана Грека московского периода (Донская икона Богоматери, иконы Деисуса в Благовещенском соборе). Другим важным истоком формирования искусства Андрея Рублева является живопись московской школы 14 в. с ее проникновенной душевностью и особой мягкостью стиля, опирающаяся на традиции владимиро-суздальской живописи 12 — нач. 13 вв.
Образы Андрея Рублева в целом адекватны образам византийского искусства ок. 1400 и первой трети 15 в., но отличаются от них большей просветленностью, кротостью и смирением; в них нет ничего от аристократического благородства и интеллектуального достоинства, воспеваемых византийским искусством, зато предпочтение отдается скромности и простоте. Лица — русские, с некрупными чертами, без подчеркнутой красивости, но всегда светлые, благообразные.
Почти все персонажи погружены в состояние безмолвного созерцания, которое может быть названо «богомыслием» или «божественным умозрением»; какие-либо внутренние аффекты им не свойственны. Кроме тихого глубокого созерцания Андрей Рублев иногда сообщает своим образам духовный восторг, вызывающий сияние глаз, блаженные улыбки, свечение всего облика (трубящий ангел во фресках Успенского собора), иногда — высокое вдохновение и излучающуюся силу (апостолы Петр и Павел в «Шествии праведных в Рай», там же).
Классическое чувство композиции, ритмов, всякой отдельной формы, воплощенное в ясности, гармонии, пластическом совершенстве, у Андрея Рублева столь же безупречно, как у греческих мастеров первой трети 15 века. При этом некоторые черты классической системы Андрей Рублев как будто специально приглушает: округлость формы не подчеркивается, иллюзионистические моменты (например, анатомически верная передача суставов) отсутствуют, благодаря чему объемы и поверхности кажутся преображенными, — как и в византийском искусстве, всякая форма предстает у Андрея Рублева перевоплощенной, одухотворенной Божественными энергиями. Это достигнуто приемами, общими для всего искусства византийского круга: лаконичные контуры и силуэты, придающие фигурам невесомость; замкнутые параболические линии, сосредотачивающие мысль и настраивающие на созерцание; тонкие очертания складок одежд, сообщающие тканям хрупкость; световая насыщенность каждого цвета, делающая колорит сияющим, и др. Однако эти общевизантийские черты стиля раннего 15 в. Андрей Рублев видоизменяет, ибо идеальные классические формы, привычные для греческих мастеров с античных времен, не являются для него самостоятельной ценностью. Кроме того, качествам, свойственным всему византийскому искусству, Андрей Рублев сообщает черты, характерные для русского искусства кон. 14 — нач. 15 вв.: линии становятся певучими, ритмы — музыкальными, повороты фигур и наклоны голов — мягкими, одеяния — воздушными, красочная гамма — светлой и нежной. Во всем — отблески гармонии Рая и одновременно — расположенность к человеку, доброта.
Истоки присущей Андрею Рублеву созерцательной глубины восприятия — в духовной ситуации позднего 14 в., при Сергии Радонежском, и раннего 15 в., при его учениках. Это было время сильнейшего распространения исихазма в Византии, получившего широкий отклик на Руси. Интонация райской гармонии, пронизывающая творчество Андрея Рублева, характерна для искусства всего христианского мира первой половины 15 в. — Византии (фрески Пантанассы в Мистре, ок. 1428), Сербии (фрески Манасии до 1418 и Каленича ок. 1413), Западной Европы (Гентский алтарь Яна Ван Эйка, 1432; создания Фра Беато Анджелико).
Творчество Андрея Рублева определило в 15 в. расцвет национальной школы русской живописи, оригинальной по отношению к Византии. Оно оказало огромное влияние на все русское искусство московского круга вплоть до Дионисия.
О. С. Попова
Содержание словарной статьи:
- Сохранившиеся произведения
- Приписываемые произведения
- А. Стенные росписи
- Б. Иконы
- В. Миниатюры
- Источники
- А. Летописные известия
- Б. Житийные известия
- В. Припоминания о Рублеве
- Г. Припоминания о произведениях Рублева
- Д. Изображения Андрея Рублева
- Библиография
РУБЛЕВ АНДРЕЙ (род. ок. 1360, ум. 1428–1430) — величайший художественный гений Древней Руси и, вероятно, самый крупный живописец России за всю ее историю.
Сведения о его жизни и творчестве скудны. Однако по сравнению с данными о других живописцах XII–XV вв. они достаточно многочисленны, что свидетельствует о признании его таланта современниками и потомками.
Предполагаемая дата рождения Рублева — ок. 1360 г. Нет никаких сообщений ни о месте рождения, ни о происхождении его. Неизвестно даже имя художника, так как Андрей — его второе, монашеское имя. О годах приобщения Рублева к мастерству живописи и о начале его творческого пути также нет никаких сведений.
Самые ранние документальные свидетельства о художнике содержат летописи. Под 1405 г. Троицкая летопись 1412–1418 г. сообщает: «Тое же весны почаша подписывати церковь каменую святое Благовещение на князя великаго дворе, не ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник Гръчин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша ю» (Приселков 1950:459).
Роспись 1405 г. просуществовала недолго, так как уже в 1416 г. Благовещенская церковь была полностью перестроена (Кучкин В. А. К истории каменного строительства в Московском Кремле в XV в. // Средневековая Русь: Сб. ст. М., 1976:293–297).
Анализ летописного текста позволяет предполагать, что Рублев — коренной москвич (летописец сообщает прозвищное отчество художника, а также подчеркивает немосковское происхождение Прохора), что монашеский постриг художник принял незадолго до 1405 г. (чернецами обычно называли новопостриженных монахов), что он младший из членов артели (поскольку назван последним).
Место пострижения художника достоверно не известно. Скорее всего это был Спасо-Андроников монастырь (основан в 1358–1359 гг.), старцем которого Рублев был в конце жизни, где он скончался и был погребен. Житие Сергия Радонежского называет второго игумена этой обители Савву в качестве учителя Андрея в монашестве.
Есть основания считать, что до 1405 г. Рублев работал в Успенском соборе Звенигорода, на дворе удельного князя Юрия Дмитриевича (см. раздел «Приписываемые произведения». А-1, Б-1).
Под 1408 г. та же Троицкая летопись сообщает: «Мая в 25 начаша подписывати церковь каменую великую соборную святая Богородица, иже во Владимире, повелением князя великаго, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев» (Приселков 1950:466). Стенопись 1408 г. сохранилась частично; это единственный документально подтвержденный и точно датированный памятник в творческом наследии художника. Росписи Успенского собора выполнены Рублевым совместно с Даниилом, притом имя последнего летописец поставил на первое место. Отсюда можно предполагать, что Даниил был старшим по возрасту и опыту. По свидетельству Иосифа Волоцкого, Даниил был учителем Рублева в живописном мастерстве (см. раздел «Источники». В-1). Тесная духовная связь двух иконописцев — «сопостников» сохранялась до самой смерти.
После 1408 г. в известиях об Андрее Рублеве наступает длительный перерыв — до сер. 1420-х гг. Возможно, что вскоре после 1416 г. он работал над украшением Благовещенского собора в Московском Кремле. Некоторые основания для такого предположения дает сообщение, содержащейся в «Летописце начала царства» 1533–1552 г. «Повести о пожаре 1547 г.», что в Благовещенском соборе: «деисус Ондреева писма Рублева златом обложен… погоре» (см. раздел «Источники». Г-7). Вероятно, под «деисусом» следует понимать целый иконостас; не те ли это «Деисус, Праздники и пророки», которые в 1508 г. великий князь Василий Иванович повелел «украсити и обложити сребром и златом и бисером»? (ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853:247).
Cведения о последних работах Рублева и Даниила содержатся в разных редакциях житий Сергия Радонежского и его ученика Никона, составленных Пахомием Сербом (Логофетом) в 1440–1450-х гг. Они сообщают, что Даниил и Андрей были приглашены игуменом Троице-Сергиева монастыря Никоном для росписи каменного Троицкого собора. «Создав» церковь «зело красну» и украсив ее «многими добротами», Никон жаждал еще при своей жизни увидеть расписанным построенный им храм. Житие Сергия говорит, что Никону пришлось упрашивать живописцев («умолени быша»), что со всей определенностью свидетельствует о том, что они не были монахами Троицкого монастыря (это подтверждается также «Отвещанием любозазорным» Иосифа Волоцкого, который несомненно отметил бы принадлежность художников к троицкой братии, см. раздел «Источники». В-1).
Жития свидетельствуют, что все работы по строительству и украшению собора проводились спешно, так что можно считать, что к росписи храма приступили через год после окончания его строительства — срок, необходимый для просушки стен. К сожалению, жития не содержат ни даты сооружения собора, ни времени его росписи, которые устанавливаются лишь косвенным путем. Вероятно, он был сооружен в 1422–1423 гг.; в этом случае время работы Даниила и Андрея можно определить как 1424–1425 гг. Определенно, работы были завершены до смерти их заказчика, игумена Никона, который скончался 17 ноября 1428 г. (Дудочкин 2000:25).
Роспись Троицкого собора 1424–1425 гг. не сохранилась, так как в 1635 г. ввиду ветхости она была заменена новой (Краткий летописец Святотроицкой Сергиевой лавры. СПб., 1865:8). Однако ее иконографическая программа может в основной своей части быть реконструирована, поскольку мастера XVII в. следовали иконографии древних стенописей (Чураков 1971; Брюсова 1995:99–104). Росписи XVII в. сохранились лишь частично, их состав известен благодаря описи 1777 г. (Воронцова 1909; Брюсова 1995:149–150).
Хотя жития ничего не говорят о том, писали ли Рублев с Даниилом иконы для Троицкого собора, все исследователи (кроме Н. К. Голейзовского, см.: Брюсова 1995:144, примеч. 4) единодушны во мнении, что сохранившийся в храме комплекс принадлежит к рублевской эпохе и что в той или иной степени Рублев и Даниил участвовали в его создании (см. раздел «Приписываемые произведения». Б-4). Житие Никона сообщает, что Даниилу и Андрею помогали «некии (прочие) с ними». Вероятно, эти «некие» выполняли в основном подсобные работы.
После завершения работ в Троицком монастыре художники возвратились в Москву в свой родной Андроников монастырь, где, прожив еще несколько лет, украсили недавно возведенный каменный собор «подписанием чюдным». Эти росписи также утрачены, за исключением орнаментальных фрагментов в откосах оконных проемов алтарной апсиды (см. раздел «Сохранившиеся произведения». 3).
Жития не сообщают времени построения церкви и ее украшения; эти даты устанавливаются косвенным путем. В житии Сергия говорится, что каменный собор был сооружен и расписан при игумене Александре (между 1410–1416 гг. и не ранее 1427 г.) (Дудочкин 2000:26). Вероятно, росписи выполнены в 1425–1427 гг.
Житие Сергия повествует, что старец Андрей вместе с игуменом Александром создали в обители прекрасную каменную церковь и своими руками украсили ее «подписанием чюдным». Это позволило сделать вывод, что Рублев был к этому времени соборным старцем, управлявшим вместе с игуменом и другими соборными старцами обителью (Тихомиров 1961:16). Слова жития означают, что Александру и Андрею принадлежит идея строительства и общее руководство, а выражение «своима руками» прямо указывает на Андрея как исполнителя росписи собора.
После окончания росписи храма художники прожили мало: сначала скончался Андрей, за ним вскоре разболелся и умер Даниил. Согласно житиям Сергия и Никона, к этому времени Даниил и Андрей находились «в старости великой», а такой старостью в те времена считали возраст 70–80 лет. Поскольку это случилось ок. 1430 г., время рождения Андрея Рублева можно условно отнести к 1360 г. (Тихомиров 1961:3). Если верить вызывающим большие сомнения материалам архитектора П. Д. Барановского, то Андрей Рублев скончался в ночь с пятницы на субботу на память Игнатия Богоносца 29 января (11 февраля по новому стилю) 1430 г. (см. раздел «Источники». В-10). Погребены Даниил и Андрей были на монастырском кладбище, близ Спасского собора. Их могилы еще существовали во 2-й пол. XVIII в. Перестройки в Спасо-Андрониковом монастыре, проводившиеся в конце этого же столетия, не пощадили и места захоронения художников (см. раздел «Источники». В-8).
Опиравшиеся на свидетельства современников Рублева, его «биографы» Пахомий Логофет и Иосиф Волоцкий донесли до наших дней драгоценные штрихи удивительно светлого образа двух подвижников-художников, «совершенных» монахов. Они характеризуются как «чудные добродетельные старцы и живописцы», «любовь к себе велику стяжавшее», «чудесные незабвенные мужи», «всех превосходящи» живописцы и «в добродетелях совершенны» иноки. О Рублеве говорится как о «необыкновенном» иконописце, «всех превосходящем мудростью великой», подчеркивается его смирение, вероятно потому, что оно было отличительной чертой его характера. Иосиф Волоцкий, поклонник творчества Рублева и Дионисия, свидетельствует, что через созерцание икон Андрей и Даниил возносились своими мыслями «к невещественому и божественному свету», поэтому лицезрение икон всегда было для них праздником, наполнявшим их сердца «божественыя радости и светлости»; даже в праздничные дни, «егда живописательству не прилежаху», они, часами «на седалищих седяща», созерцали иконы. В описанной Иосифом Волоцким практике «умной молитвы» несомненны элементы и художественного созерцания, т. е. любования иконами как произведениями искусства (Алпатов 1972:45, 104).
Иосиф Волоцкий приводит красивую легенду, родившуюся в стенах Троице-Сергиева монастыря, что в предсмертном видении Даниилу явился его сопостник Андрей «в мнозе славе и с радостию призывающа его в вечное оно и бесконечное блаженьство». За святость жизни и подвиг иконописания в 1988 г. Андрей Рублев был причислен Русской православной церковью к лику святых (память 17 (4) июля).
[ ↑ Содержание ]
Сохранившиеся произведения:
С момента открытия подлинных работ Андрея Рублева (1918) в науке не прекращаются споры о принадлежности кисти мастера тех или иных произведений. Поскольку проблема не может считаться решенной до настоящего времени, мы предлагаем положить в основу выделения достоверных произведений художника строгий признак — наличие прямых исторических свидетельств. При таком подходе круг достоверных произведений Рублева сузится до трех: стенные росписи Успенского собора во Владимире, икона «Троица» и фрагменты орнамента в соборе Андроникова монастыря. Коллективный характер стенописных работ, а также их плохая сохранность делают задачу выделения индивидуального стиля мастера трудноразрешимой. По существу только «Троица» может служить основанием для суждения о стиле живописи Андрея Рублева.
-
Фрески Успенского собора во Владимире. 1408[–1409?] г.
От росписи 1408 г. до нас дошли отдельные части: 1. Предтеченского цикла, 2. Богородичного цикла, 3. Праздничного цикла, 4. Страшного суда, а также отдельные изображения святых, орнаменты и полотенца в различных частях храма.
Сохранились следующие композиции и изображения (поскольку фрески 1408 г. уцелели лишь в пределах первоначального здания времени Андрея Боголюбского, то используемые нами топографиические обозначения имеют в виду лишь старую часть храма).
Под сводами:
- Фрагмент левой части и часть лика справа из композиции «Жертвоприношение Иоакима и Анны» (северный склон свода над средней частью хор);
- Верхняя часть сцены «Введение Богородицы во храм» (западная стена, люнет над средней частью хор);
- Фрагмент сцены «Крещение» (западный склон свода южного рукава креста);
- Верхняя часть композиции «Преображение» (люнет стены северного рукава креста);
- Часть композиции «Сошествие Святого Духа» (люнет стены южного рукава креста).
В жертвеннике:
- Часть медальона с полуфигурным изображением святителя (северный склон восточной арки и пята северо-восточной лопатки жертвенника);
- Фрагменты фигур двух святителей в рост (1-й, верхний, регистр северо-восточной лопатки жертвенника);
- «Благовестие Захарии» (2-й регистр северо-восточной лопатки жертвенника);
- Два фрагмента верхней части (горки) и нижняя часть композиции «Младенец Иоанн Предтеча, ведомый ангелом в пустыню» (3-й регистр северо-восточной лопатки жертвенника);
- Фрагменты фигур двух святителей в рост (левый — св. Елевферий?) (4-й, нижний, регистр северо-восточной лопатки жертвенника).
На подкупольных столпах (столпах подкупольного квадрата):
- Часть фигуры царицы Елены (?) (2-й регистр западной грани северо-восточного подкупольного столпа);
- Частично сохранившаяся полуфигура мученика (медальон 3-го регистра западной грани северо-восточного подкупольного столпа);
- Незначительный фрагмент композиции «Благовещение» (1-й регистр западной грани юго-восточного подкупольного столпа);
- Фигура царя Константина (?) (2-й регистр западной грани юго-восточного подкупольного столпа);
- «Мученик Зосима» (медальон 3-го регистра западной грани юго-восточного подкупольного столпа);
- Нижняя часть фигуры неизвестного князя (Борис? Глеб?) (4-й, нижний, регистр восточной грани юго-западного подкупольного столпа);
- Верхняя часть фигуры св. воина (Димитрий Солунский? Св. Георгий?) (4-й, нижний, регистр северной грани юго-западного подкупольного столпа).
Сцены «Страшного суда» уцелели в западной части среднего нефа и юго-западной части собора.
На стенах и склонах коробового свода западной части среднего нефа (под хорами):
- «Души праведных в руце божией» (медальон шелыги западной арки западной части среднего нефа);
- «Царь Давид» (медальон южного склона западной арки западной части среднего нефа, над трубящим ангелом);
- «Пророк Исайя» (медальон северного склона западной арки западной части среднего нефа, над трубящим ангелом);
- «Ангел господень трубит в море» (южный склон западной арки западной части среднего нефа);
- «Ангел господень трубит на землю» (северный склон западной арки западной части среднего нефа);
- «Ангелы, свивающие небеса в свиток» (восточная часть свода западной части среднего нефа);
- «Спас во славе» (медальон шелыги западной части свода западной части среднего нефа);
- «Этимасия с Богоматерью и Иоанном Предтечей» (люнет над западным входом в западную часть среднего нефа);
- «Апостолы и ангелы» (Иоанн, Симон, Варфоломей, Иаков? и Фома?) (южный склон свода и промежуточной арки западной части среднего нефа);
- «Апостолы и ангелы» (Матфей, Лука, Марк, Андрей и Филипп?) (северный склон свода и промежуточной арки западной части среднего нефа);
- «Лик мучениц и преподобных» (северная грань юго-западного столпа западной части среднего нефа, под южным склоном промежуточной арки);
- «Лик святителей и преподобных» (восточный склон арки прохода из западной части среднего нефа в юго-западную часть храма);
- «Лик пророков и мучеников» (западный склон арки прохода из западной части среднего нефа в юго-западную часть храма);
- «Земля и Море отдают своих мертвецов» (западная щека юго-западного столпа (ниже пяты промежуточной арки), южная стена над аркой прохода в юго-западную часть храма, под апостолами южного склона, южный нижний участок западной стены (под «Этимасией»);
- «Видение четырех царств» («Символы четырех погибельных царств») (медальон шелыги промежуточной арки западной части среднего нефа);
- «Пророк Даниил с ангелом» (южная грань северо-западного столпа западной части среднего нефа, под северным склоном промежуточной арки).
Сцены Рая из «Страшного суда» располагаются на склонах и люнетах свода юго-западной части храма (под хорами).
- «Шествие праведных в рай» («Идут святые в рай») (северный склон свода юго-западной части храма);
- «Райские врата и благоразумный разбойник» («Благоразумный разбойник. Свет невечерний») (западный люнет юго-западной части храма);
- «Лоно Авраамово» («Иаков, Исаак, Авраам и души праведных в раю») (южный склон свода юго-западной части храма);
- «Богоматерь в раю» (восточный люнет юго-западной части храма);
- Медальон с крестом (шелыга восточной арки юго-западной части храма);
- «Савва Освященный» (южный склон восточной арки юго-западной части храма);
- «Антоний Великий» (северный склон восточной арки юго-западной части храма);
- Медальон с крестом (шелыга южной арки юго-западной части храма);
- «Отшельник Онуфрий» (восточный склон южной арки юго-западной части храма);
- «Отшельник Макарий» (Египетский (Александрийский)? Римский?) (западный склон южной арки юго-западной части храма).
Сохранились также орнаменты или их фрагменты в жертвеннике, на восточных подкупольных столпах, в западной части среднего нефа и юго-западной части собора, а также пять полотенец в жертвеннике, на юго-западном подкупольном столпе (нижняя зона восточной грани) и на южной арке юго-западной части храма (нижние зоны склонов).
За многовековую историю своего существования фрески неоднократно поновлялись и реставрировались. В 1859 г. Ф. Г. Солнцевым было раскрыто «Лоно Авраамово». Систематическое раскрытие живописи было предпринято в 1882 г., когда иконописцем-палешанином Н. М. Сафоновым были расчищены почти все известные в настоящее время фрески 1408 г. (за исключением живописи в жертвеннике, «воина» и полотенца на юго-западном подкупольном столпе). Научное раскрытие фресок было предпринято в 1918 г. владимирской экспедицией Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи под руководством И. Э. Грабаря, А. И. Анисимова, В. Т. Георгиевского и Н. Д. Протасова (Г. О. Чириков, А. А. Алексеев, И. А. Баранов, В. Е. Горохов, В. Е. Израсцов, Ф. А. Модоров, В. А. Тюлин, П. И. Юкин и др.). Были раскрыты и укреплены наиболее сохранные из фресок 1408 г. (т. е. весь выявленный в 1882 г. объем живописи, за исключением композиций в верхней части здания). Были обнаружены и промыты фрески в жертвеннике. Впервые были промыты фрески северо-восточного и юго-восточного подкупольных столпов. На юго-западном подкупольном столпе был найден «воин». Работы по дополнительной расчистке, промывке от загрязнений и профилактическому укреплению неоднократно проводились и в последующие годы: в 1929 г. (В. О. Кириков, М. И. Тюлин), в 1931 г. (В. О. Кириков, А. В. Медов, И. Я. Епанечников под руководством Н. И. Брягина), в 1932 г. (В. О. Кириков, А. И. Мещеринов, Е. А. Домбровская), в 1937 г. (И. А. Баранов, Г. В. Цыган), в 1949 г. (В. О. Кириков, А. Т. Силин, Д. П. Липин, А. М. Смирнов под руководством Н. П. Сычева), в 1950–1954 гг. (Д. Е. Брягин, М. Н. Тихомиров и владимирские реставраторы под руководством Н. П. Сычева), в 1962–1963 гг. (С. С. Чураков, В. Е. Брагин), в 1964–1965 гг. (В. Е. Брагин, Д. Е. и Г. Е. Брягины), в 1975–1983 гг. (реставраторы Владимирской научно-реставрационной мастерской под руководством А. П. Некрасова). В 1937 г. впервые после Н. М. Сафонова было раскрыто полотенце на западной грани южной арки юго-западной части храма. В 1952–1954 гг. были частично раскрыты от сафоновских записей композиции под сводами (кроме «Сошествия Святого Духа»). В 1975–1982 гг. были полностью раскрыты от записей все композиции под сводами, впервые открыто хорошей сохранности полотенце на восточной грани юго-западного подкупольного столпа.
Фрески Успенского собора во Владимире, несмотря на наличие целого ряда посвященных им публикаций, до сих пор монографически не изданы; не воспроизведены даже некоторые композиции или представляющие немалый интерес фрагменты росписей. Наиболее полное воспроизведение см.: Лазарев 1966:23–29, 117–126, табл. 39–118; см. также достаточно подробное описание: Плугин 1974:54–57, 109–125.
Система росписи 1408 г. может быть прослежена только фрагментарно. Существует довольно распространенное мнение, что цикл 1408 г. повторяет предшествующую роспись 1189 г. (Матвеева 1971), но это предположение остается не более чем гипотезой, так как фрагментов ранних фресок сохранилось крайне мало. Несомненно, что Даниил и Рублев сохранили все, что можно было сохранить от росписей XII–XIII вв., главным образом однофигурные композиции, которые были включены в состав фресок 1408 г. подобно древним чтимым образам.
Фрески Успенского собора — единственный датированный памятник, связанный с именем Рублева, отправная точка, наряду с «Троицей», для всех суждений о его стиле. Впервые они были приписаны Андрею и Даниилу сразу же после первого систематического раскрытия живописи в 1882–1884 гг., но со всей определенностью — после их первой научной реставрации в 1918 г. (Грабарь 1926:22–32, 66–77, 97, 109).
Исходя из летописного сообщения о работе над владимирскими росписями двух мастеров и некоторых различий в манере исполнения, отдельные исследователи пытались четко разделить фрески на две стилистические группы. Первым пытался разграничить фрески И. Э. Грабарь, запальчиво утверждавший, что росписи «исполнены двумя художниками, не только не сходными по характеру, темпераменту и стилю, но временами прямо противоположными, почти отрицающими друг друга» (Грабарь 1926:32–33; ср. 67, 71); он приписал композиции жертвенника и юго-западной части храма (под хорами) Даниилу, а фрески западной части среднего нефа (под хорами) — Рублеву (Там же:71, 97, 109). Атрибуция И. Э. Грабаря была поддержана и конкретизирована В. Н. Лазаревым и В. А. Плугиным. Первый, придерживаясь в основном концепции И. Э. Грабаря, считал возможным говорить об авторстве Рублева в отношении четырех композиций юго-западной части храма — изображений Саввы Освященного и Антония Великого и, предположительно, отшельников Онуфрия и Макария; с Рублевым он связывал и две фрески арки прохода из юго-западной части храма в западную часть среднего нефа. Композицию «Богоматерь в раю» он счел выполненной помощником Даниила по рисунку мастера (Лазарев 1966:27, 117–126, табл. 39–104). В. А. Плугин, следуя схеме В. Н. Лазарева, уточняет авторство вновь раскрытых композиций: он отдает Рублеву «Крещение», «Преображение» и «Сошествие Святого Духа» (а также считает принадлежащими его кисти нижние фигуры северо-восточной лопатки жертвенника).
Хотя росписи западной части среднего нефа (под хорами) рассматриваются всеми исследователями как одно из достоверных произведений Рублева, предпринимались попытки разделить их выполнение между двумя мастерами (Чураков 1964:61–65; Гусева 1971; Плугин 2001:61–64). Различия между живописью южного и северного склонов свода западной части среднего нефа — мнимые, во многом они обусловлены состоянием ее сохранности и реставрационными вмешательствами.
Учитывая современный уровень изучения этого вопроса, следует признать наиболее правомерной точку зрения тех авторов, которые говорят о цельности и единстве общего замысла всего цикла и художественной манеры (Алпатов 1959:15–20; Лебедева 1959:10–13; Демина 1960 и др.).
-
Троица Ветхозаветная. Ок. 1410–1425 гг. ГТГ. Инв. 13012. 142×114 см. Происходит из местного ряда иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Написана для одного из Троицких храмов Сергиевой обители. Пост. в 1929 г. из ЗИХМ. Частично раскрыта по инициативе И. С. Остроухова в 1904–1905 гг. в Троице-Сергиевой лавре В. А. Тюлиным и А. И. Изразцовым под руководством В. П. Гурьянова. В 1918–1919 гг. в отделении ЦГРМ при ЗИХМ расчистка была продолжена Г. О. Чириковым, И. И. Сусловым, В. А. Тюлиным и Е. И. Брягиным. В 1926 г. Е. И. Брягин произвел довыборку записей и реставрационных тонировок.
В 1987 г. В. А. Плугиным была выдвинута гипотеза о том, что «Троица» Рублева появилась в Троице-Сергиевом монастыре только в XVI в. (2-я пол. 1550-х – 1560-е гг.) как вклад царя Ивана IV Грозного (Плугин 1987). Это мнение основано на прямом прочтении записи вкладной книги Троице-Сергиева монастыря 1638/1639 г., восходящей к более ранним вкладным книгам и, в конечном счете, к отписной ризной книге 1574/1575 г. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Изд. подг. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева. Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1987:27). До исследования В. А. Плугина считалось, что Иван Грозный вложил лишь оклад на икону. Появились новые версии происхождения «Троицы», впрочем, малоубедительные (Плугин 1987:77–79; Брюсова 1995:42–45). Однако в 1998 г. Б. М. Клосс обратил внимание на сведения так называемой «Троицкой повести о Казанском взятии», созданной до июня 1553 г. (Насонов А. Н. Новые источники по истории Казанского «взятия» // Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1962:10), которые определенно свидетельствуют, что икона не является вкладом Ивана Грозного, а только «украшена» царем (Клосс 1998:83). Таким образом, гипотеза В. А. Плугина оказалась несостоятельной.
Все исследователи согласны с тем, что «Троица» является несомненным произведением Рублева, своего рода эталоном его творчества. Сведения об авторстве Рублева восходят к постановлению Стоглавого собора 1551 г. (см. раздел «Источники». В-2). После исследования Б. М. Клосса предположение, что на этом соборе речь шла именно об этой «Троице», стало доказанным фактом (Клосс 1998:73–88). «Сказание о святых иконописцах» также непреложно свидетельствует, что в к. XVII – н. XVIII века именно его считали автором троицкой «Троицы» (см. раздел «Источники». В-6). Авторство Рублева подтверждает и бесспорное стилистическое родство иконы и фресок западной части среднего нефа Успенского собора во Владимире 1408 г.
Вопрос о датировке произведения решался специалистами главным образом в зависимости от его происхождения — написании иконы либо для деревянного собора, созданного Никоном в 1409 г. (ранее считалось — в 1411/1412 г.) после нашествия Едигея, либо для каменного храма, построенного в 1422–1426 гг. после обретения мощей Сергия и расписанного Рублевым и Даниилом. «Троицу» датировали к. XIV – н. XV века (Л. В. Бетин, В. Г. Брюсова), 1408–1425 гг. (И. Э. Грабарь, М. В. Алпатов), ок. 1411 (= 1412) г. (В. Н. Лазарев, Э. С. Смирнова, Л. И. Лифшиц, Г. В. Попов), 1422–1427 гг. (В. И. Антонова, Ю. А. Лебедева, Н. А. Демина, Г. И. Вздорнов, Т. В. Николаева, Э. К. Гусева и др.). Вопрос о датировке «Троицы» может быть решен только после проведения комплексного исследования всех икон, связываемых с творчеством Андрея Рублева.
-
Фрагменты орнаментальной росписи в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря. 1425–1427 гг. (?).
Уцелели лишь два небольших фрагмента с орнаментальной росписью на откосах двух из трех алтарных окон. В северном, левом, окне на правом откосе сохранились пять орнаментированных медальонов; в южном, правом — шесть (четыре круга на левом откосе и два — в своде арки).
Были обнаружены в период реставрации и частичного восстановления здания собора в феврале 1952 г. при удалении каменной закладки из проемов алтарных окон. Были промыты и укреплены художникоми-реставратороми ЦНРМ В. Е. Брягиным и С. С. Чураковым.
В «Житии Сергия Радонежского» (глава «Начало Андроникова монастыря»), являющемся единственным источником при определении времени строительства и росписи собора Спаса Нерукотворного образа, говорится, что храм был сооружен и расписан при игумене Александре, т. е. приблизительно в 1415–1430 гг. (см. выше). Эту традиционную датировку в 1969 г. пыталась пересмотреть В. Г. Брюсова (Брюсова 1969). Опираясь на найденный ею список 1-й Пахомиевской редакции «Жития Сергия Радонежского» (РГБ. Ф. 37. № 20. Л. 79–118) 1560-х гг., она датировала основание монастыря и строительство существующего каменного собора 1390–1392 гг., т. е. отнесла роспись собора Андроньевой обители к числу ранних работ Андрея Рублева. Однако предложенное В. Г. Брюсовой обоснование положения о сознательном «удревлении» Пахомием Логофетом дат основания монастыря и строительства его каменного собора совсем не убедительно. Современный исследователь текстов жития Сергия расценивает сведения главы об Андрониковом монастыре списка РГБ Ф. 37. № 20 как противоречащие историческим реалиям (Клосс 1998:163–164).
Сохранившиеся фрагменты росписи полностью (а тем более в цвете) не воспроизводились и толком не исследованы.
[ ↑ Содержание ]
Приписываемые произведения:
В этот раздел включены произведения, принадлежность которых Андрею Рублеву не может быть подтверждена документально. Среди них есть произведения, относительно которых можно предполагать авторство Рублева с большой долей вероятности, но также и такие, которые современные ведущие специалисты не считают «рублевскими». Поскольку последние продолжают фигурировать в некоторых исследованиях о художнике как его бесспорные работы, то краткая информация о них приводится в настоящем разделе. В него вошли вещи, в отношении которых за авторство Рублева высказывалось не менее двух специалистов в период после 1918 г., что позволило исключить некоторые явно неубедительные по аргументации атрибуции В. Г. Брюсовой, С. С. Чуракова и Ю. А. Лебедевой. Не включены сюда и безнадежно устаревшие атрибуции великому живописцу таких произведений, как икона «Успение» из местного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря и фрески Троицкой замковой капеллы в Люблине 1418 г.
[ ↑ Содержание ]
А. Стенные росписи
-
Фрески Успенского собора на Городке в Звенигороде. Возможно, 1396–1399 гг.
Сохранились следующие части росписи.
В куполе и подкупольной зоне:
- Нижняя часть фигуры Евы (световой барабан, 1-й простенок (счет простенков идет по часовой стрелке начиная от восточного окна), верхняя половина);
- Нижняя часть фигуры праотца (световой барабан купола, 4-й простенок, верхняя половина);
- Нижняя часть фигуры первосвященника (Аарон? Мельхиседек?) (световой барабан купола, 5-й простенок, верхняя половина);
- Голова и плечи пророка (световой барабан купола, 4-й простенок, нижняя половина);
- Верхняя часть фигуры пророка Даниила (световой барабан купола, 5-й простенок, нижняя половина);
- Незначительные фрагменты «Спаса Нерукотворного на убрусе» (переходная зона от светового барабана купола к аркам и сводам, западная щека восточной подпружной арки);
- Небольшие фрагменты архитектурного фона и нимба евангелиста Матфея (юго-восточный парус);
- Полуфигура евангелиста Иоанна и небольшие фрагменты горок (северо-восточный парус).
В жертвеннике:
- Фрагменты верхней части композиции «Благовестие Захарии» (северный склон свода и северная стена жертвенника, 1-й регистр);
- Незначительные остатки архитектурного фона сцены «Рождество Иоанна Предтечи» (южный склон свода жертвенника, 1-й регистр);
- Фрагментарно сохранившаяся верхняя часть композиции «Младенец Иоанн Предтеча, ведомый ангелом в пустыню» (жертвенник, северная стена, 3-й регистр);
- Медальон «Мученик Мамант» (жертвенник, северная стена, 2-й регистр, 1-й слева);
- Остатки медальона с изображением мученика (жертвенник, северная стена, 2-й регистр, 2-й слева);
- Остатки медальона с изображением мученика (жертвенник, северная стена, 2-й регистр, 3-й слева);
- Плохой сохранности медальон с изображением преподобномученика (жертвенник, северная стена, 2-й регистр, 4-й слева);
- Верхняя часть фигуры святителя (Иоанн Златоуст?) (жертвенник, северная стена, 3-й регистр, слева от композиции «Младенец Иоанн Предтеча, ведомый ангелом в пустыню»).
На северной стене храма:
- Остатки правой части композиции «Успение» (часть архитектурного фона, головы плачущих жен, часть одежд святителя, спина апостола, ангел) (северная стена, восточная часть, выше вершины портала);
- Фрагменты ног и концов одежд двух фигур святых (северная стена, восточная часть, 4-й регистр).
На восточных подкупольных столпах:
- Остатки медальона с изображением мученика (юго-восточный подкупольный столп, западная грань, 2-й регистр, крайний справа над центральным медальоном);
- Медальон «Мученик Лавр» (юго-восточный подкупольный столп, западная грань, 2-й регистр);
- Медальон «Мученик Флор» (северо-восточный подкупольный столп, западная грань, 2-й регистр);
- Триумфальный крест на Голгофе (юго-восточный подкупольный столп, западная грань, 3-й регистр);
- Триумфальный крест на Голгофе (северо-восточный подкупольный столп, западная грань, 3-й регистр);
- «Беседа Варлаама с царевичем Иоасафом» (юго-восточный подкупольный столп, западная грань, 4-й регистр);
- «Явление ангела Пахомию Великому» (северо-восточный подкупольный столп, западная грань, 4-й регистр).
Помимо перечисленного сохранились остатки полотенец; лучшей сохранности — на северной стене камеры на хорах.
До реставрации 1969–1972 гг. ученым были известны только фрески алтарных столпов. Подробнее о сохранившихся фрагментах живописи см. Филатов 1995.
Часть (две нижние композиции) никогда не записывавшихся фресок алтарных столпов была обнаружена в 1840-х гг. И. М. Снегиревым. В 1918 г. звенигородской экспедицией Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи под руководством Н. Д. Протасова при участии Г. О. Чирикова и И. Э. Грабаря (А. А. Алексеев, Е. И. Брягин и А. А. Тюлин) были обнаружены все прочие фрески алтарных столпов и раскрыты фрагменты двух фигур и полотенечного фриза на северной стене храма; также был расчищен фрагмент полотенечного фриза с двумя медальонами на северной стене камеры на хорах; все фрески были промыты и укреплены. В дальнейшем фрески неоднократно промывались и укреплялись: в 1920 г. (Г. О. Чириков), в 1933 и 1941 г. (Е. А. Домбровская), в 1962 г. (Д. Е. Брягин), в 1983 г. (В. В. и С. В. Филатовы). В период фундаментальных реставрационных работ 1969–1972 гг., осуществленных бригадой художников-реставраторов под руководством В. В. Филатова (А. П. Некрасов, В. П. Витошнов, А. А. Егоров, С. В. Филатов, Т. Б. Яковлева), были найдены и раскрыты ранее неизвестные фрагменты древних фресок в барабане, на парусах, на северной стене и в жертвеннике храма. Был вновь расчищен фрагмент с полотенцами в камере на хорах.
Точная дата постройки храма неизвестна. Большинство исследователей датируют его временем ок. 1400 г., связывая строительство с победоносным походом князя Юрия Дмитриевича против булгар в 1399 г. (на самом деле, по мнению В. А. Кучкина, он состоялся в 1395–1396 гг.). Есть основания утверждать, что собор был создан до 1399 г. (см., например: Дементьев Е. И. О начале каменного строительства в подмосковном Звенигороде // История СССР. 1981. № 4:202–203; Брюсова 1995:21–22, 24; Брюсова В. Г. О времени построения Успенского собора на Городке Звенигорода // Звенигород за шесть столетий: Сб. ст. [к 600-летию Саввино-Сторожевского монастыря] / Под ред. В. А. Кондрашиной, Л. А. Тимошиной. М., 1998:252–256), предположительно в 1394–1398 гг. (датировка В. Г. Брюсовой — 1388–1392/1393 гг. — представляется слишком ранней).
Дата росписи не может намного отстоять от времени построения храма, поскольку слой грунта под роспись лежит сразу же по кладке. Вероятно, храм был расписан через год после окончания строительства. Возможно, фрески были выполнены не за один, а за два летних сезона, о чем может свидетельствовать, кажется, несколько более позднее по сравнению с другими росписями создание композиций нижнего регистра предалтарных столпов (Филатов 1998:189). Существует мнение об исполнении фресок ок. 1417–1422 гг. (Ильин 1976:87, 90, 117–119; Брюсова 1995:82, 91–92).
Впервые фрески алтарных столпов были связаны с именем Рублева И. Э. Грабарем, который приписал ему центральные медальоны, а другому художнику (Даниилу) — композиции нижнего регистра (Грабарь 1926:92, 95). Точку зрения И. Э. Грабаря разделяли В. Н. Лазарев и, без уверенности, М. В. Алпатов, связывавшие нижние композиции с творчеством старшего современника Рублева (Лазарев 1966:17; Алпатов 1972:36). Лишь В. Г. Брюсова приписывала Рублеву фигуры Варлаама и Иоасафа (Брюсова 1953:7–9, 13). В дальнейшем она изменила точку зрения, отдав фрески юго-восточного подкупольного столпа Рублеву, а северо-восточного — Даниилу (Брюсова 1995:88–90). Ср. с обратным мнением С. С. Чуракова (Чураков 1964: 65–66). По мнению Г. В. Попова, Рублевым были выполнены фрески барабана, парусов и, возможно, центральные медальоны на восточных столпах, в то время как композиции «Беседа Варлаама с Иоасафом» и «Явление ангела Пахомию Великому» написаны двумя другими художниками (Попов 1992:131). Следует заметить, что в целом плохая сохранность фресок (о манере письма Лавра и Флора можно судить лишь по фотографиям 1918 г., см. сохранившиеся негативы в ГНИМА, I-606, 609, 611, 613, 614, 616, 617, 621, 622, 628, 629, 632, 636, 655) делает их атрибуцию неопределенной.
-
Фрески алтарной преграды и западных граней восточной пары столпов собора Рождества Богородицы Саввина-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Н. XV в. (?).
Внизу алтарной преграды, слева и справа от царских врат, сохранились фрагменты фигур преподобных, пустынников и постников, в рост: слева — неизвестный отшельник (Марк Афинский (Фраческий)? Онуфрий Великий?), Павел Фивейский, Арсений Великий (?) (Сисой Великий? Савва Освященный?) и Антоний Великий; справа (крайне плохой сохранности) головы неизвестных — преподобного и монаха. Выше, на алтарных столпах, составляющих с преградой единое целое, сохранились фрагменты от симметрично располагавшихся триумфальных крестов на Голгофе, фигур святых в роскошных одеяниях и парных медальонов с полуфигурами святых (последние — только на северо-восточном столпе). В настоящее время фрагменты фрески с преподобными сняты со стены вместе со штукатуркой и смонтированы на другую основу; хранятся в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее. Сведений о реставрации нет. Фрески алтарной преграды промывались и укреплялись в 1960 г.
Внимание специалистов привлекали, главным образом, изображения преподобных; остальные фрески фактически не воспроизводились (Э[динг] Б. ф[он]. Фрески в Звенигороде // София. 1914. № 3:98; Брюсова 1995:93–94, рис. 7–8 (схемы)).
У искусствоведов нет единой точки зрения в вопросе о датировке этих произведений; предлагались даты от первых до последних годов XV в. Высказывалось также мнение о создании этих фресок в 1-й пол. XVI в. (Бетин Л. В., Шередега В. И. Алтарная преграда Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. 2. М., 1982:52–55).
Фрески с изображением преподобных были приписаны Рублеву В. Н. Лазаревым (Лазарев 1955:122, 124; Лазарев 1966:43). С. С. Чураков связывал их с Даниилом (Чураков 1966:102). В дальнейшем за авторство Рублева или Даниила высказывалась только В. Г. Брюсова (Брюсова 1995:94–95). У большинства специалистов эта атрибуция не нашла поддержки. Наблюдения Г. И. Вздорнова над стилем и техникой этих фресок исключают возможность авторства Рублева (Вздорнов 1963:80–81).
[ ↑ Содержание ]
Б. Иконы
-
Иконы из деисусного чина (так наз. Звенигородского чина):
- Спас (ГТГ. Инв. 12863. 158×106 см),
- Архангел Михаил (ГТГ. Инв. 12864. 158×108 см),
- Апостол Павел (ГТГ. Инв. 12865. 160×109 см).
Ок. 1396–1399 гг.
Обнаружены в 1918 г. Г. О. Чириковым под грудой дров в сарае при Успенском соборе на Городке в Звенигороде (ср. с «мифологическими» сведениями О. И. Подобедовой, см.: Кавельмахер 1998:212–213, примеч. 1; Плугин 2001:168, примеч. 315). После реставрации поступили в ГИМ, откуда в 1930 г. были переданы в ГТГ.
Раскрыты в 1918–1919 г. в реставрационной мастерской Комиссии И. Э. Грабаря Е. И. Брягиным, А. А. Михайловым, М. И. Тюлиным, П. И. Юкиным, А. В. Тюлиным («Архангел Михаил»), И. И. Сусловым, А. А. Алексеевым, А. А. Тюлиным, И. В. Овчинниковым, А. В. Тюлиным («Апостол Павел») и другими (о «Спасе» сведений нет).
Согласно документам к. XVII в., тогда иконы были развешаны по стенам собора (Сборник материалов для VIII археологического съезда в Москве. Вып. 4: Московская губерния и ее святыни: История, археология и статистика / Сост. И. Токмаков. М., 1889:14; Брюсова 1995:149). В самом храме сохранилась доска иконы «Иоанн Предтеча» (без следов старой живописи). Во время реставрационных работ 1969–1972, 1983 гг. В. В. Кавельмахером и В. В. Филатовым были обнаружены следы древних брусьев (тябл), на которых крепились иконы деисуса. Некоторые особенности нанесения штукатурного слоя под фрески в местах прилегания тябла к западным граням предалтарных столпов свидетельствуют, что иконостас был установлен одновременно с выполнением росписи храма (Филатов 1995:398–399; Кавельмахер 1998:201; Филатов 1998:185, 189). Все это говорит о том, что деисус был создан вместе с фресками Успенского собора вскоре после завершения его строительства.
Размеры собора и документы XVII в. показывают, что Звенигородский чин состоял из девяти икон: помимо вышеуказанных в него входили «Богоматерь», «Архангел Гавриил», «Апостол Петр», «Василий Великий» и «Иоанн Златоуст» (?) (см.: Смирнова 1988:277; Кавельмахер 1998:199–200).
Исходя из предположения В. Г. Брюсовой, что Звенигородский чин из семи икон не мог поместиться в Успенском соборе, так как якобы не мог пересекать фресковых изображений на столпах (Брюсова 1953:9–10), многие исследователи считали эти произведения созданными для других храмов. Сенсационное предположение В. В. Кавельмахера о создании Звенигородского чина вместе с «Троицей» для иконостаса деревянного Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря ок. 1412 г., не подкрепленное ни письменными источниками, ни косвенными данными, не может рассматриваться даже в качестве рабочей гипотезы (Кавельмахер 1998:206–216).
Звенигородский чин датируется временем с к. XIV века по 1420-е гг., в соответствии с представлениями авторов о поре зрелости рублевского стиля. Поскольку предпочтительная датировка самого собора — 1394–1398 гг., можно предположительно датировать иконы к. XIV в.
Все исследователи, за исключением молодого М. В. Алпатова, Г. В. Жидкова и И. Л. Бусевой-Давыдовой, единодушны во мнении, что иконы Звенигородского чина созданы Рублевым. С. С. Чураков связывает «Спаса» и «Архангела Михаила» с Даниилом (Чураков 1964:68–69). Напротив, В. И. Антонова и В. Г. Брюсова приписывают ему «Апостола Павла» (Антонова 1963:283, примеч. 2; Брюсова 1995:26). В принадлежности кисти Рублева иконы Павла высказывала сомнения Ю. А. Лебедева, считавшая ее выполненной помощником мастера (Lebedewa 1962:73).
-
Иконы из иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. ГМЗМК.
Иконы из деисусного чина:
- Архангел Михаил (Инв. Ж-1388 / 3235 соб. 210×121 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. Е. И. Брягиным, А. А. Тюлиным, А. А. Алексеевым, Н. П. Клыковым, И. В. Овчинниковым),
- Апостол Петр (Инв. Ж-1390 / 3227 соб. 210×107 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. Е. И. Брягиным, В. Е. Израсцовым, Н. П. Клыковым),
- Димитрий Солунский (Инв. Ж-1394 / 3241 соб. 210×102 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г.),
- Мученик Георгий (Инв. Ж-1395 / 3242 соб. 210×102 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г.).
Михаил и Петр — 1390-е гг. Димитрий и Георгий — 1390-е гг. (?).
Иконы из праздничного чина:
- Благовещение (Инв. Ж-1396 / 3243 соб., 80,5×60,5 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. А. В. Тюлиным, И. Я. Тюлиным, Г. О. Чириковым),
- Рождество Христово (Инв. Ж-1397 / 3244 соб. 80,5×61,5 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. Е. И. Брягиным, Г. О. Чириковым),
- Сретение (Инв. Ж-1408 / 3255 соб. 80,5×61,0 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. А. В. Тюлиным, Г. О. Чириковым),
- Крещение (Инв. Ж-1398 / 3245 соб. 81,0×61,5 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. А. В. Тюлиным, Е. И. Брягиным, Г. О. Чириковым, П. И. Юкиным),
- Преображение (Инв. Ж-1401 / 3248 соб. 80×60 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. В. А. Тюлиным, Г. О. Чириковым),
- Воскрешение Лазаря (Инв. Ж-1399 / 3246 соб. 80,5×61,0 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. В. А. Тюлиным, А. В. Тюлиным, А. А. Тюлиным),
- Вход в Иерусалим (Инв. Ж-1400 / 3247 соб. 81×63 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1918 г. А. В. Тюлиным, Е. И. Брягиным).
1-я пол. XV в.
До н. 1980-х гг. «благовещенские» праздники рассматривались большинством специалистов как произведения, бесспорно принадлежащие кисти Рублева, исходя из, казалось бы, очевидного факта написания иконостаса Благовещенского собора в 1405 г. — одновременно с росписью здания — Феофаном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым, хотя летописное свидетельство ничего не говорит о создании икон (см. раздел «Источники». А-1). Именно так трактовал историю Благовещенского иконостаса вскоре после его раскрытия И. Э. Грабарь, связавший с Рублевым иконы великомучеников из деисуса и левую половину праздничного ряда (шесть икон, исключая «Воскрешение Лазаря», см.: Грабарь 1926:79–85, 108). Точка зрения И. Э. Грабаря стала доминирующей в 1950–1970-е гг., после ее дополнительного обоснования и развития В. Н. Лазаревым (Лазарев 1946:60–64; особенно Лазарев 1955:126–132). В. Н. Лазарев справедливо присоединил к «рублевской» группе праздников икону «Воскрешение Лазаря», что было подтверждено исследованиями 1980-х гг.
Хотя в научной литературе 1950–1970-х гг. почти не возникало сомнений по поводу того, что сохранившаяся древняя часть иконостаса Благовещенского собора была создана в 1405 г. тремя мастерами (кроме Л. В. Бетина, см.: Бетин 1975), имелись известные колебания в атрибуции семи праздников Рублеву. Так, М. В. Алпатов определенно связывал с художником лишь четыре иконы, отказывая в его авторстве то двум, то трем. М. А. Ильин считал, что композиция и рисунок всех благовещенских праздников принадлежат Феофану Греку, тогда как Рублев был здесь «лишь исполнителем» (Ильин 1960:112–113). Н. А. Демина полагала, что в этих произведениях «характерные черты живописи Рублева не нашли яркого отражения» (Демина 1963:25). Л. В. Бетин рассматривал праздники в так называемой «рублевской» части как коллективную работу, в которой Рублев не принимал участия (Бетин 1975:42; Бетин 1982:37–43).
Что касается икон деисусного ряда, то Рублеву приписывали: «Архангела Михаила» — Н. Е. Мнева, А. Н. Свирин, О. В. Зонова, Н. А. Никифораки, С. С. Чураков, М. А. Ильин; «Апостола Петра» — Н. А. Никифораки, С. С. Чураков; «Георгия» — И. Э. Грабарь, В. Г. Брюсова, Ю. А. Лебедева, без уверенности М. В. Алпатов, Л. В. Бетин; «Димитрия» — И. Э. Грабарь, Н. Е. Мнева, Ю. А. Лебедева, С. С. Чураков, без уверенности М. В. Алпатов и Н. А. Демина.
В н. 1980-х гг. трудами Л. А. Щенниковой гипотеза И. Э. Грабаря о написании икон в 1405 г. была отвергнута; было доказано, что все убранство интерьера Благовещенского собора погибло во время пожара Москвы 21 июня 1547 г. (Щенникова 1982, 1983). Ею затем была предложена новая датировка и атрибуция праздничного чина, решительно отвергающая предположение об авторстве Рублева (Щенникова 1983, 1986, 1988, 1990/2:46–47, 51, 54–59).
Точка зрения Л. А. Щенниковой была поддержана (и в некоторых положениях развита) Г. И. Вздорновым, С. И. Голубевым, Л. М. Евсеевой, И. А. Кочетковым, Ю. Г. Малковым, Г. В. Поповым, О. С. Поповой и Э. С. Смирновой. Авторство Рублева по-прежнему признают Г. К. Вагнер, Л. И. Лифшиц, Е. Я. Осташенко, В. А. Плугин, В. Н. Сергеев и А. И. Яковлева. Совершенно особое мнение было высказано Н. К. Голейзовским, который датирует иконы праздников сер. XVI в. (Голейзовский 1998:111–114).
В настоящее время преобладает та точка зрения, что Благовещенский иконостас является составным: деисусный чин и праздники были привезены в Кремль после пожара 1547 г. из двух разных храмов. Существуют некоторые аргументы в пользу происхождения деисуса из Успенского собора Коломны. Большинство специалистов склоняется к мнению, что все иконы деисуса написаны выдающимся греческим художником (возможно, Феофаном Греком) и только «Георгий» и «Димитрий» могли быль присоединены к чину несколько позже. Происхождение праздничного ряда неизвестно.
-
Иконы иконостаса Успенского собора во Владимире (так называемого Васильевского иконостаса). Ок. 1410 г.
Иконы из деисусного чина:
- Спас в силах (ГТГ. Инв. 22961. 314×220 см. Раскрыта в ГТГ в 1934–1936 гг. Г. О. Чириковым, И. В. Овчинниковым, Е. А. Домбровской, И. И. Сусловым, И. А. Барановым),
- Богоматерь (ГТГ. Инв. 22125. 313×106 см. Раскрыта в ЦГРМ и ГТГ в 1932–1935 гг. В. О. Кириковым, И. И. Сусловым, И. В. Овчинниковым),
- Иоанн Предтеча (ГТГ. Инв. 22960. 313×105 см. Раскрыта в ЦГРМ и ГТГ в 1932–1935 гг. В. О. Кириковым, И. И. Сусловым, И. В. Овчинниковым, Е. А. Домбровской),
- Архангел Михаил (ГТГ. Инв. 19732. 314×128 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1923–1928 гг. В. О. Кириковым и в ГТГ в 1937 г. И. И. Сусловым и И. А. Барановым),
- Архангел Гавриил (ГТГ. Инв. 19726. 317×128 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1923–1924 гг. И. И. Сусловым, П. И. Юкиным, В. О. Кириковым и в ГТГ в 1937 г. И. И. Сусловым и И. А. Барановым),
- Апостол Петр (ГРМ. Инв. ДРЖ-2134. 312×105 см. Раскрыта в ЦГРМ до 1934 г. (частично) и в ГРМ в 1935–1936 гг. И. Я. Челноковым, И. И. Тюлиным, Я. В. Сосиным),
- Апостол Павел (ГРМ. Инв. ДРЖ-2722. 311×104 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1923–1924 гг. И. И. Сусловым, В. О. Кириковым, Г. О. Чириковым),
- Иоанн Богослов (ГТГ. Инв. 19730. 312×105 см. Раскрыта в ГТГ в 1948, 1950 г. И. А. Барановым, В. Г. Брюсовой),
- Апостол Андрей (ГТГ. Инв. 19731. 313×105 см. Раскрыта в ГТГ в 1950 г. И. А. Барановым, В. Г. Брюсовой),
- Василий Великий (ГРМ. Инв. ДРЖ-2663. 313×105 см; под записью XIX в.),
- Иоанн Златоуст (ГТГ. Инв. 19727. 313×105 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1920-х гг. и в ГТГ в 1956–1957 гг. И. А. Барановым, В. Юшкевичем),
- Григорий Богослов (ГТГ. Инв. 19725. 314×106 см. Раскрыта в ГТГ в 1952 г. И. А. Барановым),
- Николай Чудотворец (ГРМ. Инв. ДРЖ-2662. 313×104 см; под записью XIX в.).
Иконы из праздничного чина:
- Благовещение (ГТГ. Инв. 22951. 125×94 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1924 г. П. И. Юкиным, в 1932 г. (?) И. И. Сусловым и в 1933 г. В. О. Кириковым),
- Сретение (ГРМ. Инв. ДРЖ-2135. 124,5×92 см. Раскрыта в ГРМ в 1938–1940 гг. Н. Е. Давыдовым, Я. В. Сосиным),
- Крещение (ГРМ. Инв. ДРЖ-2098. 124×93 см. Раскрыта в ГРМ в 1935–1936 гг. Н. Е. Давыдовым, И. Я. Челноковым),
- Сошествие во ад (ГТГ. Инв. 22953. 124×94 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1923–1924 гг. В. О. Кириковым, П. И. Юкиным),
- Вознесение (ГТГ. Инв. 14249. 125×92 см. Раскрыта в ЦГРМ в 1919 г. И. А. Барановым, Г. О. Чириковым, А. Т. Михайловым, В. А. Тюлиным).
Иконы из пророческого чина:
- Пророк Софония (ГРМ. Инв. ДРЖ-2136. 157×149,5 см. Раскрыта в ГРМ в 1940–1941 гг. Н. Е. Давыдовым, в 1948–1949 гг. И. Я. Челноковым и в 1950-е гг. Ф. А. Каликиным),
- Пророк Захария (ГРМ. Инв. ДРЖ-1701. 157×151 см; под записью XIX в.).
Древний иконостас Успенского собора г. Владимира был продан в 1768–1774 гг. крестьянам с. Васильевское Шуйского уезда Владимирской губернии. Сохранившиеся иконы были вывезены из Васильевского экспедициями ЦГРМ в 1918 («Павел», «Вознесение») и 1923 г. В ГТГ и ГРМ иконы поступили из ЦГРМ в 1934 г., за исключением «Павла» (из Антиквариата в 1933 г.), «Сошествия во ад» (из ГРМ в 1934 г.) и «Вознесения» (из ГИМ в 1930 г.).
Согласно предложенному И. Э. Грабарем истолкованию летописной записи 1408 г. о работе над росписью Успенского собора во Владимире Даниила и Андрея Рублева, «подписание» храма включало в себя и исполнение иконостаса. В таком случае Даниил и Андрей Рублев исполнили иконы одновременно со стенными росписями. Однако в 1920–1940-х гг. мнение И. Э. Грабаря — по крайней мере, в определении авторства — не разделялось другими исследователями (М. В. Алпатов, Г. В. Жидков, А. И. Некрасов). Позже, благодаря работам В. Н. Лазарева, точка зрения И. Э. Грабаря получила общее признание: иконостас стали рассматривать как совместную работу Андрея Рублева и Даниила с художниками их мастерской, выполненную в 1408 г.
В своих ранних статьях М. В. Алпатов писал о владимирском иконостасе как о «более поздней», по сравнению с фресками 1408 г., работе, исполненной под влиянием Рублева; наиболее «рублевскую» икону его праздничного ряда «Вознесение» он определял как «псевдо-рублевскую» (Алпатов 1926:27; Alpatov 1932:312). Позднее он тоже присоединился к общему мнению (Алпатов 1972:70, 74). Только Ю. А. Лебедева полагала, что иконы васильевского деисуса написаны современниками Андрея Рублева, связывая с самим Рублевым лишь икону апостола Павла (Lebedewa 1962:54, 55).
В последние десятилетия наметилась тенденция вывести иконы владимирского иконостаса из числа произведений Андрея Рублева. Э. С. Смирнова, изучавшая иконы праздников, на которых живопись сохранилась лучше, пришла к выводу, что этот комплекс имеет «лишь опосредствованное отношение к творчеству Андрея Рублева» (Смирнова 1985:57, 62). В 1986 г. была опубликована новая гипотеза о времени создания иконостаса. Ее автор Н. К. Голейзовский сделал попытку отождествить комплекс иконостаса из Успенского собора во Владимире с созданным в 1481 г. четырьмя художниками (в том числе Дионисием) иконостасом московского Успенского собора, опираясь, главным образом, на совпадение числа входивших в оба памятника икон и сходство их состава, согласно описям XVII–XVIII вв. (Голейзовский, Дергачев 1986). При этом полностью игнорируются художественные признаки самого памятника, который не может быть выведен из круга произведений 1-й трети XV в. Точка зрения Н. К. Голейзовского не нашла поддержки специалистов. Только В. Г. Брюсова, пытаясь совместить полярные точки зрения, выдвинула неаргументированную версию о сборном характере иконостаса, в котором якобы имеются иконы 1481 г., написанные артелью Дионисия для Успенского собора Московского Кремля, и иконы владимирского Успенского собора Андрея Рублева и Даниила (Брюсова 1995:69–74).
Большинство специалистов сходится на том, что иконы иконостаса Успенского собора во Владимире написаны московскими мастерами около 1410 г., вопрос об авторах его продолжает оставаться дискуссионным.
-
Иконы иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Ок. 1425 г. СПИХМЗ.
Царские врата с изображениями Благовещения и четырех евангелистов (Инв. 2772. 173×41,5 см каждая створка. Раскрыты в 1959–1960 гг. Н. А. Барановым и в 1963–1969 гг. А. Н. Барановой).
Иконы из деисусного чина:
- Спас в силах (Инв. 3034. 188,2×136,2 см. Раскрыта в 1919 г. (сведений о мастерах нет) и в 1925 г. Н. А. Барановым),
- Богоматерь (Инв. 3042. 188,5×83 см. Раскрыта в 1919 г.),
- Иоанн Предтеча (Инв. 3035. 189×82,5 см. Раскрыта в 1925 г. Н. А. Барановым),
- Архангел Михаил (Инв. 3043. 190,5×92 см. Раскрыта в 1919 г. (сведений о мастерах нет) и в 1924–1925 гг. Н. А. Барановым),
- Архангел Гавриил (Инв. 3036. 189,5×89,5 см. Раскрыта в 1926 г. Н. А. Барановым),
- Апостол Петр (Инв. 3044. 189×82 см. Раскрыта в 1918–1919 гг. А. А. Тюлиным, В. О. Кириковым, Г. О. Чириковым, В. К. Тарыгиным),
- Апостол Павел (Инв. 3037. 189×83 см. Раскрыта в 1928 г. Н. А. Барановым. В 1929–1944 гг. находилась на постоянном хранении в ГТГ),
- Иоанн Богослов (Инв. 3045. 189×75 см. Раскрыта в 1925–1926 гг. Н. А. Барановым),
- Апостол Андрей (Инв. 3038. 190×75 см. Раскрыта в 1928–1929 гг. Н. А. Барановым),
- Василий Великий (Инв. 3046. 189×79 см. Раскрыта в 1925–1926 гг. Н. А. Барановым),
- Иоанн Златоуст (Инв. 3039. 188×82,5 см. Раскрыта в 1929–1930 гг. Н. А. Барановым),
- Григорий Богослов (Инв. 3047. 189,5×74 см. Раскрыта в 1926–1929 гг. Н. А. Барановым),
- Николай Чудотворец (Инв. 3040. 189×73,8 см. Раскрыта в 1927–1928 гг. Н. А. Барановым),
- Димитрий Солунский (Инв. 3048. 189×80 см. Раскрыта в 1926 г. Н. А. Барановым),
- Мученик Георгий (Инв. 3041. 188×80,3 см. Раскрыта в 1927, 1944 гг. Н. А. Барановым).
Иконы из праздничного чина:
- Благовещение (Инв. 3067. 88×63 см. Раскрыта в 1930 г. Н. А. Барановым),
- Рождество Христово (Инв. 3066. 87×62,2 см. Раскрыта в 1930–1931, 1941 гг. Н. А. Барановым),
- Сретение (Инв. 3065. 87,5×66 см. Раскрыта в 1944 г. Н. А. Барановым),
- Крещение (Инв. 3064. 87,2×62 см. Раскрыта в 1918 г. Г. О. Чириковым, В. А. Тюлиным, И. И. Сусловым, В. Е. Гороховым, И. П. Догадиным),
- Преображение (Инв. 3063. 87×66 см. Раскрыта в 1918–1919 гг. В. Е. Гороховым, Е. И. Брягиным, И. П. Догадиным),
- Воскрешение Лазаря (Инв. 3062. 89×66 см. Раскрыта в 1919 г. (сведений о мастерах нет) и в 1924–1925, 1944 гг. Н. А. Барановым),
- Вход в Иерусалим (Инв. 3061. 88×66,5 см. Раскрыта в 1919 г. (сведений о мастерах нет) и в 1924–1925 гг. Н. А. Барановым),
- Тайная вечеря (Инв. 3049. 88×67,5 см. Раскрыта в 1940 г. И. И. Сусловым, Н. А. Барановым, И. А. Барановым),
- Евхаристия (Преподание хлеба) (Инв. 3060. 87,5×68 см. Раскрыта в 1940–1941 гг. Н. А. и И. А. Барановыми, И. И. Сусловым),
- Евхаристия (Преподание вина) (Инв. 3050. 87,5×67 см. Раскрыта в 1940–1941 гг. Н. А. Барановым, И. И. Сусловым),
- Омовение ног (Инв. 3059. 88×68 см. Раскрыта в 1940 г. И. И. Сусловым),
- Распятие (Инв. 3051. 88×64,5 см. Раскрыта в 1940–1941 гг. Н. А. Барановым и И. И. Сусловым (?)),
- Снятие с креста (Инв. 3052. 88×66 см. Раскрыта в 1946–1948 гг. Н. А. Барановым),
- Оплакивание (Инв. 3053. 88,5×68 см. Раскрыта в 1941 г. (сведений о мастерах нет) и в 1945 г. Н. А. Барановым, В. Г. Брюсовой),
- Сошествие во ад (Инв. 3054. 88×66 см. Раскрыта в 1941 г. И. И. Сусловым),
- Жены мироносицы (Инв. 3055. 88,2×66 см. Раскрыта в 1941 г. И. И. Сусловым),
- Вознесение (Инв. 3056. 87,5×65 см. Раскрыта в 1941 г. (сведений о мастерах нет) и в 1945 г. Н. А. Барановым),
- Сошествие Святого Духа (Инв. 3057. 88,5×66 см. Раскрыта в 1946–1947 гг. Н. А. Барановым),
- Успение (Инв. 3058. 88×66 см. Раскрыта в 1946–1947 гг. Н. А. Барановым).
Иконы из пророческого чина:
- Моисей (?) и царь Давид (Инв. 3072. 99×172 см. Раскрыта в 1946 г. Н. А. Барановым),
- Царь Соломон и Исайя (Инв. 3069. 98×180,5 см. Раскрыта в 1945 г. Н. А. Барановым),
- Иоиль (?) и Иона (?) (Инв. 3073. 98×178 см. Раскрыта в 1946 г. Н. А. Барановым),
- Иеремия (?) и Гедеон (?) (Инв. 3070. 97×181,5 см. Раскрыта в 1945–1946 гг. Н. А. Барановым),
- Иаков (?) и Даниил (Инв. 3074. 98×176 см. Раскрыта в 1918–1919 гг. В. А. Тюлиным, И. И. Сусловым, В. О. Кириковым и в 1944 г. Н. А. Барановым),
- Иезекииль (?) и Аввакум (Инв. 3071. 96,5×177,5 см. Раскрыта в 1945–1946 гг. Н. А. Барановым).
Жития Никона и Сергия Радонежских сообщают о «подписании» Троицкого собора Андреем Рублевым и Даниилом и о том, что работа была завершена до смерти Никона, т. е. до ноября 1428 г., но ничего не говорят о написании иконостаса (см. раздел «Источники». Б-2). Тем не менее все исследователи единодушны в том, что, по меньшей мере, Рублеву и Даниилу принадлежат замысел, общее руководство созданием иконостаса и иконографические схемы икон. В. Г. Брюсова сомневается в изначальности пророческого чина (Брюсова 1995:104–105).
Несмотря на свою исключительную ценность — это единственный из первых высоких иконостасов раннего XV в., сохранившийся практически полностью (утрачены лишь «Богоматерь Знамение» в центре пророческого чина и, возможно, один праздник) и находящийся в том самом храме (за исключением царских врат), для которого он был создан, притом так или иначе связанный с именем Рублева, — этот памятник до сих пор монографически не исследован. Разграничением рук мастеров и выявлением художественных особенностей икон иконостаса занимались Н. А. Демина (Демина 1956:320–324; Демина 1972:82–165), В. Н. Лазарев (Лазарев 1966:43–51, 138–146, табл. 142–183) и Ю. А. Лебедева (Лебедева 1959:20–26; Лебедева 1960:64–70; Lebedewa 1962:86–95, 102–122; Лебедева 1968:80–93), но при этом в литературе даже кратко были рассмотрены далеко не все иконы. Лишь недавно впервые были опубликованы все иконы иконостаса (правда, не в лучшем цветном воспроизведении): Балдин, Манушина 1996. Ил. 19, 22–62, 208–210.
Вопрос об авторстве тех или иных икон иконостаса в настоящее время следует считать открытым. Если И. Э. Грабарь распределял раскрываемые иконы всего между двумя мастерами — Рублевым и Даниилом (из 14 раскрытых к 1926 г. икон 11 он отдавал кисти Рублева, см.: Грабарь 1926:85–89, 109–110), то в дальнейшем возобладало мнение, что иконостас был выполнен большой артелью иконописцев во главе с Даниилом и Андреем. По мнению Ю. А. Лебедевой, над иконостасом работало не менее 15–18 мастеров, а согласно наблюдениям Н. А. Деминой и В. Н. Лазарева, над ним «трудилось от двадцати до двадцати пяти художников» (Лазарев 1946:64); точнее — как минимум 25! С самим Рублевым эти авторы связывали лишь несколько икон; В. Н. Лазарев писал о несомненной принадлежности его кисти «Архангела Гавриила», «Апостола Павла» и «Крещения». Э. С. Смирнова вообще оставляет за Рублевым и Даниилом лишь общее руководство работой, отрицая их личное участие в написании икон (Смирнова 1988:30).
Следует подчеркнуть, что подлинная живопись этих произведений сохранилась плохо: зачастую к первоначальным относятся лишь рисунок и основные подкладочные цвета. Правильное восприятие живописи искажают очень сильные загрязнения, старые записи, реставрационные тонировки. К тому же невозможно разделить мнение Т. В. Николаевой о «ювелирном мастерстве» основного реставратора этого комплекса (Николаева 1977:19). Иконостас нуждается в новой научной реставрации и всестороннем комплексном исследовании. Эта работа позволит увидеть подлинную живопись памятника и решить вопрос об атрибуции составляющих его икон. Но уже сейчас можно говорить об ошибочности мнения о большом количестве работавших над иконостасом мастеров: вероятно, иконостас был создан всего двумя художниками (Рублевым и Даниилом), которым помогало несколько человек.
-
Спас в силах. 1-я четв. XV в. (?). ГТГ. Инв. 22124. 18×16 см. Пост. из ЦГРМ в 1932 г. Находилась в собр. К. Т. Солдатенкова. В. И. Антонова считала, что известие об этом является ошибочным и на самом деле икона происходит из собр. П. И. Севастьянова (Антонова, Мнева 1963. Т. 1:278–279). Однако точка зрения В. И. Антоновой не получила подтверждения.
Икона была предположительно приписана Рублеву В. И. Антоновой. Эта атрибуция была принята В. Н. Лазаревым и С. С. Чураковым. Против авторства Андрея Рублева решительно возражал М. В. Алпатов, аргументация которого сохраняет свое значение и поныне (Алпатов 1972:155–156, 159). В качестве работы Андрея Рублева она продолжает расматриваться В. Г. Брюсовой (1995) и Ю. А. Пятницким (1998). По мнению Г. И. Вздорнова и Э. С. Смирновой, икону можно датировать началом XV в., не связывая ее с Рублевым (устно, 1998).
-
Богоматерь Владимирская. 1395 – сер. 1410-х гг. ВСИХМЗ. Инв. В-2971. 101×69 см. На обороте — изображение Голгофского креста — живопись XIX в. Происходит из Успенского собора во Владимире, откуда в 1921 или в 1923 г. была передана во Владимирский музей. Раскрыта в 1918 г. владимирской экспедицией Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи И. Э. Грабаря (Г. О. Чириков, Ф. А. Модоров, И. А. Баранов).
Одна из самых древних копий считавшейся чудотворной византийской иконы «Богоматерь Владимирская» н. XII в., сделанная в размер оригинала.
Рублеву икону приписывают И. Э. Грабарь, А. И. Анисимов, В. Н. Лазарев, Г. И. Вздорнов, В. Н. Сергеев, Э. К. Гусева, В. Г. Брюсова, В. А. Плугин, в то время как М. В. Алпатов и Э. С. Смирнова решительно отвергают его авторство.
Икону часто датируют 1408 г., исходя из факта работы Рублева и Даниила во Владимире. (В. Г. Брюсова датирует ее 1409–1411 гг.) Однако в написании иконы в 1408 г. не было необходимости, так как древний образ, кажется, находился тогда во Владимире. Во всяком случае, он был там в 1410 г., см.: ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1897:216. Можно предположить, что произведение исполнено в Москве в связи с событиями 1395 г., когда сюда временно привезли древнюю «Богоматерь Владимирскую».
-
Богоматерь Владимирская. 1395 – сер. 1410-х гг. ГМЗМК, Успенский собор. Инв. Ж-310 / 3229 соб. 102×68 см. Происходит из Успенского собора Московского Кремля, впервые упоминается в описи начала XVII в., древнейшей из сохранившихся. Раскрыта в ЦГРМ в 1920 г. (Е. И. Брягин, И. И. Клыков).
Одна из самых древних копий считавшейся чудотворной византийской иконы «Богоматерь Владимирская» н. XII в., сделанная в размер оригинала.
Памятник был приписан Андрею Рублеву, с датировкой около 1395 г., В. И. Антоновой (Антонова 1966); эти атрибуция и датировка разделяются Г. К. Вагнером и И. А. Кочетковым. Произведением Рублева — с датировкой 1380-ми гг. — считает ее и В. Г. Брюсова. Чаще икону датируют началом или 1-й четв. XV в. (См., например: Толстая Т. В. Успенский собор Московского Кремля. М., 1979. Ил. 86).
Икона является произведением не особенно высокого качества; на этом основании большинство специалистов считают Андрея Рублева непричастным к ее созданию.
-
Богоматерь Владимирская. 1-я треть XV в. ГРМ. Инв. ДРЖ-275. 29×17,5 см. Из собр. В. А. Прохорова (1898). Раскрыта до поступления в музей; сведений об этой реставрации нет. Дополнительно реставрировалась в ГРМ в 1930-е гг. (Н. Е. Давыдов), в 1960 г. (Н. В. Перцев), в 1987–1996 гг. (С. И. Голубев).
В литературе к. XIX – 1-й трети XX в., начиная с первой публикации иконы (Опись русских древностей, составляющих собрание В. А. Прохорова. СПб., 1896:36, № 744), она фигурировала как приписываемое Андрею Рублеву произведение (см., напр.: Кондаков 1911:179). С именем Рублева икону впервые определенно связал Д. В. Айналов (Ainalov 1933:98–99). Позже на авторстве Рублева, с датировкой памятника к. XIV в., настаивала Ю. А. Лебедева (Лебедева 1957:68–69; Lebedewa 1962:34–37). Мнение Д. В. Айналова и Ю. А. Лебедевой было поддержано В. И. Антоновой (ок. 1411 г.), М. В. Алпатовым, В. Г. Брюсовой, Ю. А. Пятницким. В настоящее время большинство исследователей разделяют позицию И. Э. Грабаря, считавшего икону «произведением эпохи, а не мастерской Рублева» (Грабарь 1926:104; ср.: Лазарев 1966:58, примеч. 29; Вздорнов 1970:329, 330; Попов 1975:20; Смирнова 1988:26, 278, репр. 95, 97). Св. Радойчич и Г. В. Попов не исключают возможность нерусского происхождения памятника (Попов 1975:125, примеч. 22; ср.: Смирнова 1988:278).
-
Иоанн Предтеча. Сер. (?) XV в. ЦМиАР. Инв. КП-161. 105×83,5 см. Происходит из Никольского Песношского монастыря около города Дмитрова. Раскрыта в ЦМиАР в 1960–1961 гг. В. О. Кириковым. Принадлежала деисусному полуфигурному чину типа Звенигородского (высказывавшееся мнение о том, что икона была полнофигурной (Ильин 1964; Лазарев 1966:146, табл. 184–185), ошибочно (Попов 1973:18, примеч. 35).
Эта необычайно высокого качества икона была связана Н. А. Деминой (устно) с творчеством Андрея Рублева уже во время ее раскрытия в 1960–1961 гг. (см. также: Демина 1972:38–39). В качестве произведения Андрея Рублева рассматривалась также М. А. Ильиным (Ильин 1976:97, 101) и, с оговорками, М. В. Алпатовым (Алпатов 1972:127–128).
-
Архангел Михаил, с деяниями. Ок. 1399 г. ГМЗМК, Архангельский собор. Инв. Ж-469 / 22 соб. 235×182 см. Раскрыта в музее в 1930-х гг. И. А. Барановым.
Храмовая икона Архангельского собора в Московском Кремле, выполненная ок. 1399 г., когда Феофан Грек с учениками расписывали собор. Долгое время памятник неверно связывался с преданием о княгине Евдокии, вдове Дмитрия Донского, которая незадолго до своей кончины в 1407 г. заказала какую-то икону архангела Михаила; это затрудняло его правильную датировку. Определенно икона была связана с 1399 г. Э. С. Смирновой (Смирнова 1988:273, репр. 68–76).
Произведение было приписано Андрею Рублеву его первыми публикаторами (Гордеев, Мнева 1947:88; клейма рассматривались как совместная работа Андрея Рублева и других художников). В дальнейшем икону работой Рублева считали В. Г. Брюсова (Брюсова 1951 (только клейма); Брюсова 1995:29–31 (совместная работа Андрея и Даниила)), В. А. Плугин (Плугин 2001:9, 354–355, примеч. 46) и А. И. Яковлева (устно).
-
Иконы из праздничного ряда неизвестного храма: Рождество Христово (ГТГ. Инв. 2952. 71×53 см) и Вознесение (ГТГ. Инв. 12766. 71×59 см). 2-я пол. XV в. (?).
«Рождество Христово» поступило из ЦГРМ в 1933–1934 гг., «Вознесение» — из ГИМ в 1930 г. (ранее в собр. С. П. Рябушинского). «Вознесение» реставрировалось (или было написано вместе со второй иконой на старых досках?) в к. XIX – н. XX в. А. В. Тюлиным. «Рождество Христово» после пробной расчистки 1923 г. (М. И. Тюлин) было раскрыто от потемневшей олифы и укреплено 15 апреля (sic!) 1924 г. П. И. Юкиным.
Длительное время эти иконы не рассматривались вместе и считались написанными в разное время (от начала до 3-й четв. XV в.), пока, наконец, не было установлено, что они просходят из одного праздничного ряда (в предположительной форме — Алпатов 1967:171; Демина 1972:93; определенно — Вздорнов 1970:349–350).
Поскольку «Рождество Христово» было вывезено в 1922 г. из Рождественской церкви Рождественской слободы в Звенигороде, иконы до сих пор рассматриваются как написанные для одного из звенигородских соборов. Однако это мнение другими источниками не подтверждается.
Датируя иконы 1410–1420-ми гг., на возможность авторства Рублева или Даниила указывал Г. И. Вздорнов (Вздорнов 1970:350). «Рождество Христово» приписывали Рублеву Д. В. Айналов (Ainalov 1933:98), В. Г. Брюсова (Брюсова 1953) и М. А. Ильин (Ильин 1976:83–84). В дальнейшем В. Г. Брюсова связала икону с Даниилом (Брюсова 1995:63, 108).
Несомненно, оба произведения вторичны по отношению к одноименным иконам из троицкого иконостаса, т. е. не могут быть выполнены ранее 2-й трети XV в.
[ ↑ Содержание ]
В. Миниатюры
-
Миниатюры Евангелия Хитрово. РГБ. Ф. 304. III. № 3 / М. 8657). Пергамен, 1° (32,2×24,8), 299 л. Ок. 1400–1405 гг. (?).
Миниатюры: л. 1 об — символ евангелиста Иоанна (орел), л. 2 об — евангелист Иоанн с Прохором, л. 43 об — символ евангелиста Матфея (ангел), л. 44 об — евангелист Матфей, л. 80 об — символ евангелиста Марка (лев), л. 81 об — евангелист Марк, л. 101 об — символ евангелиста Луки (телец), л. 102 об — евангелист Лука. На л. 3, 45, 82 и 103 большие заставки неовизантийского стиля, на л. 228 большая заставка балканского стиля. 431 инициал неовизантийского стиля (по подсчету Г. В. Попова), часть из них в виде животных (последние описаны: Олсуфьев 1921:20–23).
В ГБЛ поступило из ризницы Троице-Сергиевой лавры, в монастырь было вложено в 1677 г. боярином Богданом Матвеевичем Хитрово, получившим рукопись в дар от царя Федора Алексеевича. В 1985–1989 гг. реставраторами ВНИИР (Г. З. Быкова, М. А. Волчкова, Н. Л. Петрова, Н. Ф. Пономарь, Т. Б. Рогозина (переплет), В. В. Игошев (металл) под руководством Г. З. Быковой была проведена комплексная реставрация Евангелия, находившегося в аварийном состоянии.
Неизвестно, для какого храма было создано Евангелие, но факт, что до передачи Б. М. Хитрово оно хранилось в царской казне, позволяет предположить, что рукопись была изготовлена для одного из великокняжеских храмов, возможно, для одного из кремлевских соборов (Архангельского? См.: Попов 1992:129; Попов 1995:49).
Время изготовления рукописи неизвестно. Она датируется временем ок. 1392 г. (Т. Б. Ухова), 1390-ми гг. (Ю. А. Олсуфьев, Д. В. Айналов, М. В. Алпатов, В. Н. Лазарев), к. XIV – н. XV в. или ок. 1400 г. (О. С. Попова, Э. С. Смирнова, Г. В. Попов, Л. А. Щенникова, В. Г. Брюсова), н. XV в. (И. Э. Грабарь, М. В. Алпатов), между 1405–1408 гг. (Н. А. Демина), ок. 1408 г. (Ю. А. Лебедева, Г. И. Вздорнов), сер. XV в. (А. И. Некрасов) и даже XVI в. (Г. П. Георгиевский).
И. Э. Грабарь первым опознал руку Андрея Рублева в миниатюрах Евангелия Хитрово (Грабарь 1926:104). Такого же мнения придерживались М. В. Алпатов, Н. А. Демина, С. С. Чураков, Т. Б. Ухова. Ю. А. Лебедева приписывала ему лишь миниатюру с ангелом. Некоторые исследователи связывают с Рублевым все миниатюры Евангелия, за исключением «Иоанна Богослова с Прохором» (В. А. Плугин, В. Г. Брюсова). Авторства Даниила не исключал Г. И. Вздорнов. Ю. А. Олсуфьев сначала связывал миниатюры с Феофаном Греком или с его мастерской, но в дальнейшем согласился с И. Э. Грабарем. К первоначальной точке зрения Ю. А. Олсуфьева присоединился В. Н. Лазарев, чья позиция была поддержана и конкретизирована О. С. Поповой, полагавшей, что две миниатюры (Иоанн с Прохором и ангел) создал греческий художник, возможно, Феофан, а все остальные — русский мастер, возможно, Рублев. В дальнейшем О. С. Попова отказалась от своего первоначального мнения, согласившись с И. Э. Грабарем. Д. В. Айналов считал, что миниатюры Евангелия Хитрово были написаны в Новгороде.
Наблюдения Г. В. Попова и Л. А. Щенниковой, которые были сделаны в период реставрации рукописи в 1985–1989 гг., позволяют предположить, что миниатюры Евангелия созданы, возможно, двумя художниками. По незначительным различиям в манере письма (главным образом, личного) их можно разделить на две группы: одна — Иоанн с Прохором, Матфей; другая —ангел, Марк (?), Лука, орел, лев, телец (?). По мнению Г. В. Попова, миниатюры первой из этих групп созданы Рублевым (Попов 1995:51), хотя возможен противоположный вариант.
-
Миниатюры Морозовского Евангелия, или Евангелия Успенского собора Московского Кремля (ГМЗМК. ГОП. Инв. 11056). Пергамен, 1° (35,7×29), 315 л. Заставки и инициалы — ок. 1405–1406 (?) гг. Лицевые миниатюры — ок. 1415 г.
Восемь лицевых миниатюр: четыре с символами евангелистов и четыре с изображениями самих евангелистов. Семь (четыре больших и три малых) заставок неовизантийского стиля. 439 инициалов (по подсчету Н. Л. Петровой). Более подробное описание: Вздорнов 1980. Описание. № 59.
Рукопись представляет собой напрестольное Евангелие Успенского собора в Московском Кремле. Ее миниатюры являются копией миниатюр Евангелия Хитрово, значительно уступая последним в художественном качестве.
Хотя Морозовское Евангелие типологически примыкает к Евангелию Хитрово, большинство ученых считает непричастным к его украшению Андрея Рублева и Даниила. Приписывают эту работу Даниилу С. С. Чураков (Чураков 1966:93–94) и В. А. Плугин (Плугин 2001:102–104), а В. Г. Брюсова (Брюсова 1995:15–18) считает ее совместной работой Даниила и Андрея, главным образом, первого.
В настоящее время в отношении даты создания рукописи и ее миниатюр наиболее убедительной представляется хорошо аргументированная точка зрения Г. В. Попова (Попов 1995:46–47, 66–67, примеч. 37). По его мнению, Евангелие Хитрово и Морозовское Евангелие были написаны в одной мастерской, притом одновременно (ок. 1400 г.), но, в отличие от первого, работа над вторым не была завершена. Хотя были написаны его заставки и инициалы, в исполнении которых участвовал один из иллюминаторов Евангелия Хитрово (не Рублев), украшение Евангелия не было закончено: рукопись оставалась в виде заготовки. Этот блок был использован позже — при митрополите Фотии, который с особым вниманием относился к Успенскому кафедральному собору. По желанию Фотия работа над Евангелием была завершена: на вставных листах были написаны его миниатюры, оно получило драгоценный золотой оклад. Произошло это между 1415 и 1431 г. Вероятно, следует несколько скорректировать мнение Г. В. Попова в части определения времени первого этапа работы над Евангелием; поскольку работа была приостановлена скорее всего со смертью митрополита Киприана (ум. 16 сентября 1406 г.), то, стало быть, оно писалось и иллюминировалось в 1405–1406 гг.
-
Миниатюры Андроникова Евангелия, или Евангелия из Спасо-Андроникова монастыря (Евангельские чтения) (ГИМ. Епарх. 436). Пергамен, 1° (28,2×21,3), I–III + 291 л. 1420-е гг. (?).
Одна выходная миниатюра «Спас в славе». (Мнение о происхождении этого листа из другой, более ранней рукописи ошибочно.) Три заставки: две — одна большая, другая малая — в красках; одна линейная, золотом. 373 инициала (по подсчету А. Л. Саминского). Более подробное описание см.: Вздорнов 1980. Описание. № 61.
Рукопись происходит из Спасо-Андроникова монастыря, хотя была написана, вероятно, в другом месте. Являлась напрестольным Евангелием Спасского собора. Часть виртуозно выполненных инициалов Андроникова Евангелия близка к инициалам Евангелия Хитрово, значительно уступая последним в качестве.
Впервые украшения Андроникова Евангелия были приписаны Андрею Рублеву А. И. Успенским (Успенский 1910:321). Выходную миниатюру со Спасом Еммануилом произведением Рублева считают В. И. Антонова, художник П. Д. Корин и И. А. Кочетков, произведением Даниила — С. С. Чураков. Весь декор Евангелия связывает с Рублевым В. Г. Брюсова.
[ ↑ Содержание ]
Источники:
А. Летописные известия
Троицкая летопись 1412–1418 гг. под 1405 и 1408 гг.: Карамзин 5, примеч. 254; Приселков 1950:459, 466. Сведения под 1408 г. Троицкой летописи в различных редакциях повторяются во многих летописях. См. Дудочкин 2000:61–63.
Б. Житийные известия
Службы и Жития, и о чюдесех списания преподобных отец наших Сергия Радонежьскаго чюдотворца и ученика его, преподобнаго отца и чюдотворца Никона. [Творение Симона Азарьина.] М., 1646. Л. 82 об–83, 99 об–100; 187–187 об; От жития Никонова, ученика Сергиева // ПСРЛ. Т. 6 (Софийские летописи). СПб., 1853:138–139; Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 25–30. СПб., 1883. Под 25 сентября. Стлб. 1434, 1451, 1546–1547; Ноябрь, дни 16–22. М., 1914. Под 17 ноября. Стлб. 2905–2906; Древние жития преподобного Сергия Радонежского. Собраны и изданы… Николаем Тихонравовым. М., 1892. (Книга вышла в свет в 1916 г.) Отд. II:65, 82; Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания: Биографический и библиографически-литературный очерк. СПб., 1908. Прил.: LXXV–LXXVI; Житие Сергия Радонежского / Подг. текста и комм. Д. М. Буланина, пер. М. Ф. Антоновой и Д. М. Буланина // Памятники литературы Древней Руси: [Вып. 4:] XIV – середина XV века / Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1981:380–381; Клосс 1998:88. Тексты:401–402.
В. Припоминания о Рублеве
-
Сведения об Андрее Рублеве и Данииле в «Духовной грамоте» Иосифа Волоцкого 1507 г. (слово 10 «Отвещание любозазорным и сказание вкратце о святых отцах, бывших в монастырях, иже в Рустей земли сущих»): Летопись занятий Археографической комиссии. 1862–1863. Вып. 2. СПб., раздел II (Материалы):88; Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1–13. СПб., 1868. Под 9 сентября. Стлб. 557–558.
-
Постановление Стоглавого собора 1551 г. с указанием писать иконы Троицы, «как греческые живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочии преславущии живописцы, и подписывати „Святая Троица“, а от своего замышления ничто же предтворяти» (Глава 41. Вопрос 1): Стоглав. [Изд. И. М. Добротворского.] Казань, 1862:165 (= Изд. 2-е. Казань, 1887:79; Изд. 3-е. Казань, 1911:79); Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Кн. 5. 1860–1861. СПб., 1863. 5-я пагинация: 31–32; Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. / Под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Отв. ред. А. Д. Горский. М., 1985:303; Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000:304.
-
Наименование Даниила и Андрея Рублева «богодухновенными» живописцами в сообщении Степенной книги 1560-х гг. о росписи Успенского собора во Владимире: Книга степенная царского родословия. Ч. 2 // ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. СПб., 1913:422.
-
Сравнение некоего безвестного иконописца Гурия, работавшего в 1530-х гг. в Николаевском монастыре на берегу Комельского озера по заказу его основателя, с Андреем Рублевым в «Житии Стефана Комельского» к. XVI в. (?): Житие преподобного Стефана Комельского. Сообщ. Х. Лопарева. СПб., 1892 (= ПДП. Т. 85):16. Источник вторичный.
-
Упоминание «преподобнии иконописцев» «инока Данилы, инока Андрея» в «Перечне памятей святых — учеников Сергия Радонежского» в святцах Троице-Сергиева монастыря, составленных в сер. XVII в. (ок. 1652 г.) на основе черновых записей Симона Азарьина: Леонид, архим. [Кавелин]. Сведение о славянских пергаменных рукописях, поступивших из книгохранилища Св. Троицкой Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 году // ЧОИДР. 1883. Кн. 2. М., 1883. Раздел II. Рукопись № 29 (202):149. Отд. изд.: М., 1884 (= 1887) (с той же пагинацией).
-
Сведения об Андрее Рублеве и Данииле в «Сказании о святых иконописцах» к. XVII – н. XVIII в. (ок. 1715 г. (?)): Сахаров 1849. Кн. 2. Прил. V:14; Буслаев 1861. Т. 2: Древнерусская народная литература и искусство. СПб., 1861:379–380 (= Сочинения Ф. И. Буслаева. Т. 2: Сочинения по археологии и истории искусства: Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1910:397); Мастера искусства об искусстве: Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов: В 7 т. / Под общ. ред. А. А. Губера, А. А. Федорова-Давыдова, И. Л. Маца, В. Н. Гращенкова. Т. 6:15; Кузьмина 1971:120–121. Источник компилятивный. Статьи о Рублеве и Данииле существуют в нескольких редакциях, из которых опубликованы две (по разным спискам). Третья, с более правильным пониманием используемых источников, пока известна в двух списках, один из которых упоминается: Плугин 2001:234.
-
Сведения об Андрее Рублеве и Данииле в «Книге глаголемой описание о российских святых» н. (?) XVIII в.: Книга глаголемая описание о российских святых, где и в котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори, всякого чина святых. Дополнил биографическими сведениями… М. В. Толстой // ЧОИДР. 1887. Кн. 4. М., 1888. (Отд. издание, с той же пагинацией: М., 1887 (репринт: М., 1995). Раздел II. Царствующего града Москвы святые:71, № 185; Кузьмина 1971:122; Брюсова 1995:128. Источник вторичный.
-
Сведения о месте погребения Андрея Рублева и Даниила в Спасо-Андрониковом монастыре «под старою колокольнею, которая в недавнем времени разорена», в составе статьи о преп. Андронике в «Алфавите российских чудотворцев» инока Керженского монастыря Ионы начала XIX века (ЯИАМЗ. Инв. 15544. Л. 256–257). Полностью не опубликованы; Брюсова 1995:129.
-
Надпись (поздняя) на вкладном (?) распятии, принадлежавшем графу А. И. Мусину-Пушкину: Калайдович 1824:21; Плугин 2001:407. Несомненная фальсификация.
-
Надпись на несохранившейся надгробной плите из Спасо-Андроникова монастыря с датой смерти художника. Список с плиты, якобы выполненный Г. Ф. Миллером и оказавшийся позже в распоряжении П. Д. Барановского: Барановский 1982; Барановский 1996:21, ил. б/п, по счету ил. 54–55 (список и реконструкция) во 2-м блоке ил. между с. 192–193. Несомненная фальсификация, осуществленная П. Д. Барановским в к. 1946 – н. 1947 г.
Г. Припоминания о произведениях Рублева
-
Запись о трех иконах «Рублева письма Андреева», принадлежавших Иосифу Волоцкому и принесенных в основанный им монастырь Успения Богородицы (Иосифо-Волоколамский) в 1479 г., в «Послании волоколамских иноков старцу Ионе Голове» 1515–1522 гг.: Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения // ЧОИДР. 1881. Кн. 2. Апрель–июнь. (Отд. изд.: М., 1881). Отдел приложений. XIX:57; Казакова 1958:310.
-
Запись о вкладе «Феодосиа иконика Деонисиева сына» в Иосифо-Волоколамский монастырь на «повседневное поминание» 1503–1504 г. в Синодике монастыря 1479–1514/1515 гг., с упоминанием «икон Андреева писма Рублева, а цена им дватцать рублев»: Казакова 1958:311. Запись полностью не опубликована; воспроизводилась, с неверным прочтением, лишь ее часть (как вклад неизвестной знатной женщины). Вкладную запись впервые правильно прочитал А. А. Зимин, передавший ее в своем изложении (см.: Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–XVI в.). М., 1977:111, примеч. 48).
-
Свидетельство Иосифа Волоцкого о судьбе вкладных икон «письма Рублева» (см. раздел «Источники». Г-2) в его послании к Борису Васильевичу Кутузову в начале 1511 г.: Послания Иосифа Волоцкого / Подг. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.; Л., 1959. Тексты:212.
-
Сведения о судьбе вкладных икон «письма Рублева» (см. раздел «Источники». Г-2) в «Житии Иосифа Волоцкого», составленном Саввой Черным в 1546 г.: Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения. 1865. Кн. 2 (отд. изд.: М., 1865). Прил.:40; Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1–13. СПб., 1868. Под 9 сентября. Стлб. 476.
-
Упоминание четырех икон Андрея Рублева в утраченной ныне описи церквей Иосифо-Волоколамского монастыря, составленной Зосимой и Паисием в 1545 г.: Опись [имущества] Иосифова Волоколамского монастыря 1545 г. [Составлена старцем Зосимой и книгохранителем Паисием.] // Георгиевский 1911. Прил.:2–5.
-
Запись о вкладе архимандрита московского Симонова монастыря Алексея Ступишина в Иосифо-Волоколамский монастырь «по своей братии» в 1561 г. во вкладной книге монастыря XVI в. с упоминанием «складней путных, обложены серебром, Рублева писма: на одной половине образ Пречистыя со младенцем, да Иоанн Богослов, а на другой половине мученик Христов Никита, да Никола чюдотворец, да Первомученик Стефан»: Вкладные и записные книги Иосифова Волоколамского монастыря XVI в. и упраздненные монастыри и пустыни в Ярославской епархии // Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному члену императорского Русского археологического общества И. А. Вахромееву. Вып. 5. М., 1906. [Прил.], 2-я пагинация:56, глава 244.
-
Свидетельство «Повести о пожаре 1547 г.» в составе «Летописца начала царства» сер. XVI в. о гибели в Благовещенском соборе Московского Кремля «деисуса Ондреева писма Рублева златом обложен»: Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича // ПСРЛ. Т. 29. М., 1965:51–52. Те же сведения повторяются в других летописях (см.: Дудочкин 2000:74–75).
-
Упоминание двух икон («образ Спасов вседръжителев да образ Пречистые Умиленье») «Ондреева письма Рублева» в духовной грамоте князя Юрия Андреевича Оболенского 1547–1565 гг.: Духовная [грамота] кн[язя] Юрия Андреевича Оболенского. (1547–1565 гг.) // Акты феодального землевладения и хозяйства. Ч. 2 / Подг. к печати А. А. Зимин. М., 1956. № 207:212.
-
Упоминание двух пядничных икон «Воскресение Христово» и «Троица» Андрея Рублева в книгах отписных и отводных Соловецкого монастыря, составленных при передаче монастыря игумену Иакову в 1582 г. Запись обнаружена А. Г. Мельником: Плугин 2001:355, примеч. 55.
-
Запись об иконе «Успения Пречистые Богородицы от Рублевого писма», датируемая между 27 сентября 1613 и 27 февраля 1614 г., в приходно-расходной тетради Кирилло-Белозерского монастыря «Что пошло на оклад пречистой Богородице и чудотворцу Кириллу» 1611–1614 гг.: Книги приход и росход, что пошло на оклад Пречистой Богородице и чюдотворцу Кирилу // Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века (1397–1625). Т. 1. Вып. 1: Об основании и строениях монастыря. СПб., 1897. Прил. 9:CVII. В отношении авторства Рублева — несомненная фальсификация.
-
Упоминание иконы «Успение» письма Рублева в описях Кирилло-Белозерского монастыря 1621, 1635 и 1668 г.: [Описные книги Кирилло-Белоезерского монастыря «лета 7176-го Февраля въ 10 день».] // Савваитов П. И. Оружейная палата Кирилло-Белоезерского монастыря, по описным книгам 1668 года. СПб., 1851:2; Варлаам, архим. [Денисов В. П.]. Описание историко-археологическое древностей и редких вещей, находящихся в Кирилло-Белозерском монастыре // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1859. Кн. 3. Июль–сентябрь. М., 1859 (отд. изд. с той же пагинацией: М., 1859). Раздел I:88, примеч. 36. В отношении авторства Рублева — несомненная фальсификация.
-
Упоминание в записи под 25 августа описи «верхнего относу» 1617 г. «застенка» (настенной пелены) к иконе «Пречистые Рублева писма»: Записки верховому взносу. 24. 7125 г. Верхней относ // Забелин И. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т. 2: Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1869. Материалы:66–67. То же переиздано: Изд. 2-е, с доп. М., 1872. Материалы:60; Изд. 3-е, с доп. М., 1901. Материалы, V. 3:636. (В. И. Антонова видела в этом «застенке» чехол, закрывавший тыльную сторону иконы, см.: Антонова 1966:25, примеч. 5.)
-
Упоминание того же «застенка» к иконе «Богоматерь Умиление» письма Рублева в описи Образной палаты Московского дворца, составленной дьяком мастерской палаты Иваном Чаплыгиным ок. 1669 г.: Успенский А. И. Церковно-археологическое хранилище при Московском дворце в XVII веке. М., 1902:68.
-
Надпись об авторстве Рублева, выполненная не позднее 1602 г. писцом описи сольвычегодского Благовещенского собора (атрибуция почерка и даты А. А. Турилова), на обороте иконы «Богоматерь Умиление» 2-й пол. XVI в., находившейся в XIX в. в собр. Ерофея Афанасьева и К. Т. Солдатенкова (в настоящее время, возможно, принадлежит одному из государственных собраний Чехии): Ровинский 1903:40, 26 (не полностью); Беляев Н. М. Икона Божией Матери Умиления из собрания Солдатенковых. (= ΖΩΓΡΑΘΙΚΑ. Памятники иконописи. 2). Praha, 1932:7, табл. II. 2 (фотография)). В отношении авторства Рублева — несомненная фальсификация.
Д. Изображения Андрея Рублева
-
Миниатюра, изображающая Андрея Рублева и Даниила за работой в Успенском соборе во Владимире, в одном из томов «Древнего летописца» (Остермановских томов) в составе «Лицевого летописного свода» 1570-х – сер. 1580-х гг. (БАН. 31.7.30. Т. 2. Л. 1442): Успенские 1901/1:80–81, табл. IV (прорись); Грабарь 1926:73 (прорись); Андрей Рублев 1971. Ил. 8 (прорись); Маркелов 1998. Т. 2. Прил.: № 51 (прорись).
-
Пять миниатюр с изображением Андрея Рублева и Даниила в лицевом списке пространной редакции «Жития Сергия Радонежского», изготовленном в царской книгописной мастерской в 1580-х – н. 1590-х гг. (РГБ. Ф. 304 / III. № 21 / М. 8663. Л. 229 об–230 об, 292 об–293) (подробнее см.: Дудочкин 2000:80–82): Собко 1893. Стлб. 169–170, ил. 37–39 (прориси); Успенские 1901:79, рис. 4 (прорись), 81, рис. 5 (прорись), 83, рис. 6 (прорись), 85, рис. 7 (прорись), 87, рис. 8 (прорись); Владимиров М. [= Алпатов М. В.], Георгиевский Г. П. Древнерусская миниатюра: 100 листов миниатюр с описанием и статьями М. Владимирова и Г. П. Георгиевского. М., 1933. Л. 9 (в цвете); Житие преподобного Сергия, радонежского чудотворца: 100 миниатюр из лицевого жития конца XVI века собрания ризницы Троице-Сергиевой лавры: Альбом / Авт.-сост. Г. Аксенова. М., 1997. Раздел: Альбом. № 44 (в цвете); Маркелов 1998. Т. 2. Прил.: № 52–54 (прориси).
-
Две (?) миниатюры с изображением Андрея Рублева в лицевом списке пространной редакции «Жития Сергия Радонежского» к. XVII в. (БАН. 34.3.4. Л. 269 об–270) — копии с Троицк. / III. № 21: Успенские 1901:80–81, табл. V, VI (прориси); Андрей Рублев 1971. Ил. 6–7 (прориси).
[ ↑ Содержание ]
Библиография:
Полной библиографии работ о Рублеве и его произведениях пока не существует. Наиболее подробный на сегодняшний день список см.: Дудочкин 2000:83–133. В настоящую библиографию включена лишь основная литература о художнике, из переизданий указаны лишь главные:
[до 1901] Калайдович К. Биографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании российских древностей графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина // Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Имп. Московском университете. Ч. 2. М., 1824. Раздел II (Труды…):21, примеч.; Иванчин-Писарев Н. Спасо-Андроников. М., 1842:14, 19, 21, 42–46, 84, примеч. 29, 85, примеч. 31, 103, примеч. 47; Сахаров 1849. Кн. 1:3, Кн. 2:13, 14; [Сергий, архим.] Историческое описание московского Спасо-Андроникова монастыря. М., 1865:16–21; Прил.:8–12; Леонид, архим. Звенигород и его соборный храм с фресками // Сборник на 1873 год, изданный Обществом древнерусского искусства при Московском публичном музее [= Сборник Общества древнерусского искусства на 1873 год.] / Под ред. Г. Филимонова. М., 1873:115–116; Барсуков Н. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стлб. 38–39 (статья: «Андрей Рублев»), 148–149 (статья: «Даниил Черный»); Мансветов И. По поводу недавно открытой стенописи в Московском и Владимирском Успенских соборах // Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе за 1883 год. Ч. 31. 1883. Кн. 2. М., 1883:522–523, 533, 536–537, 538–540, 542–543, 545–553, 554, 555–558, 562, 563; Виноградов А. История кафедрального Успенского собора в губ. гор. Владимире. [Изд. 2-е, доп.] Владимир, 1891:56–57, 77, 92, 94–96, 100–102, 103, 145, 147 (переиздано: Изд. 3-е, с ил. Владимир, 1905:48–49, 64–65, 85, 87–89, 93–95; Прил. Ж:28, 30); Собко 1893. Стлб. 168–173;
[1901–10] Успенские М. и В. Заметки о древнерусском иконописании: Известные иконописцы и их произведения. I: Св. Алимпий. II: Андрей Рублев // Вестник археологии и истории, издаваемый С.-Петербургским археологическим институтом. Вып. 14. СПб., 1901:76–116 (отд. изд.: СПб., 1901:35–76); Успенский 1902/2:21–25, № 9–11; Ровинский 1903: 4, 6, 11, 26, 27, 39, 40–42, 60, 74, 75, 130, 159–160, 170, 174; Гурьянов В. П. Две местные иконы св. Троицы в Троицком соборе Свято-Троицко-Сергиевой лавры и их реставрация // Московская церковная старина. Труды Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины г. Москвы и Московской епархии, издаваемые под ред. А. И. Успенского. Т. 3. Вып. 2. М., 1906:37–45 (отд. изд.: М., 1906:1–9); Лихачев Н. П. Манера письма Андрея Рублева: Реферат, читанный 17-го марта 1906 года. [СПб.,] 1907 (= ПДП. 126); Воронцова Л. Д. О реставрации церквей Троице-Сергиевой лавры по архивным документам // Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников Имп. Московского археологического общества. Посвящаются памяти ее основателя графа А. С. Уварова / Изд. под ред. И. П. Машкова. Т. 3. М., 1909:323–334; Письмо художника Н. И. Подключникова к Андрею Николаевичу Муравьеву из села Васильевского близ Шуи. Сообщил Андрей Владимирович Муравьев. [Публ. и прим. В. Георгиевского] // Иконописный сборник. Издание высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи. Вып. 3. СПб., 1909:41–49 (одновременно переиздано: Старый иконостас Владимирского Успенского собора. Письмо художника Н. И. Подключникова к Андрею Николаевичу Муравьеву из села Васильевского близ Шуи / [Публ. и примеч. В. Т. Георгиевского] // Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Кн. 11. Владимир, 1909. Смесь:3–8); Успенский А. И. Очерки по истории русского искусства: Из лекций, читанных в Московском археологическом институте в 1908/1909 академическом году. Т. 1: Русская живопись до XV века включительно. М., 1910:16, 17–29, 152–159, 160, 164–166, 273–275, 320–321, V–VIII, примеч. 39;
[1911–20] Георгиевский 1911:10, 26–27, 28, 32, 64, 71, 75; Кондаков Н. П. Иконография Богоматери: Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб., 1911:179; Щепкин В. Н. Московская иконопись // Москва в ее прошлом и настоящем. Т. 5. Ч. 2. М., 1911:228–230; Айналов Д. В. История русской живописи от XVI по XIX столетие. Вып. 1. СПб., 1913:9–19; Муратов П. Русская живопись до середины XVII века // История русского искусства. [В 6 т.] / Под ред. И. Э. Грабаря. Т. 6: История живописи: Допетровская эпоха. М., [1914]:209, 224–234, 237; Глазунов А. Древнейшие фрески Богородице-Рождественского собора звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря // Светильник. 1915. № 2:30–32; Протасов Н. Д. Фрески на алтарных столпах Успенского собора в Звенигороде // Светильник. 1915. № 9–12:26–48; Пунин Н. Андрей Рублев // Аполлон. 1915. № 2:1–23 (отд. изд. с той же пагинацией: Пг., 1916. Работа переиздана: Пунин Н. Н. Андрей Рублев / [С комм. В. Н. Сергеева.] // Пунин Н. Н. Русское и советское искусство: Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве: Мастера русского искусства XIV – начала XX века. Советские художники. М., 1976:33–55); Сычев Н. Икона св. Троицы в Троице-Сергиевой лавре // Записки Отделения русской и славянской археологии Имп. Русского археологического общества. Т. 10. Пг., 1915:58–76 (статья переиздана в: Сычев Н. П. Избранные труды / Сост. С. Ямщиков. М., 1977:81–114); Грищенко А. Вопросы живописи. Вып. 3: Русская икона как искусство живописи. М., 1917:5, 42, 87–92 (глава: «Андрей Рублев и Дионисий Глушицкий»), 97, 146–148, 150, 197, 206–207, 249; Олсуфьев 1920:3–7, 9–16, 22–25, 28–32, 37–41, 47, 213, 238–240;
[1921–30] Олсуфьев Ю. Опись лицевых изображений и орнамента книг ризницы Троице-Сергиевой лавры. Сергиев Посад, 1921:IV, 16–24; Алпатов М. Икона Вознесенья быв. собр. С. П. Рябушинского, ныне Исторического музея // Труды Этнографо-археологического музея 1 МГУ / Под ред. А. И. Некрасова. М., 1926:23–27; Грабарь И. Андрей Рублев: Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918–1925 гг. // Вопросы реставрации: Сб. ЦГРМ. 1 / Под ред. И. Э. Грабаря. М., 1926:7–112 (работа переиздана в: Грабарь И. О древнерусском искусстве: [Сб. ст.] / Сост. О. И. Подобедова. М., 1966:112–208); Олсуфьев Ю. А. Иконописные формы как формулы синтеза: Доклад в связи с изучением памятников иконописи б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1926:8–5, 18–21; Жидков Г. В. [Рец. на: Грабарь 1926] // Известия на Българския археологически институт / Bulletin de l’Institut archéologique Bulgare. IV. 1926/1927. София / Sofia, 1927:351–357; Олсуфьев Ю. А. О линейных деформациях в иконе Троицы Андрея Рублева: Иконологический опыт // Олсуфьев Ю. А. Три доклада по изучению памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1927:5–32; Alpatov M. La «Trinité» dans l’art byzantin et l’icone de Roublev. Études comparatives // Echos d’Orient. Revue d’histoire, de géographie et de liturgie orientales. 1927. № 146. T. 26. Avril-juin 1927:150–186; Щербаков Н. А., Свирин А. Н. К вопросу о творчестве Андрея Рублева. Сергиев, 1928;
[1931–40] Ajnalov D. Trois manuscrits du XIVe siècle а l’exposition de l’ancienne Laure de la Trinité а Sergiev // L’art Byzantin chez les Slaves, l’ancienne Russie, les Slaves catholiques. Deuxième recueil: Dédié а la mémoire de Théodore Uspenskij. Paris, 1932:244–249; Alpatov M. Geschichte der altrussischen Malerei und Plastik // Alpatov M., Brunov N. Geschichte der altrussischen Kunst: Texband. Augsburg, 1932 (репринт: N. Y.; L., 1969): 305, 306–307, 307–312 (раздел: «Andrej Rublev»), 319, 321, 322, 386, 395, 397, 400, 408; Ainalov D. [Geschichte der russischen Kunst. Bd. 2.]: Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des Grossfürstentums Moskau. Berlin; Leipzig, 1933:47, 48, 49, 93–101 (раздел: «Andrej Rubljov»), 103, 104, 106, 122; Некрасов А. И. Древнерусское изобразительное искусство. [М.,] 1937:6, 16, 230–238, 240;
[1941–50] Михайловский Б. В., Пуришев Б. И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV в. до начала XVIII в. М.; Л., 1941:16–20 (глава «Андрей Рублев и общие вопросы развития древнерусского искусства XIV–XVII веков»), 21, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 39–40, 41, 43, 45, 50–52; Острецов И. Реставрация нового произведения А. Рублева: [Икона «Сретение» из праздничного ряда иконостаса 1408 года Успенского собора во Владимире] // Сообщения ГРМ. Вып. 1. Л., 1941:15–17; Лазарев В. Н. О методе работы в рублевской мастерской // МГУ: Доклады и сообщения филологического факультета. Вып. 1. М., 1946: 60–64 (переиздано: Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и материалы / Ред.-сост. Э. С. Смирнова. М., 1978:205–210); Гордеев Н., Мнева Н. Памятник русской живописи XV века: [Икона «Архангел Михаил, с деяниями» из Архангельского собора Московского Кремля] // Искусство. 1947. № 3:86–88; Приселков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950: 459, 466;
[1951–60] Брюсова В. Г. Фрески Успенского собора на Городке гор. Звенигорода. Автореф. дис. … канд. иск. М., 1953; Алпатов М. В. Всеобщая история искусств: Т. 3: Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. М., 1955:163, 171, 180, 181–182, 183–184, 185–197, 199, 210, 219, 238, 240, 242, 243, 244, 245, 249, 255; Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа // ИРИ. Т. 3. М., 1955:102–186; Антонова В. О первоначальном месте «Троицы» Андрея Рублева // ГТГ: Материалы и исследования. Вып. 1. М., 1956:21–43; Демина Н. А. Черты героической действительности XIV–XV веков в образах людей Андрея Рублева и художников его круга // ТОДРЛ. Т. 12. М.; Л., 1956:311–324; Лебедева Ю. К вопросу о раннем творчестве Андрея Рублева // Искусство. 1957. № 4:66–69; Алпатов М. В. Икона «Сретения» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры: К изучению художественного образа в древнерусской живописи // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958:557–564 (с изменениями статья переиздана в: Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства: Т. 1. М., 1967:138–145, 207–208); Воронин Н. Н. Лицевое житие Сергия как источник для оценки строительной деятельности Ермолиных // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958:573–575; Казакова Н. А. Сведения об иконах Андрея Рублева, находившихся в волоколамском монастыре в XVI в. // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958:310–311; Николаева Т. В. Оклад с иконы «Троица» письма Андрея Рублева // Сообщения ЗИХМ. Вып. 2. Загорск, 1958:31–38; Алпатов М. В. Андрей Рублев. М., 1959; Лебедева Ю. А. Андрей Рублев. Л., 1959; Антонова В. Андрей Рублев и его произведения // ГТГ: Выставка, посвященная шестисотлетнему юбилею Андрея Рублева / Сост. Е. Ф. Каменская, М. А. Реформатская и Н. Б. Салько. Под ред. В. И. Антоновой. Вступ. статья В. И. Антоновой. М., 1960:6–22; ГТГ: Выставка, посвященная шестисотлетнему юбилею Андрея Рублева / Сост. Е. Ф. Каменская, М. А. Реформатская и Н. Б. Салько. Под ред. В. И. Антоновой. Вступ. статья В. И. Антоновой. М., 1960; Демина Н. А. Фрески Андрея Рублева во Владимире // Декоративное искусство СССР. 1960. № 8(33):5–9; Ильин М. А. Изображение Иерусалимского храма на иконе «Вход в Иерусалим» Благовещенского собора: К вопросу о художественных взаимоотношениях Феофана Грека и Андрея Рублева // ВВ. Т. 17. М.; Л., 1960:105–113; Лазарев В. Н. Андрей Рублев. М., 1960; Лебедева Ю. Андрей Рублев и живопись Москвы первой половины XV века // Искусство. 1960. № 9:64–71; Маясова Н. А. О датировке древней копии «Троицы» Андрея Рублева из иконостаса Троицкого собора // Сообщения ЗИХМ. Вып. 3. Загорск, 1960:170–174;
[1961–70] Тихомиров М. Н. Андрей Рублев и его эпоха // ВИ. 1961. № 1:3–17 (статья переиздана в: Тихомиров М. Н. Русская культура X–XVIII вв.: [Сб. ст.] М., 1968:206–225, 424–425); Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (к. XIV – н. XV в.). М.; Л., 1962:80–83, 125–132, 138, 164; Lebedewa J. A. Andrei Rubljow und seine Zeitgenossen. Dresden, 1962; Антонова В. И. Московская школа XIV – начала XVIII вв. // Антонова, Мнева 1963. Т. 1:264–267, 305, 345, кат. 223–245, 283; Вздорнов Г. И. Фресковая роспись алтарной преграды Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде // Древнерусское искусство XV – н. XVI веков. М., 1963:75–82; Демина Н. «Троица» Андрея Рублева. М., 1963 (работа переиздана в: Демина Н. А. Андрей Рублев и художники его круга: [Сб. ст.] М., 1972:45–81); Ильин М. А. К датировке «звенигородского чина» // Древнерусское искусство XV – н. XVI веков. М., 1963:83–93; Постникова-Лосева М. М., Протасьева Т. Н. Лицевое евангелие Успенского собора как памятник древнерусского искусства первой трети XV века // Древнерусское искусство XV – н. XVI веков. М., 1963:133–172; Ильин М. А. К изучению иконы Иоанна Предтечи из Николо-Пешношского монастыря // СА. 1964. № 3:315–321; Чураков С. Андрей Рублев и Даниил Черный // Искусство. 1964. № 9:61–69; Антонова В. И. Раннее произведение Андрея Рублева в Московском Кремле // Культура Древней Руси: [Сб. ст.] Посвящается 40-летию научной деятельности Н. Н. Воронина. М., 1966:21–25; Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966 (одновременно вышла в пер. на итал. яз: Lazarev V. N. Andrej Rublev / [Traduzione di Ettore Lo Gatto.] Milano, 1966); Никифораки Н. А. Опыт атрибуции иконостаса Благовещенского собора при помощи физических методов исследования // Культура Древней Руси: [Сб. ст.]: Посвящается 40-летию научной деятельности Николая Николаевича Воронина. М., 1966:173–176; Чураков С. С. Андрей Рублев и Даниил Черный // СА. 1966. № 1:92–107; Алпатов М. В. Икона «Вознесение» в Третьяковской галерее // Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства: Т. 1. М., 1967:170–174, 212; Лебедева Ю. А. Андрей Рублев и живопись XV века // Троице-Сергиева лавра: Художественные памятники / Под общ. ред. Н. Н. Воронина и В. В. Косточкина. М., 1968: 77–93; Брюсова В. Г. Спорные вопросы биографии Андрея Рублева // ВИ. 1969. № 1:35–48; Ильин М. Новое об иконостасе [1408 года Успенского] собора во Владимире // Художник. 1969. № 5:38–39; Вздорнов Г. И. Живопись [второй половины XIII–XV веков] // Очерки русской культуры XIII–XV веков. Ч. 2: Духовная культура. М., 1970:329–352 (с некоторыми изменениями переиздано: Вздорнов Г. И. Русская культура: Середина XIII – XV век // Лихачев Д. С., Вагнер Г. К., Вздорнов Г. И., Скрынников Р. Г. Великая Русь: История и художественная культура X–XVII века. Милан; М., 1994:294–301); Вздорнов Г. И. Новооткрытая икона «Троицы» из Троице-Сергиевой лавры и «Троица» Андрея Рублева // Древнерусское искусство: [Сб. ст. Т. 5:] Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств XIV–XVI вв. М., 1970:115–154; Ильин М. А. Иконостас Успенского собора во Владимире Андрея Рублева // Древнерусское искусство: [Сб. ст. Т. 5:] Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств XIV–XVI вв. М., 1970:29–40; Плугин В. А. Некоторые проблемы изучения биографии и творчества Андрея Рублева // Древнерусское искусство: [Сб. ст. Т. 5:] Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств XIV–XVI вв. М., 1970:73–86; Реформатская М. А. Надвратная сень из села Благовещенье // Древнерусское искусство: [Сб. ст. Т. 5:] Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств XIV–XVI вв. М., 1970:478–487;
[1971–80] Андрей Рублев и его эпоха: Сб. ст. / Под ред. М. В. Алпатова. М., 1971; Гусева Э. Иконы «Васильевского» чина и фрески 1408 года Успенского собора во Владимире: К вопросу о манере письма Андрея Рублева // ГТГ: Вопросы русского и советского искусства: Материалы научных конференций (январь–март 1971 года). Вып. 1. М., 1971:25–32; Данилова И. Е. Андрей Рублев в русской и зарубежной искусствоведческой литературе // Андрей Рублев и его эпоха: Сб. ст. / Под ред. М. В. Алпатова. М., 1971:17–61; Кузьмина В. Д. Древнерусские письменные источники об Андрее Рублеве // Андрей Рублев и его эпоха: Сб. ст. / Под ред. М. В. Алпатова. М., 1971:103–124; Матвеева А. Б. Фрески Андрея Рублева и стенопись XII века во Владимире // Андрей Рублев и его эпоха: Сб. ст. / Под ред. М. В. Алпатова. М., 1971:142–170; Чураков С. С. Отражение рублевского плана росписи в стенописи XVII в. Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры // Андрей Рублев и его эпоха: Сб. ст. / Под ред. М. В. Алпатова. М., 1971:194–212; Алпатов М. Андрей Рублев. Около 1370–1430. М., 1972; Демина Н. А. Андрей Рублев и художники его круга: [Сб. ст.] М., 1972; Antonova V. La «Trinité» de Roublev étudiée а la Galerie Tretiakov: patine et peinture originelle // Actes du XXIIe Congrès International d’histoire de l’art (Budapest, 1969). I: Texte. Budapest, 1972:249–252; III: Tables. Budapest, 1972:89–90 (= Fig. 70–72, 1–6); Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева: Некоторые проблемы: Древнерусская живопись как исторический источник. М., 1974; Бетин Л. В. О происхождении иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. 1. М., 1975:37–44; Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV – начала XVI века. М., 1975:9, 10, 14, 15, 20, 21–22, 23–29, 32, 33–34, 63, 80–81, 87, 89, 96, 98, 99, 105, 106, 111, 114, 123, примеч. 8, 125, примеч. 22, 25, 132, примеч. 138; Ильин М. А. Искусство московской Руси эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева: Проблемы. Гипотезы. Исследования. М., 1976:23, 42, 58–68, 69–101 (глава V «Андрей Рублев»), 119, 126, 153, 156, 158, 163–165; Никифораки Н. «Троица» Андрея Рублева в свете новейших исследований // Искусство. 1976. № 3:57–61; Плугин В. А. Фрески пилястра в жертвеннике Успенского собора во Владимире // ПКНО. 1975. М., 1976:186–191; Некрасов А. П., Балыгина Л. П. Технико-реставрационное исследование живописи Андрея Рублева 1408 г. в Успенском соборе г. Владимира // [Сообщения ВЦНИЛКР.] Художественное наследие: Хранение, исследование, реставрация. 3 (33). М., 1977:145–149; Николаева 1977:17–22, 25–26, 27, 30, 31, 32–34, 35, 39. Каталог: 43–59, кат. 1–41, 63, кат. 65, 66, кат. 72, 143, кат. 245; Балыгина Л. П., Некрасов А. П., Скворцов А. И. Вновь открытые и малоизвестные фрагменты живописи XII в. в Успенском соборе во Владимире // Древнерусское искусство: [Сб. ст. Т. 11:] Монументальная живопись XI–XVII вв. М., 1980:61–65, 71–76; Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси: Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков. М., 1980:78, 86, 93, 100–101, 105–112, 121, 122, 123. Описание рукописей: № 58, 59, 61;
[1981–90] Сергеев В. Н. Рублев. М., 1981 (= 1986, 1990, 1998); Троица Андрея Рублева: Антология / Сост. Г. И. Вздорнов. М., 1981 (Изд. 2-е, испр. и доп.: М., 1989); Барановский П. Д. Обитель Андрея Рублева. [Сокращенная стенограмма доклада, прочитанного П. Д. Барановским в Институте истории искусств АН СССР 11 февраля 1947] // Неделя. 1982. № 6. 8–14 февраля; Бетин Л. В. Иконостас Благовещенского собора и московская иконопись начала XV в. // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. 2. М., 1982:31–44; Щенникова Л. А. О происхождении древнего иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля // Советское искусствознание. 1981. Вып. 2 (15). М., 1982:81–129; Анисимов А. И. Научная реставрация и рублевский вопрос: Речь при вступлении в должность профессора Ярославского университета в 1919 году // Анисимов А. И. О древнерусском искусстве: Сб. ст. / Сост. Г. И. Вздорнов. М., 1983:105–134. Комментарии [Г. И. Вздорнова]: 408–409, 409–416, № 1–51; Маркина Н. Д. Две иконы «Богоматерь Владимирская» начала XV в.: К вопросу об изменении иконографии древнего оригинала // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины: Материалы юбилейной научной конференции [8–10 сентября 1980 г. в Москве]) / Под ред. Б. А. Рыбакова. М., 1983:169–177; Щенникова Л. А. К вопросу о происхождении древнего иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины: Материалы юбилейной научной конференции [8–10 сентября 1980 г. в Москве]) / Под ред. Б. А. Рыбакова. М., 1983:183–194; Балыгина Л. П., Некрасов А. П., Филатов В. В. Исследование стенной живописи в Успенском соборе г. Владимира // [Сообщения ВНИИР.] Художественное наследие: Хранение, исследование, реставрация. 9 (39). М., 1984: 34–41; Гусева Э. К. Иконы «Донская» и «Владимирская» в копиях конца XIV – начала XV в. // [Древнерусское искусство: Сб. ст. Т. 13:] Древнерусское искусство XIV–XV вв. М., 1984:50–58; Осташенко Е. Я. Пространственные решения в некоторых памятниках московской живописи как отражение развития стиля в конце XIV – первой трети XV в. // [Древнерусское искусство: Сб. ст. Т. 13:] Древнерусское искусство XIV–XV вв. М., 1984:59–76; Салтыков А. А. Иконография «Троицы» Андрея Рублева // [Древнерусское искусство: Сб. ст. Т. 13:] Древнерусское искусство XIV–XV вв. М., 1984:77–85; Смирнова Э. Иконы праздничного ряда из иконостаса Успенского собора во Владимире // Зограф. 1985. № 16:55–65; Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи: XIX век. М., 1986:17, 41, 50–51, 53–54, 64–65, 76, 77, 146–149, 199, 201–202, 284, примеч. 50–51, 286, примеч. 7, 317–318, примеч. 114–125; Голейзовский Н. К., Дергачев В. В. Новые данные об иконостасе 1481 года из Успенского собора Московского Кремля // Советское искусствознание. Вып. 20. М., 1986:445–470; Щенникова Л. А. К вопросу об атрибуции праздников из иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле // Советское искусствознание. Вып. 21. М., 1986:64–97; Комеч А. И., Попов Г. В. Задачи научной реставрации и итоги реставрации росписи Андрея Рублева во Владимире // Проблемы реставрации памятников монументальной живописи: Сб. научных трудов. М., 1987:19–30; Лелекова О. В., Наумова М. М. Состояние и проблема реставрации росписей 1408 г. в Успенском соборе Владимира // Проблемы реставрации памятников монументальной живописи: Сб. научных трудов. М., 1987:65–86; Малков Ю. Г. К изучению «Троицы» Андрея Рублева // Музей 8. М., 1987:238–258; Плугин В. А. О происхождении «Троицы» Рублева // История СССР. 1987. № 2:64–79; Смирнова Э. С. Московская икона XIV–XVII веков. Л., 1988:13–14, 17, 19–27, 29–30, 33. Аннотации к репродукциям: 262–263, репр. 12–27, 271, репр. 62, 63, 271–272, репр. 64, 65, 274–276, репр. 78–84, 276–282, репр. 87–110, 283–284, репр. 116, 118, 286–287, репр. 130; Щенникова Л. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля и творчество Андрея Рублева // Зограф. 1988. № 19:63–72; Щенникова Л. А. Иконографические особенности праздничного ряда из Благовещенского собора Московского Кремля // [Сообщения ВНИИР.] Художественное наследие: Хранение, исследование, реставрация. 13. М., 1990:57–126; Щенникова Л. А. Станковая живопись // Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский собор Московского Кремля: К 500-летию уникального памятника русской культуры. М., 1990:45–47, 48, 50–51, 56–59, 77, примеч. 96–112;
[1991–2000] Византия. Балканы. Русь: Иконы конца XIII – первой половины XV века: Каталог выставки [к XVIII Международному конгрессу византинистов в Москве 8–15 августа 1991 г.]. ГТГ. Август–сентябрь 1991 г. М., 1991:247–251, 258, 264; Плугин В. О тайнах древних икон: Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля // Наука и религия. 1991. № 8:3–35; Плугин В. «Чудо в Галиче» и Андрей Рублев // Наука и религия. 1991. № 1:32–35; Попов Г. В. Андрей Рублев: Явление мастера: О творчестве художника около 1400 г. // Человек. 1992. № 2:119–132; Плугин В. А. Андрей Рублев и Ростовский край // Проблемы истории и культуры. [Сб. ст. памяти Ф. И. Буслаева.] Ростов, 1993:157–166; Кочетков И. А. «Спас в силах»: развитие иконографии и смысл // Искусство Древней Руси: Проблемы иконографии. [Сб. ст.] / Ред.-сост. А. В. Рындина, А. Л. Баталов. М., 1994:47–48, 57–61, 63–68; Брюсова В. Г. Андрей Рублев. М., 1995; Попов Г. В. Инициалы Евангелия Хитрово и их место в московском искусстве рубежа XIV–XV веков // История и теория мировой художественной культуры. Вып. 2: Образ человека в литературе и искусстве. М., 1995:39–71; Филатов В. В. Описание фресок собора Успения на Городке в Звенигороде: Новые открытия // Древнерусское искусство. [Сб. ст. Т. 16:] Балканы. Русь. СПб., 1995:379–409; Барановский П. Д. О времени и месте погребения Андрея Рублева: Доклад П. Д. Барановского на объединенном заседании сектора архитектуры и сектора живописи Института истории искусств АН СССР, 11 февраля 1947. [Стенограмма] // Петр Барановский: Труды, воспоминания современников / Сост.: Ю. А. Бычков, О. П. Барановская, В. А. Десятников, А. М. Пономарев. М., 1996:17–37; Манушина Т. Н. Художественные коллекции древнерусского искусства (XIV–XV вв.) [в Троице-Сергиевой лавре] // Балдин В. И., Манушина Т. Н. Троице-Сергиева лавра: Архитектурный ансамбль и художественные коллекции древнерусского искусства XIV–XVII вв. М., 1996:244, 247–248, 250, 263, 268, 270–271, 288, 478, 486, 494, 525, 527–529, 535; Меняйло В. Иконы «Рублева письма» в Иосифо-Волоколамском монастыре // Альфа и омега. 1996. № 4 (11):231–239; Голейзовский Н. К. Загадки Благовещенского собора: Новое в российской истории // ВИ. 1998. № 6:104–117; Гусева Э. К. Царские врата круга Андрея Рублева // Древнерусское искусство: [Сб. ст. Т. 18:] Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998:295–311; Кавельмахер В. В. Заметки о происхождении «Звенигородского чина» // Древнерусское искусство: [Сб. ст. Т. 18:] Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998:196–216; Клосс Б. М. Избранные труды: [В 3 т.:] Т. 1: Житие Сергия Радонежского. М., 1998:10, 69–70, 73–88, 101, примеч. 12, 130, 136, 168, 207, 219, 235; Маркелов Г. В. Святые Древней Руси: Материалы по иконографии: прориси и переводы, иконописные подлинники: В 2 т. СПб., 1998. Т. 1: Святые Древней Руси в прорисях и переводах с икон XV–XIX веков: Атлас изображений: 616–617, № 169. Т. 2: Святые Древней Руси в иконописных подлинниках XVII–XIX веков: Свод описаний: 50, № 38, 93, № 145. Прил.: № 51–54; Пятницкий Ю. Был ли Андрей Рублев на Афоне? // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: Международная конференция. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Троице-Сергиева лавра. Московская духовная академия и семинария. 29 сентября – 1 октября 1998, Сергиев Посад: Тезисы докладов. Сергиев Посад, 1998:59–61; Филатов В. В. К истолкованию фресок на восточных столпах Успенского собора в Звенигороде // Древнерусское искусство: [Сб. ст. Т. 18:] Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998:185–195; Дудочкин Б. Н. Андрей Рублев. Материалы к изучению биографии и творчества. М., 2000. Изд. 2-е, испр. и доп.: То же // Труды ЦМиАР. 2. М., 2002; Попов Г. В. Московские художники в Дмитровском уезде первой трети XV века // Florilegium: К 60-летию Б. Н. Флори. [Сб. ст. / Сост. А. А. Турилов.] М., 2000:277–278, 281, 282–283, 284, 285–288;
[2001–02] Плугин В. А. Мастер «Святой Троицы»: труды и дни Андрея Рублева. М., 2001; Щенникова Л. А. Две иконы-наместницы чудотворного «Владимирского» образа Богоматери в Успенском соборе Московского Кремля // Церковные древности: Сборник докладов конференции. VIII Рождественские образовательные чтения. (27 января 2000 г.) / Сост.: С. А. Беляев, Н. А. Ваганова. М., 2001:183–192, 204–208; Щенникова Л. А. Икона-список «Богоматерь Владимирская» из Успенского собора города Владимира // Искусство христианского мира: Сб. ст. [Факультета церковных художеств Православного свято-Тихоновского богословского института]. Вып. 5. М., 2001:67–84; Попов Г. В. Андрей Рублев. М., 2002.
Б. Н. Дудочкин.