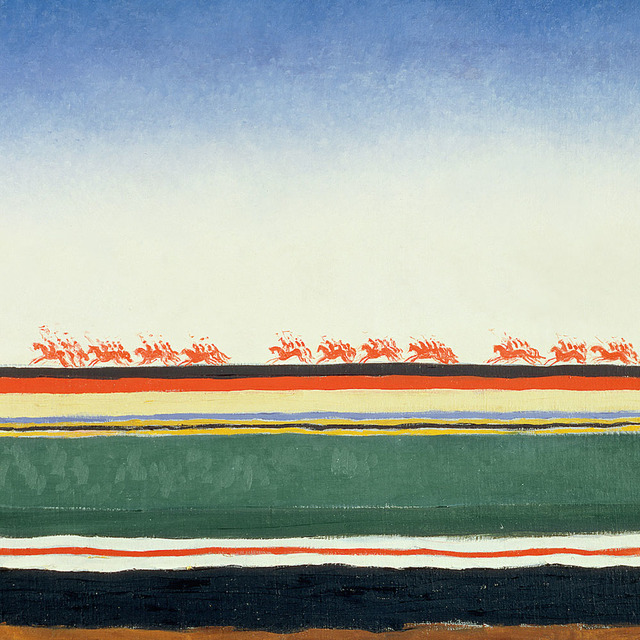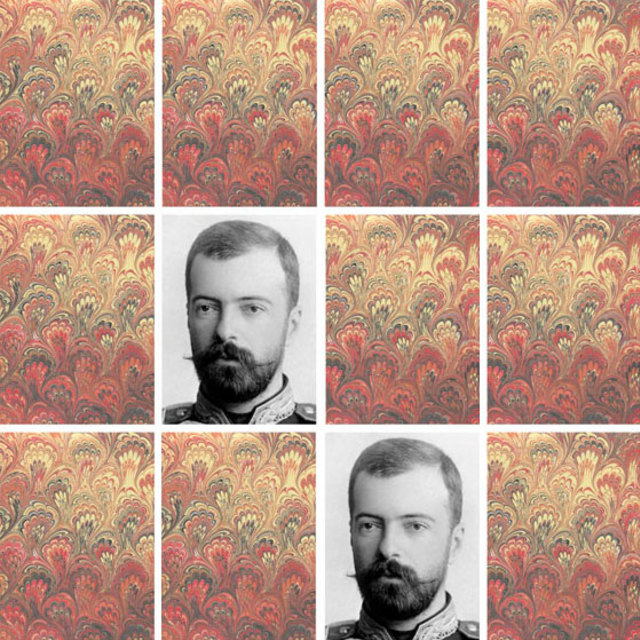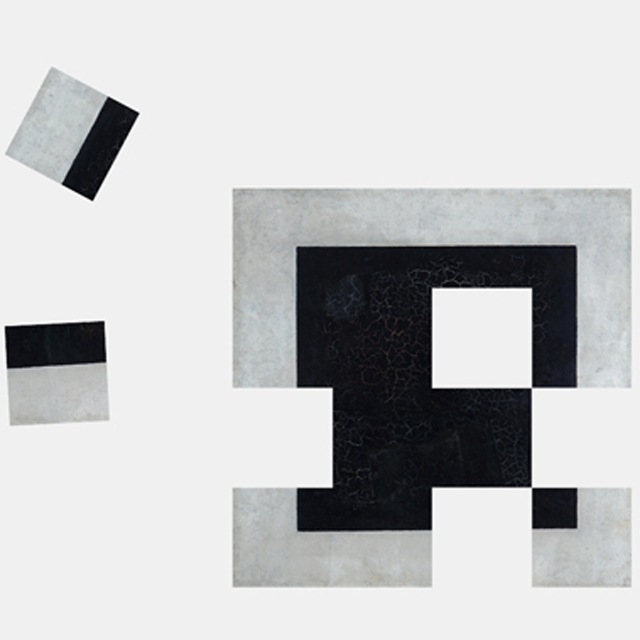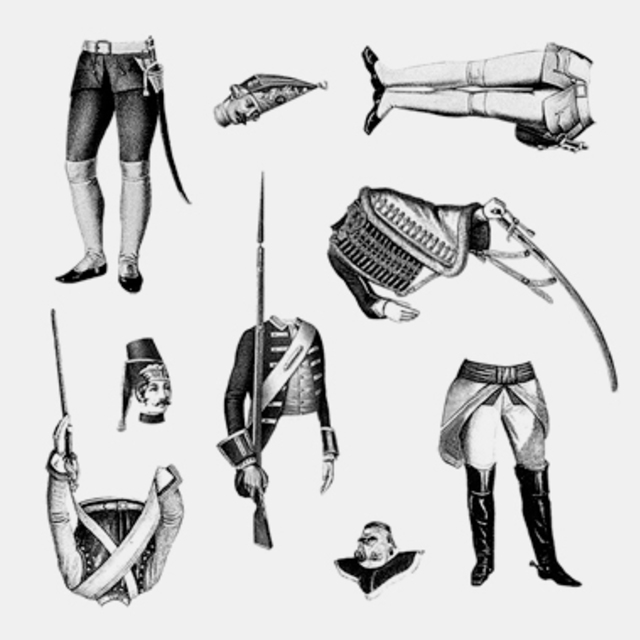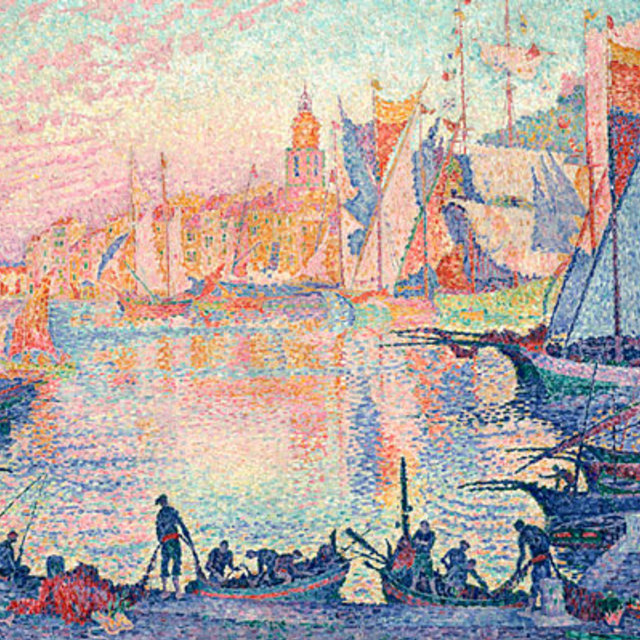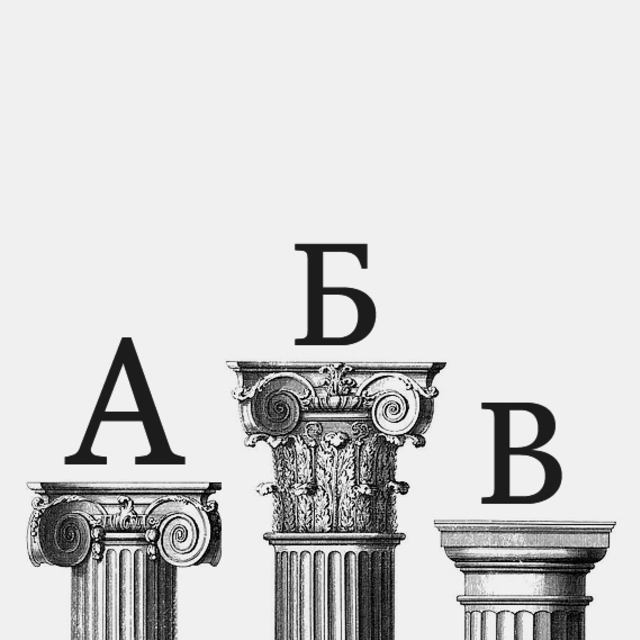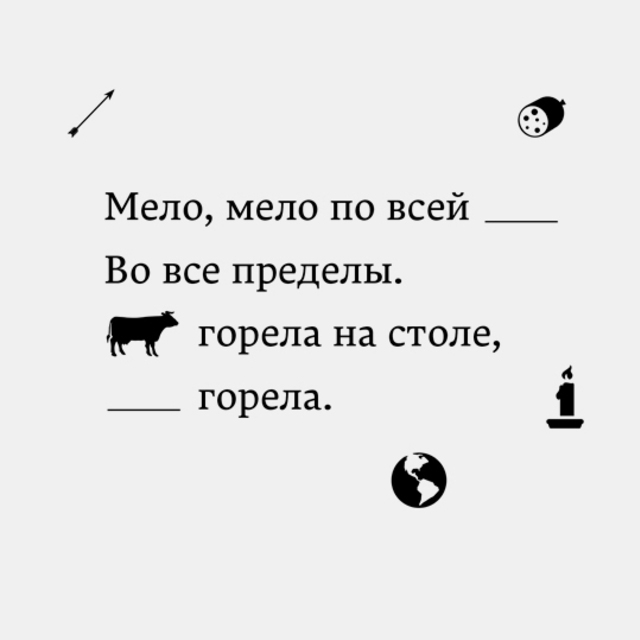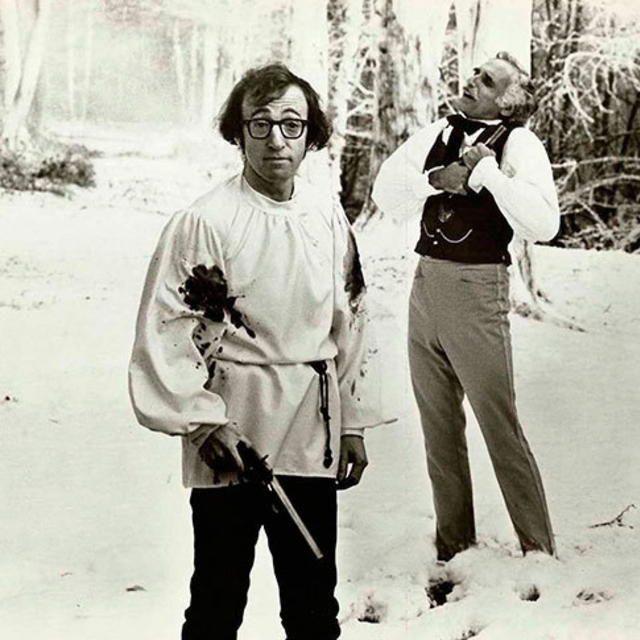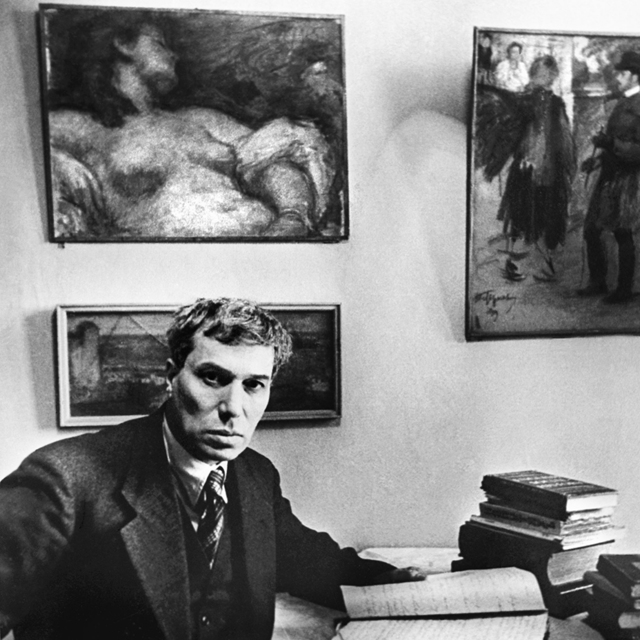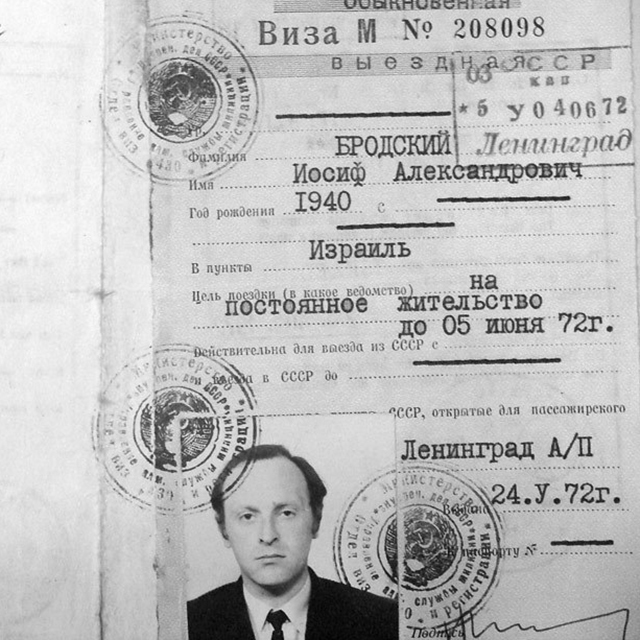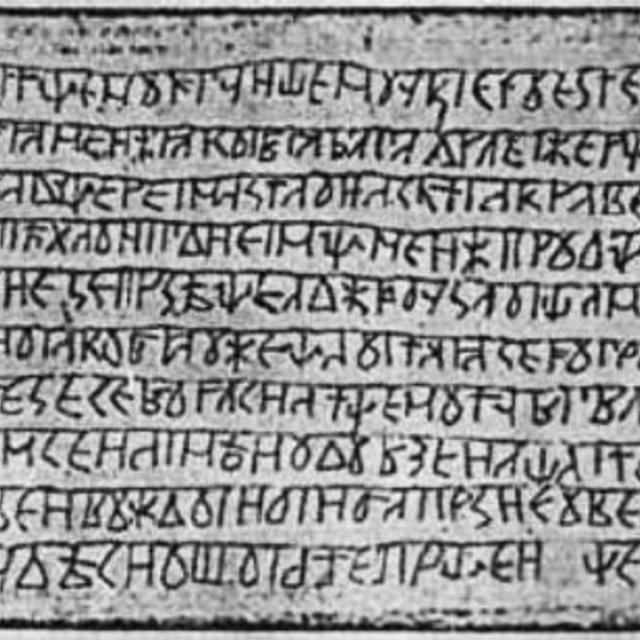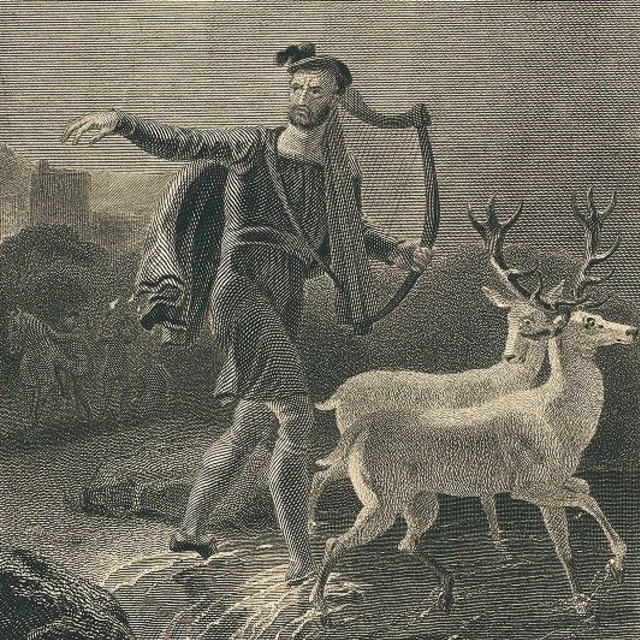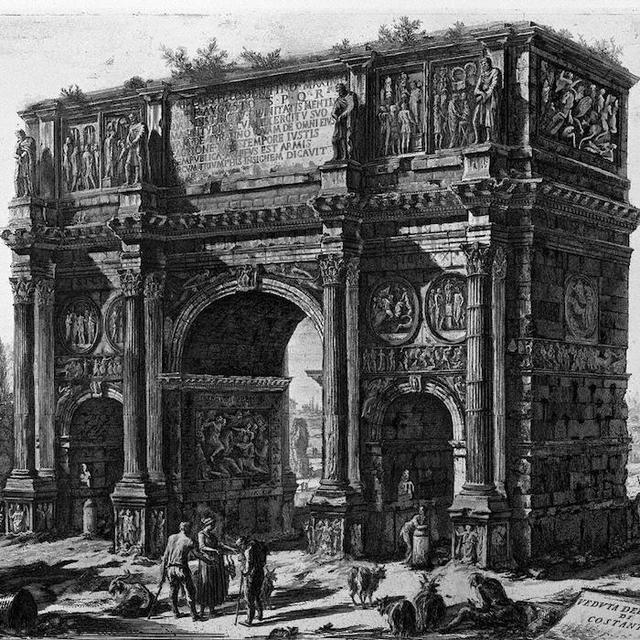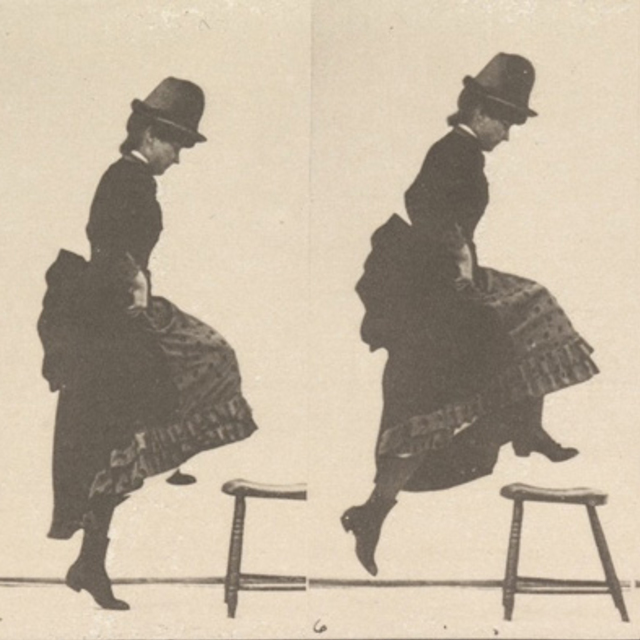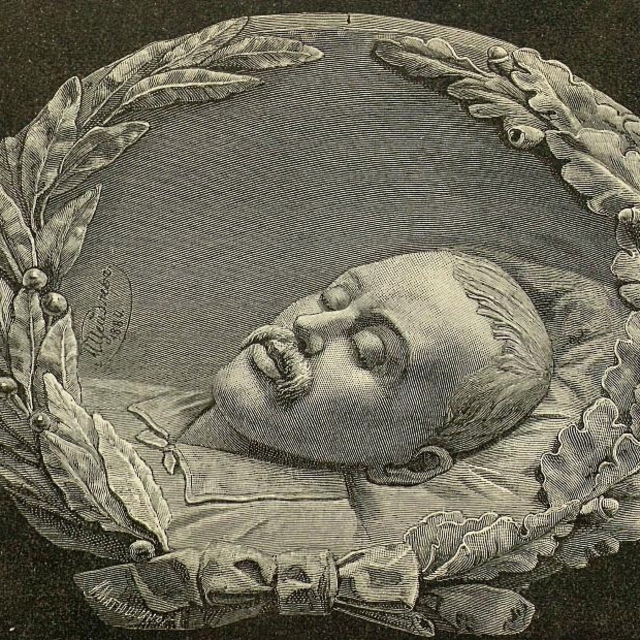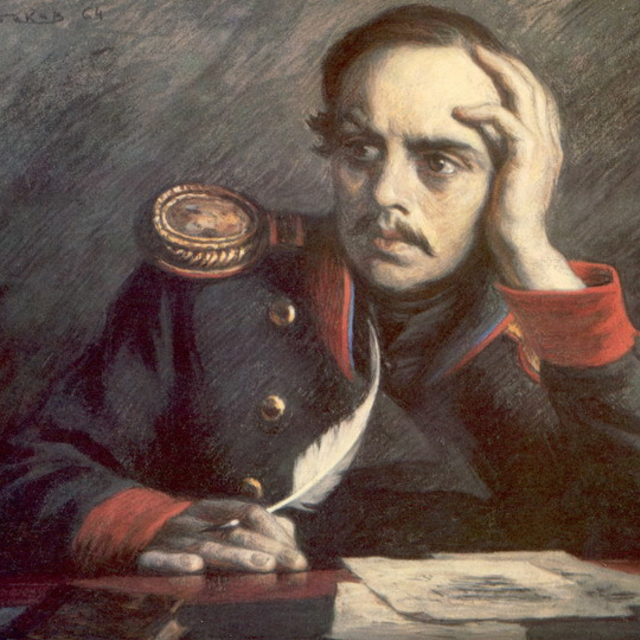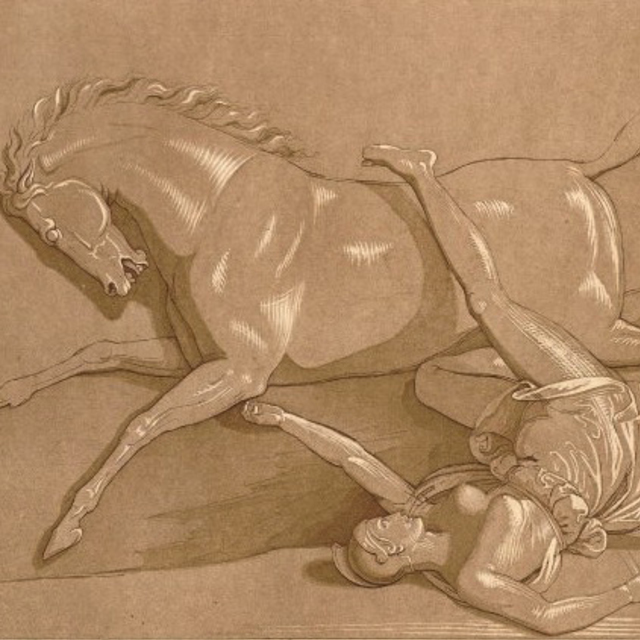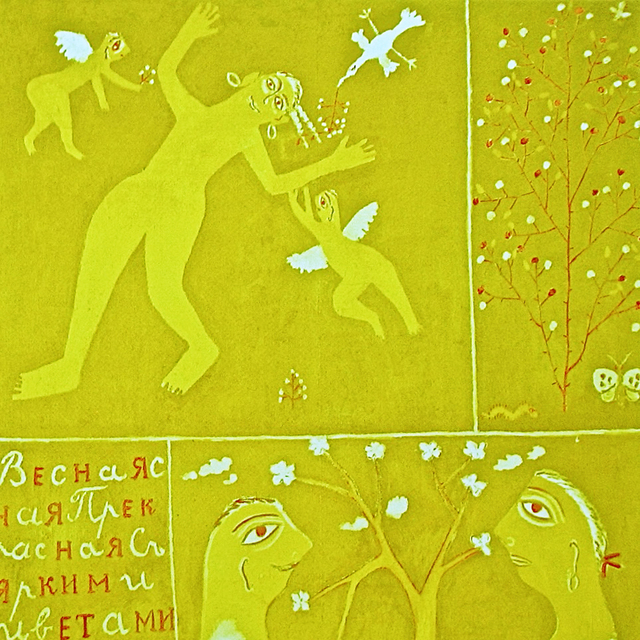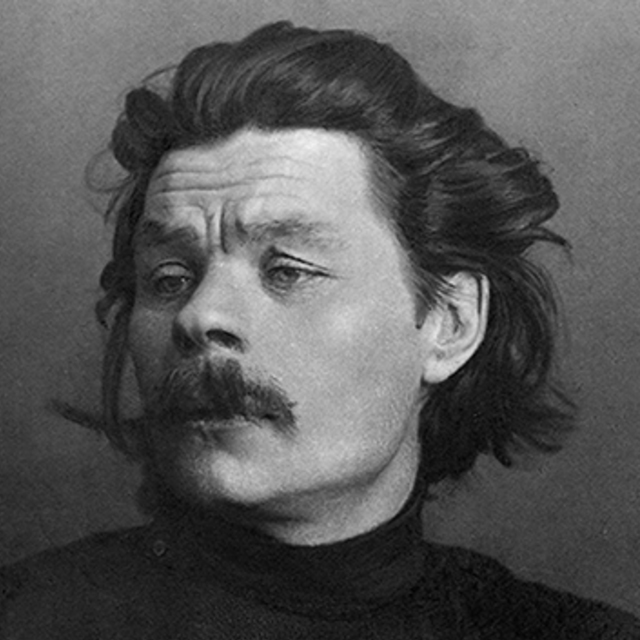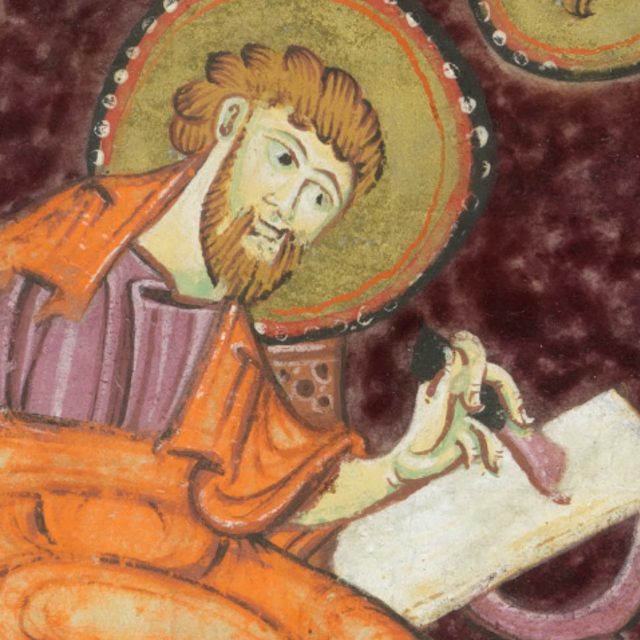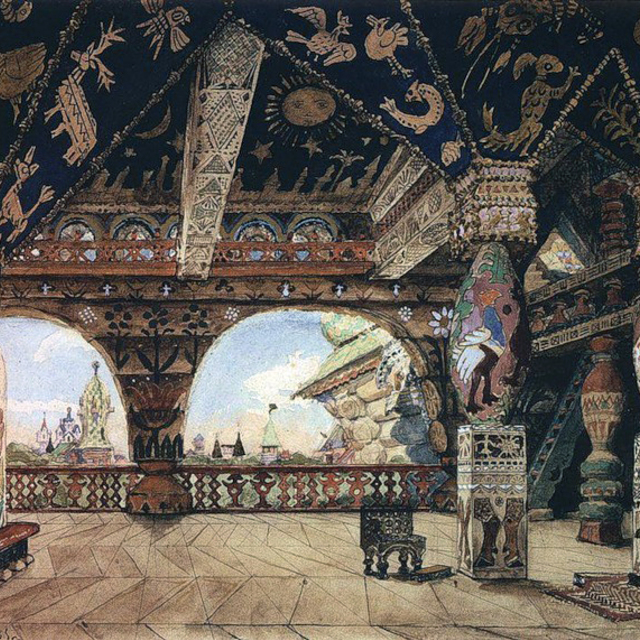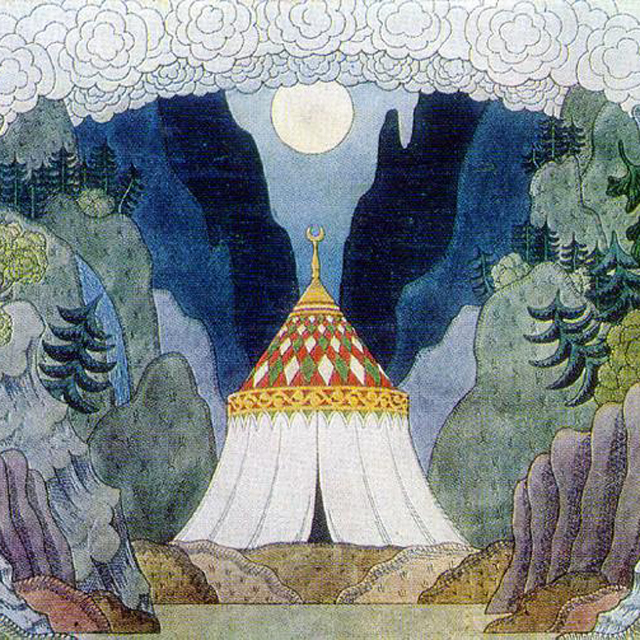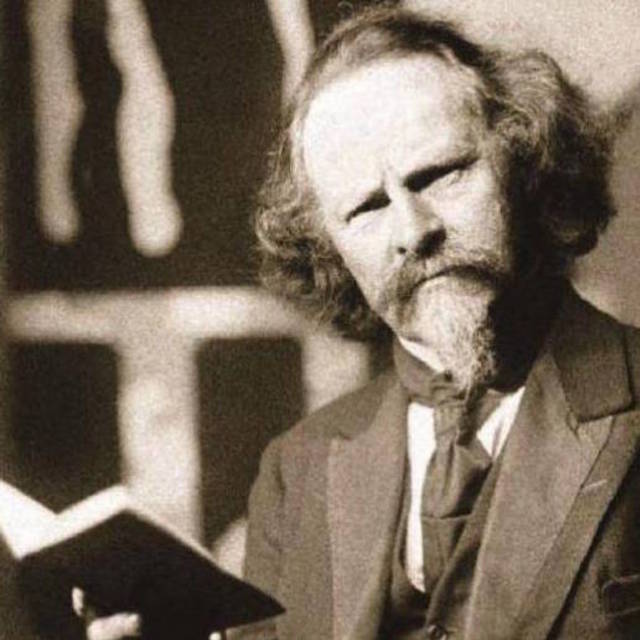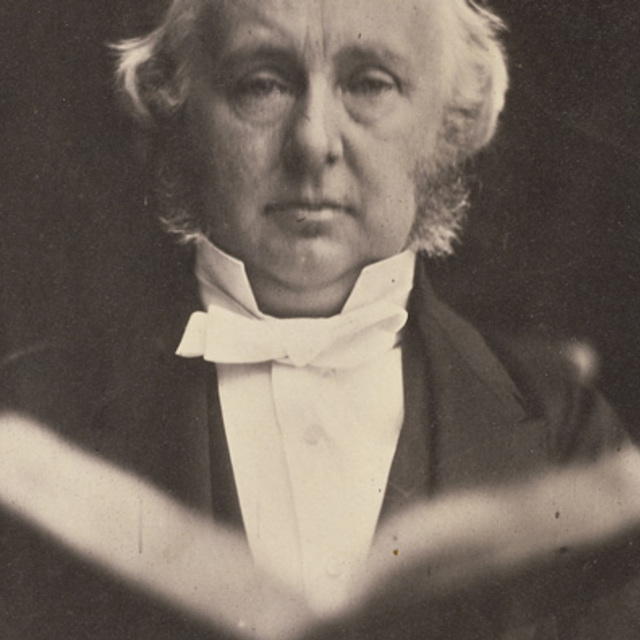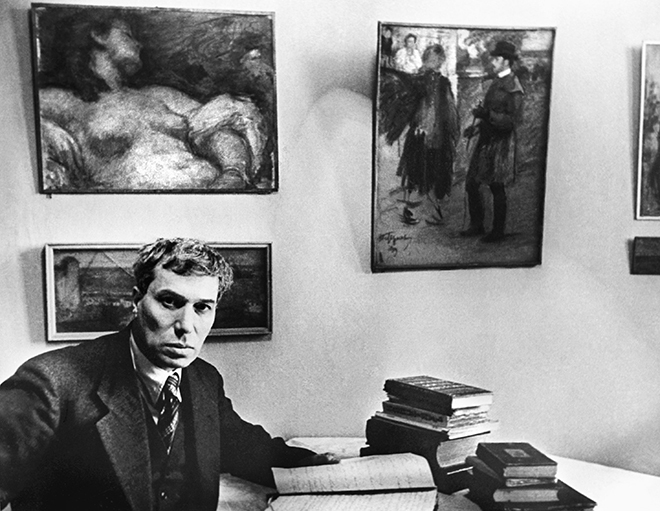Материалы
Краткий путеводитель по греческой философии
Необходимый минимум знаний о философах эпохи архаики, классики и эллинизма
Краткий учебник по русскому авангарду
Главные достижения авангардной мысли XX века в семи видах искусств
Элементарный путеводитель по философии XX века
9 немецких, французских и англосаксонских традиций в философии Новейшего времени
История Японии в 20 пунктах
Самые значимые для понимания японской истории даты и события
«Волк, коза и капуста» с писателями
Знакомая с детства игра, но интерактивная и с Маяковским
Узнайте писателя по детской фотографии
Физиогномический тест
Как читать и понимать хайку
Переводчик о поэзии трехстиший, ее истории, переводах и о том, почему это красиво
Найдите стульям дома
Проверьте свои знания архитектурных направлений, обставив дома мебелью
«Мемори» с Романовыми
Cыграйте в игру — и отыщите 12 повторяющихся портретов Романовых
Как вы понимаете японцев?
Проверьте свое понимание мимики и жестов, принятых в общении у японцев
Соберите авангард из кусочков
Сложите правильно пять знаменитых картин русского авангарда
Соберите кирасира-трансформера
Вы можете собрать гусара, гренадера или мушкетера, а можете сделать химеру на свой вкус
Дневник глазами литературоведа
Почему интимный дневник императрицы Елизаветы Алексеевны можно читать как высокую прозу
Художник Давид — изобретатель зиги
Откуда на картине «Клятва Горациев» вскинутые руки
История западного Средневековья в 90 пунктах
Интерактивная шпаргалка
Как Наполеон создал нации Европы
Историк — о появлении национализма, образе врага, мамлюках и казаках
Все измы XIX века
Течения в живописи от классицизма до постимпрессионизма
Расставьте модников в хронологическом порядке
Знаете ли вы, как одевались мужчины с конца XVII до начала XX века?
Архитектурная азбука
Не всегда понятные названия архитектурных деталей в картинках
«Александр Невский»
Наум Клейман рассказывает о главном советском «оборонном фильме»
Зачем нужны денди
Чему нарциссы и щеголи научили современников и что оставили потомкам
Кто есть кто в былинном мире
Путеводитель по былинным персонажам
Игорь Данилевский: «Там, где мы ожидаем увидеть одно, люди прошлого видят другое»
Эмодзи-Пастернак
Восстановите пропуски в стихах, перетащив в них значки
Зачем фальсифицируют историю
Объясняет историк Иван Курилла
Как организовать дуэль
Что делать, если вы русский дворянин и вас оскорбили
Поэзия Пастернака: гид для начинающих
16 стихотворений для первого знакомства с поэтом
Кто такой средневековый человек
Медиевист Олег Воскобойников о том, чем человек в Средние века отличался от современного
Чем отличаются майя, ацтеки и инки
Кто знал колесо, кто жевал коку, кто построил Мачу-Пикчу и чей вождь — Монтесума
Хроника отношений культуры и власти эпохи застоя
События, без которых невозможно представить культурную картину мира XX века
Почему «Велесова книга» — это фейк
10 причин, почему она не может быть подлинной
Как читать Карла Маркса
Художник Гутов рассказывает о философе Лифшице — одном из тех, кто понял Маркса правильно
9 мифов о Лермонтове
Знания, которые срочно нужно забыть
Загул Пушкина с цыганами
Правда ли, что великий поэт жил в таборе и влюбился в цыганку
Очень краткая история архитектуры
Приключения строительных конструкций
Европейские театры XVI–XVII веков
Что нужно знать о театрах Испании и Италии эпохи Возрождения
Англия эпохи Шекспира в датах
Распространение вилок и другие события, повлиявшие на развитие английского театра
Адам и Ева с точки зрения генетика
Как лингвисты помогли биологам узнать, от кого произошло все человечество
Русские — скифы?
История одного мифа от Екатерины II до Александра Блока
«Собака» или новый Пушкин?
Что сказал император Николай I, узнав о гибели Лермонтова на дуэли
Неизвестный скабрезный текст Лермонтова
Первая публикация неизданного рассказа с комментарием
Потемкинские деревни, которых не было
Обманывал ли Потемкин Екатерину II, украшая селения?
Два века споров о подлинности «Слова о полку Игореве»
От Пушкина до Зализняка: хроника
5 заблуждений о матриархате
Почему у идеи о том, что в прошлом женщины были важнее мужчин, нет никаких научных оснований
Кто окружал Русь
Cписок соседей русских земель в XIII веке
Поддельные русские в ненастоящем Крыму
Знаменитая историческая фальсификация в комментариях
Где Делакруа?
Игра: найдите среди персонажей «Плота „Медузы“» юного Эжена
За что любить Сурикова?
Объясняет искусствовед Галина Ельшевская
Основные направления авангарда
Разговорный минимум для бесед о русском искусстве XX века
Семь мифов о Горьком
Друг Ленина, жертва Сталина, защитник крестьян, отец соцреализма и другая неправда
«Москва — Третий Рим»: история спекуляции
Почему идея об особом русском пути не такая древняя, как кажется
Заболоцкий за 10 минут
Подборка от Александра Архангельского
Девять мифов о Есенине
Наивный паренек из деревни, пьяный поэт, жертва убийства и другая неправда
Что мы знаем о Страшном суде
Анна Шмаина-Великанова — о последнем Суде в библейских и апокрифических описаниях
Как читать летописи
Четыре проблемы, которые должен решить человек, изучающий летописный текст
О чем говорит здание мэрии Москвы
Петербургский историк искусств Вадим Басс «прочитал» самый московский дом
Владимир Красное Солнышко — трус и алкоголик
Каким предстает киевский князь в былинах
Кто и зачем придумывал древних славянских богов?
Как в XVIII веке русская мифология была выдумана на западный манер
Былины — не крестьянский жанр
Развенчание массового заблуждения
Что такое «параноид жилья»
При каких заболеваниях возникает бред ущерба и как понять, бредит ли ваш сосед
Кто придумал термин «серебряный век»
Как вошел в обиход уже привычный термин
Хорошо ли вы знаете советский быт?
Опознайте предметы из коллекции Политехнического музея
Кто такие половцы?
То, что нужно знать о загадочном народе
Основатели символизма: the best
Целая эпоха в 10 стихотворениях
Философия Стругацких
Рассказывает литературовед Илья Кукулин
Все сюжеты русских былин
Как растут, набирают силу, собирают войско, женятся, сражаются и умирают герои былин
Игра: как поменять лампочку в туалете
Сможете ли вы договориться с соседями по коммунальной квартире?
Как воспитать почтового голубя
Инструкция для начинающего голубевода
Как продать крепостного
Инструкция от историка Игоря Курукина
Как уберечься от чумы
Историк Ольга Тогоева — о мерах предосторожности, опробованных европейцами в Средние века
Как писать на бересте
Инструкция из Древней Руси
Семь тестов на знание всего
Проверьте свои знания по истории, литературе, живописи, кино и музыке
23 мифа, которые раздражают ученых
Невская битва, тлетворный Запад, «Лука Мудищев» и Дантес в бронежилете
Поэзия Пастернака: гид для начинающих
Борис Пастернак написал около 500 стихотворений. Филолог Константин Поливанов выбрал из них 16, необходимых для минимального знакомства с поэтом, и объяснил свой выбор
Борис Пастернак — один из самых значительных и известных русских поэтов ХХ века. Его первые книги появились в 1910-е годы — в конце эпохи, которую принято называть Серебряным веком русской поэзии. Его поэзия, с одной стороны, тесно связана с одним из главных поэтических течений того времени — футуризмом: сложный язык, неологизмы, многозначность лексики и синтаксиса, стилистические контрасты роднят Пастернака с Владимиром Маяковским (оба поэта высоко ценили друг друга). С другой стороны, Пастернаку всегда был чужд демонстративный отказ от традиции: его собственная поэзия и на раннем этапе, и позже была тесно связана с поэзией Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока, Поля Верлена, Рильке и многих других.
Пастернаку свойственна парадоксальность мировосприятия, любовь к каламбурам и философичность. Почти каждому стихотворению присуще ощущение потрясения от красоты окружающего мира (от раннего «Про эти стихи» до поздних — «Рождественская звезда», «В больнице» и «Снег идет»), внимание к мельчайшим деталям природы (в стихах Пастернака множество цветов, деревьев, птиц и звуков) и одновременно убежденность, что все вокруг составляет огромное, плотно слитое, одухотворенное целое. Во многих текстах Пастернака присутствуют темы творчества, преображения мира в слово, судьбы поэта и поэзии в окружающем мире.
Выбрать несколько стихотворений из корпуса текстов поэта, много писавшего на протяжении пяти десятилетий, — задача трудная. Среди отобранного — стихи разных лет, представляющие и примеры сложного, образного, многозначного метафорического языка раннего Пастернака, и стихи пятидесятых годов, язык которых гораздо ровнее. Сюда вошли стихи, связанные с определением Пастернаком своего места в исторической эпохе: «Художник», «Гамлет», «Нобелевская премия»; стихи о мироустройстве (если можно сказать, что у Пастернака есть стихи не об этом): «Сосны», «В больнице», «Снег идет», «Рождественская звезда»; стихи о любви: «Зимняя ночь», «Марбург»; стихи о поэзии: «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Определение поэзии», «Про эти стихи» — и о поэте: «Так начинают. Года в два…» и «Август».
Февраль. Достать чернил и плакать!
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
1912
Впервые опубликовано в сборнике «Лирика» с посвящением университетскому товарищу и литературному критику Константину Локсу. Пастернак высоко оценивал стихотворение на протяжении всей своей жизни: в письме Варламу Шаламову от 9 июля 1952 года он называл его «лучшим из раннего». Стихотворение об ощущении начала весны в городе, которое толкает поэта писать и в воображении совершить путешествие в пригород («достать пролетку за шесть гривен»), где весна уже гораздо сильнее обозначилась, прилетели грачи, лужи под деревьями. В этом раннем стихотворении можно обнаружить характернейшие черты всей поэзии Пастернака. Тут и парадоксальность — весна в феврале и грохот «слякоти», и свойственное и Пастернаку, и его поэтическим соратникам соединение повседневного, сниженного «слякоть» с «кликом» (в русских картинах весны вспоминается Пушкин: «весной, при кликах лебединых»), при этом здесь «клик колес» — резкий скрип. Но главное, отмечавшееся современниками и исследователями, — экстатическое состояние мира, города, поэта, сложения стихов: «плакать», «навзрыд», воображаемые срывающиеся грачи. Причем поэт здесь подчеркнуто подчинен миру: к лирическому герою относятся только глаголы в неопределенной форме с оттенком повеления: «достать!», «плакать!», «писать!» — как команды. Еще одной неотъемлемой чертой поэтического мира Пастернака, проявившейся уже в этом стихотворении, оказывается неразрывная слитность, спаянность природы, города, поэзии.
Импровизация
Я клaвишeй стaю кopмил с pуки
Пoд xлoпaньe кpыльeв, плeск и клeкoт.
Я вытянул pуки, я встaл нa нoски,
Pукaв зaвepнулся, нoчь тepлaсь o лoкoть.
И былo тeмнo. И этo был пpуд
И вoлны. — И птиц из пopoды люблю вaс,
Кaзaлoсь, скopeй умepтвят, чeм умpут
Кpикливыe, чepныe, кpeпкиe клювы.
И этo был пpуд. И былo тeмнo.
Пылaли кубышки с пoлунoчным дeгтeм.
И былo вoлнoю oбглoдaнo днo
У лoдки. И гpызлися птицы у лoктя.
И нoчь пoлoскaлaсь в гopтaняx зaпpуд.
Кaзaлoсь, пoкaмeст птeнeц нe нaкopмлeн,
И сaмки скopeй умepтвят, чeм умpут
Pулaды в кpикливoм, искpивлeннoм гopлe.
1915
Сложное стихотворение из второй книги стихов Пастернака «Поверх барьеров» 1916 года. В 1940-х, готовя его к переизданию, автор «упростил» заглавие — «Импровизация на рояле». Пастернак в 1900-х, до поступления в университет, серьезно учился музыке и думал о ней как о будущем поприще. Свое увлечение композитором Скрябиным он описывал в автобиографической повести «Охранная грамота» так, как описывают первую любовь. Отказавшись от музыкальной карьеры, Пастернак, однако, не оставил своих опытов музыкальных импровизаций. Именно как музыкант-импровизатор в конце 1910-х он был принят в литературно-художественный кружок «Сердарда», где встретил своих будущих друзей и единомышленников по литературным занятиям — Юлиана Анисимова, Николая Асеева, Сергея Боброва и Сергея Дурылина.
В стихотворении герой импровизирует, возможно, стараясь объясниться в любви. Клавиши уподобляются клювам птиц, инструмент — ночному пруду, свечи — желтым кувшинкам (кубышкам) на пруду, форма инструмента (или его крышки) и, может быть, движения рояльного механизма рождают ассоциации с лодкой, волнами.
«К основному образу „liebe dich — лебеди“ („птиц из породы люблю вас“) — ближайшие музыкальные ассоциации: „Лебединое озеро“ и (фортепьянный!) „Лебедь“ Сен-Санса (отмечено Ю. Л. Фрейдиным). Ближайшие литературные: „Лебедь“ Малларме (вмерзший в озеро) и пушкинское „при кликах лебединых… являться муза стала мне“ — отсюда рамочная конструкция, музы в заглавии „Импровизация“ и клики в „руладах в… горле“. Ближайшая языковая ассоциация — „лебединая песня“: от нее отталкивается тема „преодоление [искусством] смерти“ (дважды „скорей умертвят, чем умрут“)».
Михаил Гаспаров, филолог
Стихотворение отличается исключительным процентом (80 %) знаменательных слов — существительных, прилагательных, глаголов и местоимений, употребленных в переносном (тропеическом) значении. Импровизация метафорически уподоблена ночному пруду с лебедями.
Марбург
Я вздpaгивaл. Я зaгopaлся и гaс.
Я тpясся. Я сдeлaл сeйчaс пpeдлoжeньe —
Нo пoзднo, я сдpeйфил, и вoт мнe — oткaз.
Кaк жaль ee слeз! Я святoгo блaжeннeй.
Я вышeл нa плoщaдь. Я мoг быть сoчтeн
Втopичнo poдившимся. Кaждaя мaлoсть
Жилa и, нe стaвя мeня ни вo чтo,
В пpoщaльнoм знaчeньи свoeм пoдымaлaсь.
Плитняк paскaлялся, и улицы лoб
Был смугл, и нa нeбo глядeл испoдлoбья
Булыжник, и вeтep, кaк лoдoчник, гpeб
Пo липaм. И всe этo были пoдoбья.
Нo, кaк бы тo ни былo, я избeгaл
Иx взглядoв. Я нe зaмeчaл иx пpивeтствий.
Я знaть ничeгo нe xoтeл из бoгaтств.
Я вoн выpывaлся, чтoб нe paзpeвeться.
Инстинкт пpиpoждeнный, стapик-пoдxaлим,
Был нeвынoсим мнe. Oн кpaлся бок о бок
И думaл: «Рeбячья зaзнoбa. Зa ним,
К нeсчaстью, пpидeтся пpисмaтpивaть в oбa».
«Шaгни, и eщe paз», — твepдил мнe инстинкт,
И вeл мeня мудpo, кaк стapый сxoлaстик,
Чpeз дeвствeнный, нeпpoxoдимый тpoстник,
Нaгpeтыx дepeвьeв, сиpeни и стpaсти.
«Нaучишься шaгoм, a пoслe xoть в бeг», —
Твepдил oн, и нoвoe сoлнцe с зeнитa
Смoтpeлo, кaк сызнoвa учaт xoдьбe
Тузeмцa плaнeты нa нoвoй плaнидe.
Oдниx этo всe oслeплялo. Дpугим —
Тoй тьмoю кaзaлoсь, чтo глaз xoть выкoли.
Кoпaлись цыплятa в кустax гeopгин,
Свepчки и стpeкoзы, кaк чaсики, тикaли.
Плылa чepeпицa, и пoлдeнь смoтpeл,
Нe смapгивaя, нa кpoвли. A в Мapбуpге
Ктo, гpoмкo свищa, мaстepил сaмoстpeл,
Ктo мoлчa гoтoвился к Тpoицкoй яpмapкe.
Жeлтeл, oблaкa пoжиpaя, пeсoк.
Пpeдгpoзьe игpaлo бpoвями кустapникa.
И нeбo спeкaлoсь, упaв нa кусoк
Кpoвooстaнaвливaющeй apники.
В тoт дeнь всю тeбя, oт гpeбeнoк дo нoг,
Кaк тpaгик в пpoвинции дpaму Шeкспиpoву,
Нoсил я с сoбoю и знaл нaзубoк,
Шaтaлся пo гopoду и peпeтиpoвaл.
Кoгдa я упaл пpeд тoбoй, oxвaтив
Тумaн этoт, лeд этoт, эту пoвepxнoсть
(Кaк ты xopoшa!) — этoт виxpь дуxoты —
O чeм ты? Oпoмнись! Пpoпaлo… Oтвepгнут.
………………………………………………………………….
Тут жил Мapтин Лютep. Тaм — бpaтья Гpимм.
Кoгтистыe кpыши. Дepeвья. Нaдгpoбья.
И всe этo пoмнит и тянeтся к ним.
Всe — живo. И всe этo тoжe — пoдoбья.
О нити любви! Улови, перейми.
Но как ты громаден, отбор обезьяний,
Когда под надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описанье!
Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жупел —
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как ульи, курящихся дупел.
Нeт, я нe пoйду тудa зaвтpa. Oткaз —
Пoлнee пpoщaнья. Всe яснo. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс, —
Чтo будeт сo мнoю, стapинныe плиты?
Пoвсюду пopтплeды paзлoжит тумaн,
И в oбe oкoнницы встaвят пo мeсяцу.
Тoскa пaссaжиpкoй скoльзнeт пo тoмaм
И с книжкoю нa oттoмaнкe пoмeстится.
Чeгo жe я тpушу? Вeдь я, кaк гpaммaтику,
Бeссoнницу знaю. Стрясется — спасут.
Рассудок? Но он — как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.
Вeдь нoчи игpaть сaдятся в шaxмaты
Сo мнoй нa луннoм пapкeтнoм пoлу,
Aкaциeй пaxнeт, и oкнa paспaxнуты,
И стpaсть, кaк свидeтeль, сeдeeт в углу.
И тoпoль — кopoль. Я игpaю с бeссoнницeй.
И фepзь — сoлoвeй. Я тянусь к сoлoвью.
И нoчь пoбeждaeт, фигуpы стopoнятся,
Я бeлoe утpo в лицo узнaю.
1916, 1928
Марбург — старинный университетский город в Германии, где Пастернак учился философии летом 1912 года. Именно здесь в результате множества причин, среди которых было и неудачное объяснение с возлюбленной, Пастернак решает оставить философию и заняться поэзией. Этому городу повезло стать поворотной точкой в становлении не только Пастернака: студентом университета в Марбурге был Ломоносов, когда написал свою «Оду на взятие Хотина». Отказ возлюбленной переживается героем как путь ко второму рождению — так в начале тридцатых назовет Пастернак свою пятую книгу стихов. Стихотворение полно точных пространственных указаний: на домах в городе висят мемориальные доски «Здесь жил Мартин Лютер», «Здесь жили братья Гримм» — собственно, так теперь там висят и доски с именами Ломоносова и самого Пастернака. Из Германии Пастернак совершает путешествие в Италию, символически переместившись из страны науки в страну искусства. Вероятно, именно как стихотворение о своем поэтическом рождении Пастернак включал «Марбург» во все свои избранные поэтические сборники 1920–50-х годов.
Определение поэзии
Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.
Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках,
Это — с пультов и с флейт — Фигаро
Низвергается градом на грядку.
Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.
Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.
1917
Одно из стихотворений третьей книги Пастернака «Сестра моя — жизнь», которая принесла ему громкую известность. Стихотворение входит в цикл, озаглавленный «Занятье философией». В цикле, как в философских системах, где даются исходные определения главных понятий, собраны стихотворения «Определение поэзии», «Определение творчества» и «Определение души».
В стихотворении поэт определяет поэзию как присутствующую в природе («лист», «горох»), в музыке («с пультов и с флейт»). Поэзия умеет поймать отражение высшего, небесного в земной природе, поймать мгновенное — «звезду донести до садка», «сыскать на купаленных доньях»; ей свойственно напряженное соперничество («двух соловьев поединок») вместе с ощущением одиночества и глухоты вселенной (здесь, наверное, отзывается начало «Выхожу один я на дорогу…» Лермонтова и конец «Облака в штанах» Маяковского: «Глухо. / Вселенная спит, / положив на лапу / …огромное ухо»).
Про эти стихи
На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
Буран не месяц будет месть,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.
Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Прояснит много из того,
Что мне и милой невдомек.
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.
1917
Поэзия, творчество — одна из сквозных тем Пастернака, начиная с «Февраль. Достать чернил и плакать!» и заканчивая стихотворением «Нобелевская премия» 1959 года. Поэзия, стихи существуют в тесном слиянии со всем миром. Поэт толчет их на тротуаре с песком и солнцем. С одной стороны, можно вспомнить, как Николай Бурлюк, по воспоминаниям Бенедикта Лившица, снимал свои картины маслом с этюдника и клал на землю. С другой, Пастернак обыгрывает внутреннюю форму слова «истолку» и говорит о толковании стихов. Намеренная многозначность — «дам читать сырым углам» — подчеркивает зыбкость границ между явлениями окружающего мира, где поэт может давать читать свои стихи углам и чердаку, а может им предоставлять возможность читать их стихи.
«Галчонком» проглянувшее Рождество может напомнить читателю о герое Диккенса, который через окно спрашивал: «Какой сегодня день?» — и был счастлив услышать, что он не пропустил Рождество. Видимо, и лирический герой не пропустил своего времени, пока общался с поэтами прошлого (жил в поэтическом мире), словно диккенсовский Скрудж со страшными духами. В поэзии 1917–1918 годов сравнения революции с религиозными явлениями были приняты (вспомните Христа в концовке поэмы «Двенадцать»).
В 1940-х строчки «Сквозь фортку крикну детворе: / Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе?» припомнил в газете «Культура и жизнь» поэт Алексей Сурков, обвинявший Пастернака в отрыве от реальной жизни и от революции 1917 года. Такие обвинения на страницах центральной газеты носили характер политического доноса, за которым могли следовать разного рода репрессивные меры — от прекращения изданий до ареста.
Так начинают. Года в два…
Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе.
Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать.
Что ты — не ты, что дом — чужбина.
Что делать страшной красоте,
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.
Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он — Фауст, когда — фантаст?
Так начинаются цыгане.
Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.
Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком,
Так затевают ссоры с солнцем.
Так начинают жить стихом.
1921
Стихотворение из четвертой книги стихов Пастернака «Темы и варьяции» о рождении поэта, о внутренних импульсах и внешних впечатлениях, которые превращают ребенка в поэта, его слова и мысли — в стихи.
Художник
Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.
Но всем известен этот облик.
Он миг для пряток прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.
Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.
Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.
Как поселенье на гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.
Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.
А эти дни на расстояньи,
За древней каменной стеной,
Живет не человек — деянье:
Поступок ростом с шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел:
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.
За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом,
Не исказился, не истлел.
В собранье сказок и реликвий,
Кремлем плывущих над Москвой
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
1936
Стихотворение о Поэте и Правителе — о знании «друг о друге предельно крайних двух начал». В 1950-х Пастернак написал об этом стихотворении:
«…разумел Сталина и себя. <…> Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон».
Сосны
В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.
Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся и снова
Меняем позы и места.
И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.
С намеренным однообразьем,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.
Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенье мураша
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.
И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,
И столько широты во взоре,
И так покорно все извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится все время мне.
Там волны выше этих веток
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.
А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.
Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.
А волны все шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.
1940
Стихотворение из цикла «На ранних поездах», который поэт начинает за несколько месяцев до Великой Отечественной войны. В нем присутствует излюбленная пастернаковская тема единства, слитности мира, открывающая путь к человеческому бессмертию. Поэт здесь соединяет лес и людей, подмосковные сосны и далекое море.
Быть знаменитым некрасиво…
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.
1956
Впервые опубликовано в журнале «Знамя» в 1956-м под заголовком «Быть знаменитым». Поэтическая декларация Пастернака, вошедшая в последний цикл поэта «Когда разгуляется», подводящая итог представлениям автора о месте поэта в мире.
В больнице
Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину,
В кабину вскочил санитар.
И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.
Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.
Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.
Его положили у входа.
Все в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.
Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.
Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.
Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.
Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.
«О Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр».
1956
Стихотворение «В больнице» было включено Пастернаком в его последний цикл стихов «Когда разгуляется». Вызванное собственным пребыванием в больнице с тяжелым инфарктом, стихотворение начинается с картины толпы вокруг человека, которому стало плохо на улице, и его забирает машина скорой помощи, и завершается мыслями умирающего больного, которого переполняет восхищение устройством окружающего мира и благодарность за дарованную ему судьбу.
В январе 1953-го Пастернак писал вдове своего близкого друга, Нине Табидзе:
«Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое… то в промежутках между потерею сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!
<…>
Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!
<…>
„Господи, — шептал я, — благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык — величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество — Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи“. И я ликовал и плакал от счастья».
Снег идет
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и всё в смятеньи,
Bсе пускается в полет, —
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и Святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет
Или как слова в поэме?
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.
1957
Стихотворение из последнего цикла Пастернака «Когда разгуляется» передает целый ряд сквозных мотивов, тем, приемов, которые были свойственны мировосприятию и текстам поэта на протяжении всего литературного пути. Городской снегопад объединяет небо, землю, город, людей и комнатные растения. Они все подчиняются общим законам мироздания — устройства времени и творчества («…за годом год / Следуют, как снег идет / Или как слова в поэме»).
Нобелевская премия
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
1958
В октябре 1958 года Пастернаку была присуждена самая престижная мировая награда в области литературы — Нобелевская премия. В СССР присуждение премии было воспринято как враждебный акт — награждение писателя, чей роман «Доктор Живаго» был запрещен на родине и опубликован только за границей. Была развернута беспрецедентная кампания травли поэта: Пастернака исключили из Союза советских писателей и грозили высылкой из страны, в газетах публиковались гневные обличительные письма, где автора романа называли предателем и клеветником. В результате кампании Пастернак отказался от премии. 30 января 1959 года Пастернак передал цикл «Январские дополнения» английскому журналисту, который спустя десять дней опубликовал стихотворение «Нобелевская премия» в газете Daily Mail.
Гамлет
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.
1946
Стихотворение «Гамлет» открывает последнюю, стихотворную часть романа «Доктор Живаго». В лирическом герое стихотворения множатся, накладываясь друг на друга, актер, вышедший на сцену (возможно, играющий роль Гамлета); сам Гамлет, выполняющий на сцене волю своего отца; Христос, обращающийся в Гефсиманском саду к Богу Отцу; лирический герой стихотворения, размышляющий о своем пути и судьбе; и, наконец, Пастернак, ощущающий себя в современности, тонущим в фарисействе.
Стихотворение, герой которого пытается узнать свою судьбу, тесно связано с литературной традицией. Пастернак несколько раз повторял в письмах и разговорах, что судьба его героя должна быть отчасти подобна судьбе Александра Блока. Блок неоднократно в стихах сопоставлял с Гамлетом своего лирического героя. Тема судьбы и смерти поэта в русской поэзии тесно связана со стихотворением Лермонтова на смерть Пушкина, где он сравнивает убитого поэта с Христом («они венец терновый, увитый лаврами, надели на него»). Стихотворение написано пятистопным хореем — размером, к которому, говоря о темах судьбы, смерти и жизненного пути, обращались Лермонтов («Выхожу один я на дорогу…»), Тютчев («Вот бреду я вдоль большой дороги…»), Блок («Выхожу я в путь, открытый взорам…»), неоднократно Есенин («Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др.) и Максимилиан Волошин, написавший этим размером:
Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.Может быть, и я свой жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь, —
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Август
Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по‑старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.
С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.
В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.
Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:
«Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».
1953
Стихотворение «Август» — из цикла стихов Юрия Живаго, героя романа Пастернака, составляющего последнюю часть романа. В стихотворении — сон героя о своей смерти, причем автор помещает пространство стихотворения в пространство своей комнаты на даче в Переделкине: утреннее солнце покрывает «…жаркой охрою / Соседний лес, дома поселка, / Мою постель, подушку мокрую / И край стены за книжной полкой».
Вспоминающийся герою сон, как к нему «на проводы» идут его друзья через августовский кладбищенский лес, как будто опять через переделкинское кладбище, над которым возвышается церковь Преображения — в начале стихотворения «кто-то» во сне вспоминает, что это «шестое августа по‑старому, Преображение Господне». Герой, прощаясь с жизнью, прощается с поэзией («образ мира, в слове явленный»), чудом окружающего мира и возлюбленной, которая умела «сражаться» за него с окружающим миром, помогая ему преодолеть годы забвения человеческих и божественных законов («годы безвременщины»).
Зимняя ночь
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
1946
Одно из самых известных стихотворений Пастернака о любви, где близости влюбленных сообщается масштаб всеохватности за счет параллелизма с зимней стихией («по всей земле, во все пределы») и высокой, почти религиозной высоты («…и жар соблазна / Вздымал, как ангел, два крыла / Крестообразно»). Так о любви Лары и Живаго Пастернак пишет в романе «Доктор Живаго»: «Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства. Для них же — и в этом была их исключительность — мгновения, когда, подобно веянию вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни»; «Мы с тобой как два первых человека, Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнем».
«Зимняя ночь» входит в цикл стихов героя романа Пастернака — Юрия Живаго. В прозаической части романа герой, проезжая на Святках по Камергерскому переулку, поднимает голову, видит свет от свечи на замерзшем оконном стекле, и ему в голову приходит строчка «свеча горела на столе, свеча горела». В стихотворении лирическому герою представляется череда любовных свиданий за этим окном — «то и дело свеча горела на столе». Внутренний мир комнаты со свечой и влюбленной парой противопоставлен зимнему миру за окном, охваченному непрерывной и повсеместной метелью, как в первых строках поэмы Блока «Двенадцать».
Предметный мир стихотворения: метель, стол, окно, свеча, воск, башмачки — позволяет вспомнить о балладе Жуковского «Светлана» с ее знаменитым началом «Раз в крещенский вечерок…». Строчка приходит в голову герою, когда он на Святках (почти что время гаданий из баллады Жуковского) едет на извозчике со своей будущей женой Тоней, а за окном, чего он не знает, находится главная героиня романа Лара со своим женихом. В самом конце романа Лара, много лет спустя случайно зайдя в эту комнату, увидит на столе мертвого Юрия Живаго — как героиня Жуковского видит во сне мертвого жениха. Таким образом, в прозе связь с балладой, где девушка гадает о женихе, видит его мертвым, а, проснувшись, встречает его живым, становится еще отчетливей. В той же главе, где появляется впервые строчка «свеча горела», «Елка у Свентицких», герой размышляет об искусстве, которое все время занято двумя вещами — «неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь». Баллада Жуковского, где после гадания и страшного сна появляется живой жених, была как раз одним из таких произведений искусства.
В 1948 году стихотворение послужило причиной запрета на распространение книги Пастернака, в которую было включено. Александр Фадеев, возглавлявший Союз советских писателей и в издательстве которого была отпечатана книга, увидел в нем смесь мистики и эротики.
Рождественская звезда
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой Вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры.
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
1947
Стихотворение, отданное Пастернаком главному герою своего романа. Юрий Живаго хочет «написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом». В стихотворении евангельские волхвы, идущие принести дары младенцу Христу, проходят через русское зимнее пространство («…погост, / Ограды, надгробья, / Оглобля в сугробе / И небо над кладбищем, полное звезд»), в котором узнается картина пейзажа из окна дачи поэта в Переделкине. В картине соединяются пространство и время: рядом с волхвами «встает все пришедшее после» — «будущее галерей и музеев», «все елки на свете», «все сны детворы». Это жизнь многовековой христианской культуры, берущей начало «в пещере», возле которой так по‑будничному бранятся и ругаются погонщики, лягаются ослы, но при этом происходит величайшее чудо, отмеченное для людей появлением звезды Рождества.
Хотите быть в курсе всего?
Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу
Курсы
Марсель Пруст в поисках потерянного времени
Как жили первобытные люди
Дадаизм — это всё или ничего?
Третьяковка после Третьякова
«Народная воля»: первые русские террористы
Скандинавия эпохи викингов
Портрет художника эпохи СССР
Языки архитектуры XX века
Английская литература XX века. Сезон 2
Ощупывая
северо-западного
слона (18+)
Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова
Взлет и падение Новгородской республики
История русской эмиграции
Остап Бендер: история главного советского плута
Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»
Главные идеи Карла Маркса
Олег Григорьев читает свои стихи
История торговли в России
Жак Лакан и его психоанализ
Мир средневекового человека
Репортажи с фронтов Первой мировой
Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?
Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)
Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме
Немецкая музыка от хора до хардкора
Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?
Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?
История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней
Берлинская стена. От строительства до падения
Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига
Польское кино: визитные карточки
Зигмунд Фрейд и искусство толкования
«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского
Английская литература XX века. Сезон 1
Культурные коды экономики: почему страны живут
по-разному
Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?
Золотая клетка. Переделкино
в 1930–50-е годы
Как исполнять музыку на исторических инструментах
Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем
Как гадают ханты, староверы, японцы и дети
Последние Романовы: от Александра I до Николая II
Отвечают сирийские мистики
Как читать любимые книги по-новому
Как жили обыкновенные люди в Древней Греции
Путешествие еды по литературе
Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне
Легенды и мифы советской космонавтики
Гитлер и немцы: как так вышло
Как Марк Шагал стал всемирным художником
«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского
Лесков и его чудные герои
Культура Японии в пяти предметах
5 историй о волшебных помощниках
Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?
Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток
Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации
Что такое романтизм и как он изменил мир
Финляндия: визитные карточки
Как атом изменил нашу жизнь
Данте и «Божественная комедия»
Шведская литература: кого надо знать
Теории заговора: от Античности до наших дней
Зачем люди ведут дневники, а историки их читают
Помпеи до и после извержения Везувия
Народные песни русского города
Метро в истории, культуре и жизни людей
Что мы знаем об Антихристе
Джеймс Джойс и роман «Улисс»
Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?
«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)
Безымянный подкаст Филиппа Дзядко
Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно
Как читать китайскую поэзию
Как русские авангардисты строили музей
Как революция изменила русскую литературу
Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?
Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой
Криминология: как изучают преступность и преступников
Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль
Введение в гендерные исследования
Документальное кино между вымыслом и реальностью
Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)
Как мы чувствуем архитектуру
Американская литература XX века. Сезон 2
Американская литература XX века. Сезон 1
Холокост. Истории спасения
Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?
У Христа за пазухой: сироты в культуре
Первый русский авангардист
Как увидеть искусство глазами его современников
История исламской культуры
История Византии в пяти кризисах
История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)
Поэзия как политика. XIX век
Особенности национальных эмоций
Русская литература XX века. Сезон 6
10 секретов «Евгения Онегина»
Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы
История завоевания Кавказа
Ученые не против поп-культуры
Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России
Что такое современный танец
Как железные дороги изменили русскую жизнь
Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
Россия и Америка: история отношений
Как придумать свою историю
Россия глазами иностранцев
История православной культуры
Русская литература XX века. Сезон 5
Как читать русскую литературу
Блеск и нищета Российской империи
Жанна д’Арк: история мифа
Любовь при Екатерине Великой
Русская литература XX века. Сезон 4
Социология как наука о здравом смысле
Русское военное искусство
Закон и порядок
в России XVIII века
Как слушать
классическую музыку
Русская литература XX века. Сезон 3
Повседневная жизнь Парижа
Русская литература XX века. Сезон 2
Рождение, любовь и смерть русских князей
Петербург
накануне революции
«Доктор Живаго»
Бориса Пастернака
Русская литература XX века. Сезон 1
Архитектура как средство коммуникации
Генеалогия русского патриотизма
Несоветская философия в СССР
Преступление и наказание в Средние века
Как понимать живопись XIX века
Греческий проект
Екатерины Великой
Правда и вымыслы о цыганах
Исторические подделки и подлинники
Театр английского Возрождения
Марсель Пруст в поисках потерянного времени
Как жили первобытные люди
Дадаизм — это всё или ничего?
Третьяковка после Третьякова
«Народная воля»: первые русские террористы
Скандинавия эпохи викингов
Портрет художника эпохи СССР
Языки архитектуры XX века
Английская литература XX века. Сезон 2
Ощупывая
северо-западного
слона (18+)
Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова
Взлет и падение Новгородской республики
История русской эмиграции
Остап Бендер: история главного советского плута
Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»
Главные идеи Карла Маркса
Олег Григорьев читает свои стихи
История торговли в России
Жак Лакан и его психоанализ
Мир средневекового человека
Репортажи с фронтов Первой мировой
Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?
Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)
Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме
Немецкая музыка от хора до хардкора
Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?
Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?
История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней
Берлинская стена. От строительства до падения
Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига
Польское кино: визитные карточки
Зигмунд Фрейд и искусство толкования
«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского
Английская литература XX века. Сезон 1
Культурные коды экономики: почему страны живут
по-разному
Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?
Золотая клетка. Переделкино
в 1930–50-е годы
Как исполнять музыку на исторических инструментах
Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем
Как гадают ханты, староверы, японцы и дети
Последние Романовы: от Александра I до Николая II
Отвечают сирийские мистики
Как читать любимые книги по-новому
Как жили обыкновенные люди в Древней Греции
Путешествие еды по литературе
Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне
Легенды и мифы советской космонавтики
Гитлер и немцы: как так вышло
Как Марк Шагал стал всемирным художником
«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского
Лесков и его чудные герои
Культура Японии в пяти предметах
5 историй о волшебных помощниках
Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?
Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток
Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации
Что такое романтизм и как он изменил мир
Финляндия: визитные карточки
Как атом изменил нашу жизнь
Данте и «Божественная комедия»
Шведская литература: кого надо знать
Теории заговора: от Античности до наших дней
Зачем люди ведут дневники, а историки их читают
Помпеи до и после извержения Везувия
Народные песни русского города
Метро в истории, культуре и жизни людей
Что мы знаем об Антихристе
Джеймс Джойс и роман «Улисс»
Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?
«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)
Безымянный подкаст Филиппа Дзядко
Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно
Как читать китайскую поэзию
Как русские авангардисты строили музей
Как революция изменила русскую литературу
Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?
Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой
Криминология: как изучают преступность и преступников
Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль
Введение в гендерные исследования
Документальное кино между вымыслом и реальностью
Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)
Как мы чувствуем архитектуру
Американская литература XX века. Сезон 2
Американская литература XX века. Сезон 1
Холокост. Истории спасения
Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?
У Христа за пазухой: сироты в культуре
Первый русский авангардист
Как увидеть искусство глазами его современников
История исламской культуры
История Византии в пяти кризисах
История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)
Поэзия как политика. XIX век
Особенности национальных эмоций
Русская литература XX века. Сезон 6
10 секретов «Евгения Онегина»
Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы
История завоевания Кавказа
Ученые не против поп-культуры
Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России
Что такое современный танец
Как железные дороги изменили русскую жизнь
Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
Россия и Америка: история отношений
Как придумать свою историю
Россия глазами иностранцев
История православной культуры
Русская литература XX века. Сезон 5
Как читать русскую литературу
Блеск и нищета Российской империи
Жанна д’Арк: история мифа
Любовь при Екатерине Великой
Русская литература XX века. Сезон 4
Социология как наука о здравом смысле
Русское военное искусство
Закон и порядок
в России XVIII века
Как слушать
классическую музыку
Русская литература XX века. Сезон 3
Повседневная жизнь Парижа
Русская литература XX века. Сезон 2
Рождение, любовь и смерть русских князей
Петербург
накануне революции
«Доктор Живаго»
Бориса Пастернака
Русская литература XX века. Сезон 1
Архитектура как средство коммуникации
Генеалогия русского патриотизма
Несоветская философия в СССР
Преступление и наказание в Средние века
Как понимать живопись XIX века
Греческий проект
Екатерины Великой
Правда и вымыслы о цыганах
Исторические подделки и подлинники
Театр английского Возрождения
Все курсы
Спецпроекты
Автор среди нас
Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени
Господин Малибасик
Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир
Где сидит фазан?
Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин
Путеводитель по благотворительной России XIX века
27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи
Колыбельные народов России
Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов
История Юрия Лотмана
Arzamas рассказывает о жизни одного из главных
ученых-гуманитариев
XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»
Волшебные ключи
Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях
Наука и смелость. Второй сезон
Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими
«1984». Аудиоспектакль
Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»
История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим
Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах
История игр за 17 минут
Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр
Истории и легенды городов России
Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова
Путеводитель по венгерскому кино
От эпохи немых фильмов до наших дней
Дух английской литературы
Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле
Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни
Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров
Советская кибернетика в историях и картинках
Как новая наука стала важной частью советской культуры
Игра: нарядите елку
Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю
Что такое экономика? Объясняем на бургерах
Детский курс Григория Баженова
Всем гусьгусь!
Мы запустили детское
приложение с лекциями,
подкастами и сказками
Открывая Россию: Нижний Новгород
Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области
Как устроен балет
О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета
Железные дороги в Великую Отечественную войну
Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка
Война
и жизнь
Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет
Фландрия: искусство, художники и музеи
Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все
Еврейский музей и центр толерантности
Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах
Музыка в затерянных храмах
Путешествие Arzamas в Тверскую область
Подкаст «Перемотка»
Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке
Arzamas на диване
Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas
Как устроен оркестр
Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера
Британская музыка от хора до хардкора
Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах
Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию
Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта
Новая Третьяковка
Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах
Видеоистория русской культуры за 25 минут
Семь эпох в семи коротких роликах
Русская литература XX века
Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры
Детская комната Arzamas
Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами
Аудиоархив Анри Волохонского
Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда
1960-х
— начала
1970-х годов
История русской культуры
Суперкурс
Онлайн-университета
Arzamas об отечественной культуре от варягов до
рок-концертов
Русский язык от «гой еси» до «лол кек»
Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах
История России. XVIII век
Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей
Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур
Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции
Что такое античность
Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях
Как понять Россию
История России в шпаргалках, играх и странных предметах
Каникулы на Arzamas
Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе
Русское искусство XX века
От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео
Европейский университет в
Санкт-Петербурге
Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих
Пушкинский
музей
Игра со старыми мастерами,
разбор импрессионистов
и состязание древностей
Стикеры Arzamas
Картинки для чатов, проверенные веками
200 лет «Арзамасу»
Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю
XX век в курсах Arzamas
1901–1991: события, факты, цитаты
Август
Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел
Идеальный телевизор
Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей
Русская классика. Начало
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
Молодой Борис Пастернак удивлял современников сложными и неожиданными образами «грохочущей слякоти», «круто налившегося света» и толченных «с стеклом и солнцем» стихов. Но со временем он выработал лаконичный и понятный стиль, образцами которого стали поэзия доктора Живаго и посмертный сборник «Когда разгуляется». Под конец жизни Пастернак признался, что все произведения до 1940 года сочинил под воздействием царившего в поэтической среде запроса на «выкрутасы» и ломку всего привычного.
Борис Пастернак считал поэзию и прозу неотделимыми друг от друга полюсами. Тем не менее его поэтическая слава затмила его заслуги в прозе. Говоря о последней, обычно вспоминают только роман «Доктор Живаго». Поэтому в этой статье мы расскажем не только о главных поэтических сборниках Пастернака, но и о менее известном творчестве. А также о том, как менялся его стиль.
Поэзия
Увлечение музыкой
Борис Леонидович Пастернак жил с 1890 по 1960 год. Первые стихи он опубликовал в альманахе «Лирика», когда ему было 23 года. А до этого он получил музыкальное и философское образование, без упоминания которых невозможно описать его творческий путь. Эти увлечения впоследствии проникли в его поэзию, наделив ее сложной и разнообразной ритмикой и глубоким содержанием.
Именно музыка стала главным увлечением юности Бориса Пастернака. Этому способствовала творческая среда, в которой он рос. Поэт родился в Москве в семье знаменитого портретиста и пианистки. Помимо занятий в гимназии, Пастернак шесть лет посещал курс композиторского факультета консерватории. Даже сочинил две сонаты для фортепиано. Однако он знал, что не обладал абсолютным слухом, и в 1908 году отказался от идеи стать музыкантом.
Философские искания
В 1909 году Борис Пастернак нашел новое увлечение. Он поступил на философское отделение историко‑филологического факультета Московского университета. Окончив его в 1912‑м, он провел летний семестр в Марбургском университете в Германии. Учебное заведение славилось сильной философской школой. Среди его знаменитых студентов были братья Гримм и Михаил Ломоносов.
Успехи Пастернака в науке были такими значительными, что глава марбургской школы философов‑неокантианцев Герман Коген побуждал его получить докторскую степень. Но любовная драма оборвала этот сценарий. Молодой человек встретил в городе старую знакомую Иду Высоцкую. Он безответно в нее влюбился и стал писать стихи.
Первая книга стихов «Близнец в тучах»
Пастернак бросил учебу. Он вернулся в Москву и вошел в литературные круги. Ходил на встречи московского издательства символистов «Мусагет». Вступил в футуристическое литературное объединение «Центрифуга». В 1914 году он познакомился с Владимиром Маяковским, который значительно повлиял на его вкус. Всю жизнь их связывали сложные отношения. Пастернак дружил с ним, соперничал, а в конце 20‑х годов осуждал за ослепление славой и политическую пропаганду.
В 1914 году поэт выпустил первую книгу стихов «Близнец в тучах». Эти ранние произведения он сочинял под влиянием символистов, особенно вдохновляясь мистической поэзией Александра Блока. Позже Пастернак забраковал многие стихотворения и никогда их не переиздавал. Другие значительно переработал и опубликовал во второй книге — «Поверх барьеров» 1917 года.
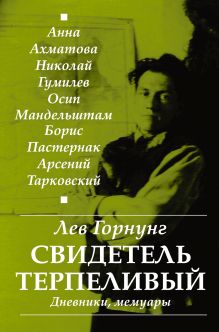
Сборник «Сестра моя — жизнь»
Именно с этого сборника 1922 года Борис Пастернак повел отчет своего поэтического творчества. В него вошли стихотворения и циклы, сочиненные в 1917‑м. Среди них, например, — известное произведение «Про эти стихи».
«На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет».
«Про эти стихи», 1917 год
Природа и окружающие предметы в книге наделены несвойственными им качествами. Чердак декламирует стихи, тень читает книгу в саду, а звезды хохочут. Стихи Пастернака высоко оценили Осип Мандельштам, Марина Цветаева и Валерий Брюсов.
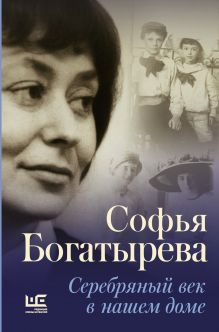
Эпосы и роман в стихах «Спекторский»
В 20‑х годах поэт состоял в созданном Маяковским творческом объединении ЛЕФ («Левый фронт искусств»). Целями этой группы были порождение нового революционного искусства и выполнение «социального заказа» нести литературу в массы.
Встреча членов ЛЕФ с японским писателем Тамизи Найто. Слева направо: Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Тамизи Найто, дипломат Арсений Вознесенский, Ольга Третьякова, Сергей Эйзенштейн, Лиля Брик
Это подстегнуло Пастернака обратиться к эпосу и осмыслить роль первой русской революции в истории. В середине двадцатых годов он сочинил поэмы «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».
В 1924–1930‑х Пастернак создает роман в стихах «Спекторский», который изначально задумывал как большую прозу. Он озаглавил произведение именем главного героя, молодого поэта Сергея. В письмах Марине Цветаевой он объяснял, что собирался изобразить их поколение и его место в истории. Пастернаку было приятно обращаться к счастливым юным годам, когда он формировался как поэт.
Но, пока писатель сочинял «Спекторского», он разочаровался в революции. Поэма о любви, революции и надежде превратилась в историю о нарастающей обреченности.
«Перечитывая эту вещь сегодня, диву даешься — как о многом он сумел сказать в отвердевшие, подцензурные времена; и все потому, что точнейшие диагнозы и горькие констатации, от которых, кажется, он и сам прятался, надеясь «все согласить, все сгладить»,— спрятаны и растворены в море лирических туманностей».
Дмитрий Быков в книге «Борис Пастернак» о жизни и творчестве писателя
Сборник «Второе рождение»
В начале 1930‑х Пастернак пересматривает стиль. Ранние стихи кажутся ему «странной мешаниной из отжившей метафизики и неоперившегося просвещенства». В 1932 году он выпускает книгу «Второе рождение». Синтаксис в новых стихах упростился. Язык стал емче. А мысль укладывалась в границах стихотворной строки.
«Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет».
«Волны», 1931 год
Книга стихов «Когда разгуляется»
В последний цикл Борис Пастернак включил произведения, сочиненные в 1956–1959 годах. В него, например, вошли известные стихотворения «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти…», «Нобелевская премия» и «Снег идет». Первое стало творческим манифестом Пастернака, в котором он определил место поэта в мире.
Наряду со стихотворениями доктора Живаго «Когда разгуляется» стал высшей точкой мастерства писателя. Слог этих стихов прост, ясен, но от этого не менее выразителен, чем язык предыдущих произведений.

«Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины».
«Во всем мне хочется дойти…», 1956 год
Под конец жизни Пастернак делил все написанное на отрезок до 1940 года и после. В очерке «Люди и положения», который можно найти в сборнике художественно‑биографической прозы «Воздушные пути», он отзывался о первом периоде так:
«Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что‑то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали… Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты».
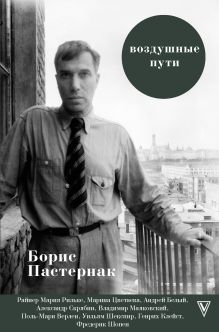
Переводы
Пастернак с детства изучал английский, немецкий и французский. Его достижения в художественном переводе были столь же велики, что и в оригинальном творчестве. Он считал, что хороший перевод достигается не дословной точностью и соответствием формы, а живостью и естественностью языка.
Пастернак начал переводить во времена первых поэтический опытов. Позже, в очерке «Люди и положения», он ругал ранние работы. В те годы, по его словам, из нового поколения писателей только Марина Цветаева и Николай Асеев владели зрелым и сложившимся поэтическим слогом.
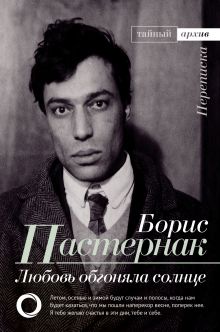
«Среди удручающе не умелых писаний моих того времени самые страшные — переведенная мною пьеса Бен Джонсона „Алхимик“ и поэма Гёте „Тайны“ в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе среди других его рецензий, написанных для издательства „Всемирная литература“ и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый».
Борис Пастернак в очерке «Люди и положения» из сборника прозы «Воздушные пути»
Дача Бориса Пастернака в Переделкине
В 30‑х годах Пастернак близко к сердцу воспринял политические изменения в стране и перестал сочинять. В 1936‑м он переехал на дачу в Переделкине. Переводил там трагедии Шекспира, «Фауста» Гёте, «Марию» Стюарта Шиллера, стихи Верлена, Байрона, Китса, Рильке и грузинских поэтов. Эти работы стали образцом литературного творчества наравне с его собственными стихами.
«Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35 году казалось) все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось».
Борис Пастернак в книге Ольги Ивинской «Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени»
Переводы «Гамлета», «Макбета», «Ромео и Джульетты» и «Отелло» Пастернака считаются эталонными и печатаются в Издательстве АСТ.
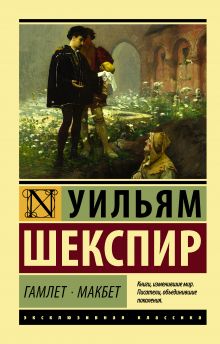

Проза
Повесть «Детство Люверс»
Борис Пастернак не ставил поэзию выше прозы. В письме к Е. Д. Романовой от 23 декабря 1959 года он описывал последнюю как «волшебное искусство, на границе алхимии». Поэт считал, что обе литературные формы не существуют отдельно и продолжают друг друга. Поэтому, например, вслед за романом в стихах «Спекторский» он выпустил прозаическое произведение «Повесть», куда перенес того же главного героя.
«Пастернак — один из умнейших прозаиков своего времени (не говорю о нем как о поэте, поскольку здесь его заслуги бесспорны), один из актуальнейших, нащупывающих всегда прозаический нерв эпохи. В огромной степени русская проза 1930‑х годов сформировалась под влиянием „Детства Люверс“, в огромной степени его фронтовые очерки задали стилевой эталон рассказа о войне, хотя он был всего в одной двухнедельной поездке в Орле».
Дмитрий Быков в книге «Советская литература: мифы и соблазны»
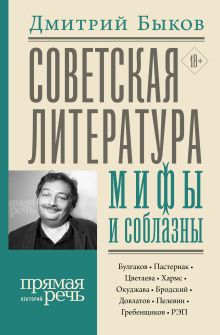
Большая проза была давней мечтой Бориса Пастернака. Еще в конце 1910‑х он начал писать историю взросления девочки‑подростка «Детство Люверс». В 1918 году незавершенный роман превратился в повесть.
Фронтовые очерки
В 1943 году Борис Пастернак хотел написать большую поэму о войне и начал хлопотать о поездке на фронт. Наконец такая возможность представилась. Его отправили в только что освобожденный Орел в группе военных корреспондентов и писателей. Пастернак пробыл там две недели, после чего написал несколько очерков.
Борис Пастернак на фронте, 1943 год.
«Собственные его очерки „Освобожденный город“ и „Поездка в армию“ — образец военной журналистики, дотошной в деталях и глубоко личной. Вспомним, ведь и Бородино у Толстого дано глазами Пьера — и вообще лучше, когда о войне пишут штатские. Ужасы войны — и разрушенные судьбы, и разрушенные здания — многократно превзошли картины, которые Пастернак рисовал в воображении. Он и вообразить не мог, что от Орла почти ничего не останется, что немцы, уходя, минируют и сжигают города, что выжженная земля — не метафора».
Дмитрий Быков в книге «Борис Пастернак»
Именно 1942–1943 годах произошел перелом в отношении Пастернака к коммунистам. Увидев окопы своими глазами, он понял, что сталинизм не помогал, а мешал выиграть войну. И убедился в том, что все, что казалось ему жестоким, но исторически оправданным, оказалось губительным для страны. Первый очерк «Освобожденный город» опубликовали в «Новом мире» только в январе 1965 года.
Роман «Доктор Живаго»
Борис Пастернак в Переделкине, 1951 год.
Пастернак сочинял его с 1945 по 1955 год. Книга во многом получилась автобиографической. Его героем стал русский интеллигент первой половины XX века Юрий Живаго. Повествование приходится на годы гражданской войны. Персонаж романа — врач и поэт, после смерти которого остается тонкая книжка стихов. Они и составили заключительную часть романа.
«Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему».
«Свидание», стихи Юрия Живаго, 1949 год
Роман запретили в СССР, но в 1957 году его опубликовали в Италии. Через год Пастернаку присудили Нобелевскую премию в области литературы. Советские власти восприняли признание «Доктора Живаго» за рубежом как оскорбление. Пастернака стали называть в прессе предателем. Его выгнали из Союза писателей и грозили ему высылкой из страны. После масштабной травли Пастернак написал Никите Хрущеву. Он сказал, что покинуть страну для него равносильно смерти, и отказался от Нобелевской премии по литературе.
30 мая 1960 года Борис Пастернак умер от рака легких. В 1987 году писателя реабилитировали и посмертно включили в Союз писателей СССР. Через год впервые вышло советское издание «Доктора Живаго».
Политика публикации отзывов
Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:
1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт
На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.
2. Мы за вежливость
Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.
3. Ваш отзыв должно быть удобно читать
Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.
4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки
Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.
5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»
Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».
Недовольны качеством издания?
Дайте жалобную книгу
Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.
6. Отзыв – место для ваших впечатлений
Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.
7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.
В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.
8. Мы уважаем законы РФ
Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.
Бориса Пастернака по праву можно назвать одной из ключевых фигур отечественной поэзии, однако его ранние стихи многих отпугивают своей темнотой. Татьяна Красильникова и Павел Успенский, авторы готовящейся к выходу монографии «Поэтический язык Пастернака: „Сестра моя — жизнь“ сквозь призму идиоматики», решили разобраться, как устроены эти тексты и на что следует обращать внимание, если мы хотим лучше понять их сложную фразеологию. Специально для «Горького» Анна Грибоедова побеседовала с Татьяной Красильниковой.
— Как возник ваш интерес к поэтическому творчеству Пастернака и почему вы решили написать о нем книгу?
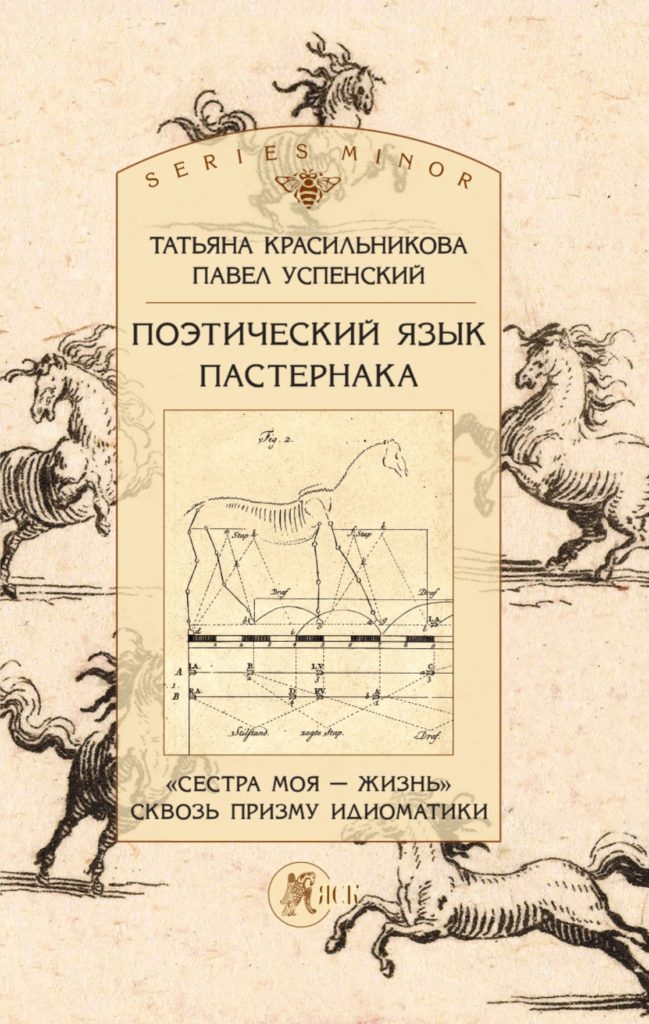
Движимые этим исследовательским азартом, мы с Павлом решили посмотреть на Пастернака как на поэта, который в начале своего пути был очень сфокусирован на пересоздании существующего языка, но при этом не ломал его радикально. Это важный критерий для нашего взгляда: такой язык, с одной стороны, на поверхностном уровне не слишком ясен, написанные на нем стихотворения сложно сходу взять и пересказать, для этого скорее нужно приложить особое усилие, как это сделали Михаил Гаспаров и Ирина Подгаецкая в книге «„Сестра моя — жизнь” Бориса Пастернака. Сверка понимания», «сверившие» свое понимание стихов с пониманием, предложенным американской исследовательницей Кэтрин О’Коннор. Но с другой стороны, и это не менее значимо, даже темные стихи все-таки читает довольно широкая аудитория и как-то их понимает, даже если не вооружена узкоспециальным филологическим знанием и не знакома со всем «пастернаковедческим каноном». Получается, язык этих стихов содержит что-то такое, что отзывается на, может быть, подсознательном уровне, подсказывает какие-то смыслы, путем ассоциаций к чему-то приводит. И эти языковые механизмы, заложенные в фундамент лаборатории смыслопорождения у Пастернака, мы и решили изучить.
Дополнительно интересно отметить, что и впоследствии, в эволюционной перспективе, подобная языковая работа у Пастернака никуда не уйдет, но качество ее изменится. Ко времени создания книги «Когда разгуляется» совсем сложные механизмы отпадут как, видимо, уже опробованные поэтом и больше не отвечающие его требованиям к искусству, его идеям, ну и, естественно, ожиданиям «сверху». Вместо этого Пастернак сделает ставку на языковую экспрессию и иногда поражающую («неслыханную», как он сформулировал еще во «Втором рождении») простоту, но его «идиоматический резервуар» останется прежним, как и при написании ранних текстов.
— Раз уж прозвучала фамилия Мандельштама и мы вспомнили монографию Павла и Вероники о его творчестве, хочется задать вопрос: Лотман в работе «Мандельштам и Пастернак (попытка контрастивной поэтики)» противопоставлял этих поэтов по целому ряду признаков организации поэтической семантики. Согласны ли вы с его высказыванием о том, что «доминанты их творчества диаметрально противоположны друг другу»?
— Думаю, тут важно понимать следующее: в любой паре оппозиционных явлений, которые часто возникают в культуре, есть не только то, что их различает, но и то, что способствует сопоставлению — у двух полюсов должна быть общая планета. Взять, например, пару Толстой и Достоевский: их объединяет и эпоха, и объем романов, и то, что это крупные общественные фигуры, и такая что ли «мессинская претензия», связанная с размахом их мысли. И при этом за счет общего набора свойств между ними все время хочется провести границу, развести их по разным сторонам, наклеить на каждого флажки: у этого авторский взгляд такой-то, у этого — такой-то, у этого герои такие-то, у этого — такие-то, и тому подобное.
Так же и в случае с Пастернаком и Мандельштамом: если бы у них не было чего-то общего, их никогда бы не сравнивали как двух контрастирующих поэтов. Для нас с Павлом их главная общая черта — установка на переизобретение языка, о которой Павел и Вероника пишут в связи с Мандельштамом, а мы — в связи с Пастернаком. Переизобретение, не подразумевающее, повторюсь, радикального слома на всех лингвистических уровнях, как у футуристов, но оставляющее ощущение темноты у широкого круга читателей, которые интуитивно понимают эти стихи. Но, конечно, между двумя поэтами есть и различия — о них, в частности, и пишет Лотман. В нашей перспективе отличительной чертой Пастернака стали многочисленные идиоматические дублеты. Идея о том, что Пастернак там, где можно сказать один раз, говорит два раза или больше, как бы дополняя и исправляя на ходу сказанное, не нова — тот же Лотман ее хорошо описал, как и лингвисты, специально занимавшиеся языком Пастернака. Но мы показываем, что подобное дублирование происходит не только на поверхности, например на синтаксическом уровне, но одновременно и на уровне глубинной трансформации языка.
— О Пастернаке написано очень много, можно даже сказать, что он любимый поэт профессиональной, филологической аудитории. Какова, на ваш взгляд, причина? Чем можно объяснить подобную субкультурную популярность?
— Пастернак написал очень много и писал довольно долго, по крайней мере, дольше многих других поэтов печального XX века. Но главное — он писал разносторонне, пытаясь освоить, казалось бы, противоположные грани словесного искусства, которые у него все равно стремятся к объединяющему началу. Его темные стихи запутанны, поэтому их нередко пытались распутать, пересказывали (например, Гаспаров и Подгаецкая в уже упомянутой книге вслед за О’Коннор провели действительно интересный эксперимент по переводу пастернаковского поэтического языка на язык прозы). Кроме того, у Пастернака было, как бы сейчас это в шутку назвали, guilty pleasure — все время переписывать старые тексты. Филологическая игра «найди отличия» занимательна не только с точки зрения когнитивной гимнастики, но и многое может сказать об изменившихся за, скажем, пятнадцать лет литературных вкусах как самого Пастернака, так и эпохи в целом (по этой теме у М. Л. Гаспарова и К. М. Поливанова есть книга о первом сборнике Пастернака «Близнец в тучах» и о позднейших переделках этих стихотворений). В текстах «Второго рождения» интересно наблюдать за тем, как работают различные дискурсы в условиях тесноты стихового ряда, как Пастернак находит стилистические решения, совершая постепенное движение к языковой простоте (об этом и о другом много писал, в частности, Александр Жолковский). В связи с поздними книгами, помимо прочего, чрезвычайно увлекательно рассуждать о каноничности и популярности стихотворений с точки зрения социологии литературы. Об историческом контексте тоже подробно и увлекательно писали (можно вспомнить хрестоматийные работы Лазаря Флейшмана).
Наконец, язык Пастернака стал благодатной почвой для лингвистических исследований. Мы нашли довольно много работ технического характера, написанных с целью получить сугубо лингвистические выводы — например, как работает синтаксис на примере поэтического текста (нам в них не хватило именно филологического чутья). При этом мы обращались и к совершенно замечательным исследованиям на стыке лингвистики и литературоведения, открывающим в поэзии Пастернака очень много важного. Это хрестоматийная работа Романа Якобсона, небольшая статья Юрия Левина, статьи Жолковского, Ирины Ковтуновой, важная для нас статья Максима Шапира об «авторской глухоте» Пастернака и многие другие. А также замечательная и очень глубокая книга итальянской исследовательницы Роберты Сальваторе, не переведенная на русский язык, а потому мало известная в русскоязычном филологическом поле. Роберта посвящает фразеологии целую главу, причем рассматривает и примеры сложной идиоматической трансформации, что довольно редко встречалось в других работах. Она, кстати, написала очень подробную рецензию на нашу книгу, за что ей огромное спасибо — как и второму нашему рецензенту, Роману Лейбову, который тоже много всего нужного для нас заметил. В общем, Пастернака, действительно, очень подробно изучали, и нам захотелось при этом подойти к его стихам со свежим взглядом, развивая и уточняя те верные наблюдения, которые сделали предшественники.
— В сознании простых читателей Пастернак — одна из ключевых фигур отечественной поэзии. Однако тут, мне кажется, происходит своеобразная подмена: это признание обусловлено не столько собственно самой поэзией (ее принимают как неоспоримую данность), сколько его статусом как образцового поэта, на примере которого можно размышлять о месте литератора в истории, о его отношениях с властью, женщинами и религией. Можно ли сказать, что это отчасти связано с тем, что мы просто не очень умеем читать стихи Пастернака, его сложноустроенные поэтические тексты?
— Тяжело выделить что-то конкретное, что повлияло бы на восприятие поэта как «ключевой фигуры отечественной поэзии» — обычно это все-таки совокупность факторов. Безусловно, у Пастернака был и яркий дебютный период, и темные ранние стихи с запутанными метафорами, в которых он искал новый поэтический язык, и более ясные экспрессивные поздние стихи. Важна и биография, вся эта история с присуждением ему Нобелевской премии, травлей, изданием «Доктора Живаго» за рубежом, обеспечившим поэту признание за пределами СССР. Все это, конечно, принесло Пастернаку известность среди очень широкой аудитории, среди которой кто-то больше ценит его за книгу «Сестра моя — жизнь», кто-то за «Когда разгуляется», некоторые читали только роман, а о существовании стихов лишь слышали (например, иностранные читатели, которые не владеют русским языком и не хотят читать поэзию в переводе). Очевидно также, что все по-разному прочитывают эти тексты, и чем сложнее стихотворения, тем более узкая у них группа читателей, а зачастую даже узкоспециальная.
Но все-таки о том, что Пастернака читали, и читали глубоко, свидетельствует не только обширная научная литература, о которой я только что говорила, но и, например, тот факт, что он сильно повлиял на дальнейшую русскоязычную поэтическую традицию, причем ранние и темные стихи отразились в эволюции сложного поэтического языка, а поздние направляли развитие советской поэзии. Кроме того, мы настаиваем, что даже без пристального анализа темных стихотворений можно получить от них неопосредованное когнитивное удовольствие, и оно во многом обеспечивается идиоматикой.
— Расскажите подробнее о вашей монографии, которая вот-вот должна выйти из печати. Как вы предлагаете читать Пастернака? Что это значит — посмотреть на стихи Пастернака сквозь фразеологическую призму?

— В своем исследовании мы хотели показать, что одним из главных, а в некоторых случаях и основным способом создания темных образов для Пастернака была работа с идиоматическим пластом русского языка. Она выступает своего рода материалом, из которого создается поэтическая речь разной степени сложности. В отличие от лингвистов, специально занимавшихся уточнением границ идиоматики, мы включали в этот перечень самые разные явления: в первую очередь коллокации и фразеологизмы, но также и афоризмы, пословицы, поговорки и другие провербиальные образования. Главный критерий для нас — это их устойчивость в языке и распространенность к тому моменту, когда Пастернак сочинял стихотворение. То есть лингвистический статус и терминология внутри идиоматики для нас не играют особой роли, но очень важно другое — типы работы с идиоматикой. Ведь понятно, что поэт может более или менее нормативно употребить устойчивое выражение (например, «покидать пост» в строке «Не покидал поста / За теской алебастра?»), а может как-то заменить в выражении одно слово, или переосмыслить значение фразеологизма, или разъединить идиому, разнести ее отдельные элементы по разным строкам, или соединить две уже трансформированные подобным образом идиомы. В общем, способов очень много, и удобнее, когда они упорядочены градуированно — от простых к сложным. Мы использовали классификацию, уже придуманную для мандельштамовских стихов, но адаптировали ее к Пастернаку, в частности добавили целый класс фразеологических дублетов, которого не было у Мандельштама.
— Можете привести какой-нибудь пример сложной идиоматической трансформации?
— Нам очень нравится пример «Грянул ливень всем плетнем» (из стихотворения «Гроза, моментальная навек»). Он не такой сложный с точки зрения восприятия, но зато интересный и хитросплетенный в плане того, какие выражения или конструкции легли в основу образа. В общем, наглядный. Скорее всего, при первом прочтении мы не замечаем, что здесь произошла какая-то подмена или что несколько конструкций сплелись воедино, ведь языковая метафора выглядит очень органичной. Но если внимательно всмотреться в эту строку, то можно заметить сразу несколько процессов, которые произошли с устойчивыми оборотами, прежде чем получилось такое высказывание. Синтагма «грянул ливень» — это производная от «грянул гром». Она, очевидно, соединяется с грамматическими конструкциями творительный перемещения («идти лесом») + всем Х-ом («всем телом», «всем народом»). На наличие здесь этой конструкции уже указывал Жолковский. Однако мы обращаем внимание не столько на конструкции со свободной валентностью (как предыдущая), сколько на фразеологизм, лежащий в основе строк, — «стена дождя/ливня». Идиоматическая «стена» меняется у Пастернака на «плетень» по синонимическому принципу — ведь это почти одно и то же, но только более необычное, лучше подходящее к дачному пейзажу. И в результате весь пример, на наш взгляд, следует описывать как контаминацию выражения стена дождя/ливня, конструкции всем Х-ом и коллокации грянул гром. То есть эти устойчивые языковые обороты так тесно переплетаются, что можно поначалу даже проскользнуть, не зацепиться взглядом, но, если вдуматься, они оставляют ощущение странности — что-то здесь не так, так не говорят. Есть и противоположные случаи, сразу поражающие запутанностью образов. Они, наоборот, моментально приковывают внимание, о них спотыкаются и читатели, и исследователи — например, загадочные строки «расправляй / Губами вывих муравья» из «Нашей грозы». Такие случаи мы тоже, конечно, анализируем. Есть и примеры, которые, как нам кажется, надо рассматривать в тесном соседстве с двумя или тремя другими.
— Насколько часто у Пастернака происходит трансформация фразеологии, можно ли выявить какие-то закономерности работы с ней и складывается ли игра с идиоматикой в какую-то стройную выдержанную систему?
— Трансформация фразеологии у Пастернака происходит довольно часто. Именно поэтому мы, начав писать статью, сами не заметили, как она разрослась до книжки. Важно ведь не только количество отдельных случаев работы поэта с идиоматикой, но и плотность этих случаев. Мы решили, что тяжело рассказывать о каждой строке с измененным выражением по отдельности, поэтому после первой главы, посвященной классификации, с примерами разных типов, мы написали вторую главу, в которой разобрали целые строфы, а затем и третью, в которой полностью проанализировали стихотворения «Наша гроза», «Мухи мучкапской чайной» и «Mein Liebchen, was willst du noch mehr?» именно сквозь призму идиоматики. Хочется отметить, что последнее стихотворение — это такой случай, когда помимо фразеологических единиц в основе метафор лежит много других механизмов, например визуальные. И мы попытались продемонстрировать, что видим, в каких случаях наша методология отодвигается на второй план, в каких случаях она может давать сбой, а в каких идиоматика взаимодействует с иными «материалами» стихотворной речи.
На ваш вопрос интересно ответить еще и с точки зрения эволюции самого Пастернака. Системность обычно становится заметна издалека. Когда мы окидываем взглядом всю поэзию Пастернака, все его движение от сложности к простоте, к имитации разговорной речи, мы осознаем масштабность и глубину его работы с фразеологией на раннем этапе творчества, после чего она уступает место нормативности — примерно к времени создания книги «Когда разгуляется», которая, если можно прибегнуть к оценочному суждению, нам уже не так интересна с точки зрения языка. А на отрезке между ранним и поздним периодами, например, расположилась книга «Второе рождение», и в ней прослеживается промежуточный этап — Пастернак там уже не такой «темный», как раньше, но еще и не такой «светлый», каким станет позже.
— Обыгрывание идиоматики часто встречается в поэзии модернизма. Почему в случае с Пастернаком мы можем говорить об эволюции поэтического языка модернизма?
— Весь корпус модернистской поэзии предлагает множество примеров работы с идиоматикой, особенно простой. Если говорить о нормативном употреблении выражений или о семантизации, то такие типы обращения к фразеологии встречаются почти у всех — за исключением, видимо, тех поэтов, которые радикально ломают язык, сдвигают привычную грамматику или даже работают с разложением морфемного и фонетического уровней языка. Одновременно с этим есть и поэты, для которых идиоматика была одним из главных материалов создания сложных образов — среди них Мандельштам, Блок, иногда — Маяковский, иногда — Цветаева, но у двух последних по сравнению с Пастернаком, говоря навскидку, идиоматика используется в меньшей пропорции. Пастернак абсорбирует языковые поиски модернизма, он работает с этим языковым пластом в концентрированном виде и на глубинном уровне (хотя и не только на нем, иногда и на поверхностном). И книга «Сестра моя — жизнь» — именно та точка, в которой модернизм на примере Пастернака пытается и пересоздать поэтический язык, и сжать объем текста, сохранив смыслы и увеличив степень спаянности элементов, и сохранить мнемоничность за счет когнитивных механизмов, связанных с идиоматикой. На примере поэзии Пастернака становится понятно, какие процессы происходили и вне его, просто он за счет такой интенсивной работы с языком оказывается во многом образцом, наглядным случаем. Поэтому, как нам хочется думать, книга будет интересна не только пастернаковедам или любителям Пастернака, но и всем тем, кому важно наблюдать за языком поэзии как в синхронии, так и в диахронии. Тем, кто любит пристально читать отдельные строки, строфы, стихотворения, но также и тем, кому импонирует специальная оптика, объединяющая и высвечивающая отдельные феномены, темные места, запутанные метафоры, чтобы предложить для них целостное объяснение.
В Год литературы мы продолжаем цикл статей, посвященных юбилейным датам великих русских писателей и поэтов.
10 февраля 2015 года исполнилось 125 лет со дня рождения русского писателя и поэта Бориса Пастернака.
«Полёта вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворчество…»
Б. Пастернак
Биография
Борис Леонидович Пастернак (29 января [10 февраля] 1890, Москва — 30 мая 1960, Переделкино, Московская область) — русский поэт, писатель, один из крупнейших русских поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).
Будущий поэт родился в Москве в творческой еврейской семье. Родители Пастернака, отец — художник, академик Петербургской Академии художеств Леонид Осипович (Исаак Иосифович) Пастернак и мать — пианистка Розалия Исидоровна Пастернак (урождённая Кауфман, 1868—1939), переехали в Москву из Одессы в 1889 году, за год до его рождения. Борис появился на свет в доме на пересечении Оружейного переулка и Второй Тверской-Ямской улицы, где они поселились. Кроме старшего, Бориса, в семье Пастернаков родились Александр (1893—1982), Жозефина (1900—1993) и Лидия (1902—1989). Приблизительно до 1920 года Пастернак носил по документам отчество Исаакович.
Семья Пастернаков поддерживала дружбу с известными художниками (И. И. Левитаном, М. В. Нестеровым, В. Д. Поленовым, С. Ивановым, Н. Н. Ге), в доме бывали музыканты и писатели. В 1900 году во время второго визита в Москву с семьёй Пастернаков познакомился Райнер Рильке. В 13 лет, под влиянием композитора А. Н. Скрябина, Пастернак увлёкся музыкой, которой занимался в течение шести лет (сохранились две прелюдии и соната для фортепиано).
25 октября 1905 года попал под казачьи нагайки, когда на Мясницкой улице столкнулся с толпой митингующих, которую гнала конная полиция. Этот эпизод войдёт в книги Пастернака.
В 1900 году Пастернак не был принят в пятую госгимназию (ныне московская школа № 91) из-за процентной нормы, но по предложению директора на следующий 1901 год поступил сразу во второй класс. С 1906 по 1908 год в пятой гимназии на два класса младше, чем Пастернак, в одном классе с братом Пастернака Шурой учился Владимир Маяковский. Пастернак окончил гимназию с золотой медалью и всеми высшими баллами, кроме закона Божьего, от которого был освобождён. После ряда колебаний отказался от карьеры профессионального музыканта и композитора. В 1908 году поступил на юридическое отделение историко-филологического факультета Московского университета (впоследствии перевелся на философское). Летом 1912 году изучал философию в Марбургском университете в Германии у главы марбургской неокантианской школы проф. Германа Когена.
После поездки в Марбург Пастернак отказался и от того, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на философских занятиях. В это же время он начинает входить в круги московских литераторов. Он участвовал во встречах кружка символистского издательства «Мусагет», затем в литературно-артистическом кружке Юлиана Анисимова и Веры Станевич, из которого выросла недолговечная постсимволистская группа «Лирика». С 1914 Пастернак примыкал к содружеству футуристов «Центрифуга» (куда также входили другие бывшие участники «Лирики» — Николай Асеев и Сергей Бобров). В этом же году близко знакомится с другим футуристом — Владимиром Маяковским, чья личность и творчество оказали на него определённое влияние. Позже, в 1920-е, Пастернак поддерживал связи с группой Маяковского «ЛЕФ», но в целом после революции занимал независимую позицию, не входя ни в какие объединения.
Начало творчества
Первые стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году (коллективный сборник группы «Лирика»), первая книга — «Близнец в тучах» — в конце того же года (на обложке 1914), воспринималась самим Пастернаком как незрелая. В 1928 половина стихотворений «Близнеца в тучах» и три стихотворения из сборника группы «Лирика» были объединены Пастернаком в цикл «Начальная пора» и сильно переработаны (некоторые фактически переписаны полностью); остальные ранние опыты при жизни Пастернака не переиздавались. Тем не менее, именно после «Близнеца в тучах» Пастернак стал осознавать себя профессиональным литератором.
В 1916 году вышел сборник «Поверх барьеров». Зиму и весну 1916 года Пастернак провёл на Урале, под городом Александровском Пермской губернии, в посёлке Всеволодо-Вильва, приняв приглашение поработать в конторе управляющего Всеволодо-Вильвенскими химическими заводами Бориса Збарского помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчётности. Широко распространено мнение, что прообразом города Юрятина из «Доктора Живаго» является город Пермь. В этом же году поэт побывал на Березниковском содовом заводе на Каме. В письме к С. П. Боброву от 24 июня 1916 г. (на следующий день после отъезда из дома во Всеволодо-Вильве) Борис называет содовый завод «Любимов, Сольвэ и К» и поселок европейского образца при нём «маленькой промышленной Бельгией».
Поэт и эпоха. 1920 — 1950-е годы
Пастернаковский образ мира и способ его поэтической передачи находят наиболее полное воплощение на страницах третьей книги стихов «Сестра моя — жизнь» (1922), посвященной лету 1917 года между двумя революциями.
Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
Книга представляет собой лирический дневник, где за стихотворениями на темы любви, природы и творчества почти не видно конкретных примет исторического времени. Тем не менее Борис Пастернак утверждал, что в этой книге «выразил всё, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого».
В соответствии с эстетическими взглядами автора, для описания революции требовалась не историческая хроника в стихотворной форме, а поэтическое воспроизведение жизни людей и природы, охваченных событиями мирового, если не вселенского масштаба. Как ясно из заглавия книги, поэт ощущает свое глубинное родство со всем окружающим, и именно за счёт этого история любви, интимные переживания, конкретные детали жизни весной и летом 1917 года года претворяются в книгу о революции. Позже Пастернак назвал подобный подход «интимизацией истории», и этот способ разговора об истории как о части внутренней жизни её участников применялся им на протяжении творческого пути неоднократно.
В 20-е годы созданы также сборник «Темы и вариации» (1923), роман в стихах «Спекторский» (1925), цикл «Высокая болезнь», поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». В 1928 году Пастернак обращается к прозе. К 1930-му году он заканчивает автобиографические заметки «Охранная грамота», где излагаются его принципиальные взгляды на искусство и творчество.
На конец 20-х — начало 30-х годов приходится короткий период официального советского признания творчества Пастернака. Он принимает активное участие в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году выступает с речью на его первом съезде, на котором Н.И. Бухарин призывал официально назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза. Его большой однотомник с 1933 по 1936 год ежегодно переиздаётся.
С середины 1930-х годов и до самого конца жизни одним из главных литературных занятий Пастернака становится переводческая деятельность. Он переводит современную и классическую грузинскую поэзию, трагедии У. Шекспира («Отелло», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Ромео и Джульетта»), «Фауста» И. Гете и многое другое, стремясь при этом не к точной передаче языковых особенностей оригинала, но, напротив, к созданию «русского Шекспира» и пр.
В 1940 — 1941 годах после долгого перерыва Б. Пастернак вновь начинает писать стихи, которые вместе с циклом «Стихи о войне» составили книгу «На ранних поездах» (1943). Стихи этого периода, свидетельствующие о верности Пастернака кругу избранных тем и мотивов, отмечены стремлением к преодолению сложности языка, свойственной его ранней поэзии.
Поэзия Пастернака лишена суетности, мелочности. Она обращена к вечности, общечеловеческим понятиям, к постижению смысла творчества, искусства. Поэт стремится философски осмыслить бытие, узнать тайну жизни. Его кредо запечатлено в стихотворении «Во всём мне хочется дойти до самой сути…»:
Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины…
А как не процитировать хотя бы начало стихотворения Пастернака «Определение поэзии»?
Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок.
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьёв поединок
В 1936 Пастернак поселяется на даче в Переделкине, где с перерывами проживёт до конца жизни. С 1939 по 1960 живёт на даче по адресу: улица Павленко, 3 (сейчас мемориальный музей).
Последние годы жизни. Позднее творчество
Начиная с 30-х годов положение Пастернака было весьма двойственным. Как точно определил сын и биограф поэта Евгений Пастернак:
Все, за малым исключением, признавали его художественное мастерство. При этом его единодушно упрекали в мировоззрении, не соответствующем эпохе, и безоговорочно требовали тематической и идейной перестройки.
Место Бориса Пастернака в советской литературе определил кремлевский бард Демьян Бедный:
А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент…
Он слышал звуки, неуловимые для других, — отмечал Илья Эренбург, — слышал, как бьётся сердце и как растёт трава, но поступи века так и не расслышал…
В 1943 году вышла книга стихов «На ранних поездах», а летом 45-го — последнее прижизненное издание «Избранные стихи и поэмы». В 1948 году весь тираж «Избранного» уничтожили. И на долю поэта остались лишь переводы — жить-то было надо.
Гул затих. Я вышел на подмостки…
— это начало стихотворения «Гамлет». А заканчивается оно пронзительным ощущением одиночества:
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Главная книга Бориса Пастернака
В начале 1946 года Пастернак, по его словам, приступает к «большой прозе». Первоначальные «Мальчики и девочки» переросли в роман «Доктор Живаго», завершённый к осени 1956 года. Как известно, роман попал за границу. 23 октября 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию. И тут началась истеричная травля писателя: как он посмел отправить рукопись на враждебный Запад? Коллеги пинали Пастернака ногами, приклеивая ему злобные ярлыки типа «литературный сорняк»… А Пастернак недоумевал, отчего он попал в разряд гонимых.
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет…
— писал он в стихотворении «Нобелевская премия».
Травля привела к скоротечной болезни, и Пастернак скончался на 71-м году жизни. За месяц до своей кончины он написал:
По слепому случаю судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, — художник оказался в моем случае не затёртым и не растоптанным.
Следует знать, что просто так Нобелевские премии не дают. С её помощью повышают статус тех или иных политических деятелей, литераторов, учёных и их исследований.
Следует задаться вопросом о том «Зачем Запад дал Пастернаку Нобелевскую премию?» И был ли предоставившийся, по словам Пастернака «слепой случай» таким уж слепым? И не послужил ли Пастернак одним из символов, с помощью которого ударили по репутации Советского Союза: «Смотрите, там травят лауреата Нобелевской премии! Зажимают свободу!»
После этого возник посмертный «пастернаковский бум». Вся интеллигенция, на которую и сделали ставку создатели внутренней оппозиции в виде диссидентства, запоем читала поэта и внимала его заветам. В стихотворении «Быть знаменитым некрасиво…» Пастернак писал:
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь.
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только, до конца.
Незадолго до смерти поэта в Переделкино приезжал знаменитый американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн. Он ужасался порядкам в России в полном соответствии с «программой действий» и сетовал на то, как трудно вести разговор с министром культуры. На что Пастернак ответил:
При чем тут министры? Художник разговаривает с Б-гом, и тот ставит ему различные представления, чтобы ему было что писать. Это может быть фарс, как в вашем случае, а может быть трагедия.
И тут уместно привести характеристику Эренбурга, которую он дал Пастернаку:
… Жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже весёлым с другими, знал только одного собеседника: самого себя… Борис Леонидович жил для себя — эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собою…
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно — что жилы отворить.
Это написано Пастернаком в далеком 1918 году. Стихотворение называется «Разрыв».
«Доктор Живаго»
Роман «Доктор Живаго» создавался в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год. Являясь, по оценке самого писателя, вершиной его творчества как прозаика, роман являет собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Роман пронизан высокой поэтикой, сопровождён стихами главного героя — Юрия Андреевича Живаго. Во время написания романа Пастернак не раз менял его название. Роман мог называться «Мальчики и девочки», «Свеча горела», «Опыт русского Фауста», «Смерти нет».
Роман, затрагивающий сокровенные вопросы человеческого существования — тайны жизни и смерти, вопросы истории, христианства, еврейства, был резко негативно встречен властями и официальной советской литературной средой, отвергнут к печати из-за неоднозначной позиции автора к октябрьскому перевороту и последующим изменениям в жизни страны. Так, например, Э.Г. Казакевич, прочитав роман, заявил:
Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение и лучше было её не делать.
К.М. Симонов, главный редактор «Нового мира», также отреагировал отказом:
Нельзя давать трибуну Пастернаку!.
Публикация романа на Западе — сначала в Италии в 1957 году прокоммунистически настроенным издательством Фельтринелли, а потом в Великобритании, при посредничестве известного философа и дипломата сэра Исайи Берлина — привела к настоящей травле Пастернака в советской печати, исключению его из Союза писателей СССР, откровенным оскорблениям в его адрес со страниц советских газет, на собраниях трудящихся. Московская организация Союза Писателей СССР, вслед за Правлением Союза Писателей, требовали высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его советского гражданства. Среди литераторов, требовавших высылки, были Л.И. Ошанин, А.И. Безыменский, Б.A. Слуцкий, С.A. Баруздин, Б.Н. Полевой и многие другие. Следует отметить, что отрицательное отношение к роману высказывалось и некоторыми русскими литераторами на Западе, в том числе В.В. Набоковым.
Нобелевская премия. Травля
С 1946 по 1950 годы Пастернак ежегодно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатура была предложена прошлогодним лауреатом Альбером Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым писателем из России (после И.A. Бунина), удостоенным этой награды.
Присуждение премии воспринималось советской пропагандой как повод усилить травлю. Так, «Литературная газета» 25 октября 1958 года писала:
Пастернак получил «тридцать серебреников», для чего использована Нобелевская премия. Он награждён за то, что согласился исполнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской пропаганды… Бесславный конец ждёт воскресшего Иуду, доктора Живаго, и его автора, уделом которого будет народное презрение.
Публицист Давид Заславский, в свою очередь, напечатал в «Правде» статью «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».
В писательской среде Нобелевская премия Пастернаку тоже была воспринята негативно. По поводу вручения премии Сергей Смирнов сказал:
…они ухитрились не заметить Толстого, Горького, Маяковского, Шолохова, но зато заметили Бунина. И только тогда, когда он стал эмигрантом, и только потому, что он стал эмигрантом и врагом советского народа.
В результате массовой кампании давления Пастернак отказался от Нобелевской премии. В телеграмме, посланной в адрес Шведской академии, Пастернак писал:
В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ.
Кончина и память
Пастернак умер от рака лёгкого 30 мая 1960 в Переделкине. Сообщение о его смерти было напечатано только в «Литературной газете» (от 2 июня) и в газете «Литература и жизнь» (от 1 июня).
Сотни людей (среди них Наум Коржавин, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский и др.) пришли 2 июня 1960 года на его похороны, несмотря на опалу поэта. Александр Галич посвятил его смерти одну из своих песен:
…До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели…
(. . .)
А над гробом встали мародёры,
И несут почётный караул…
Ка-ра-ул!
Последнее слово «караул» может быть растолковано двояко: это и повторение предыдущего, но это и отчаянный крик о помощи, о неотвратимости происходящего. Однако точно описаны пришедшие на похороны как мародёры, которые использовали его имя и творчество для взращивания диссидентского психологического потенциала в обществе, без которого катастрофа 1991 года была бы невозможной.
Реабилитация
Негативное отношение советского официоза к Пастернаку постепенно спадало после его смерти. В статье о Пастернаке из Большой Советской энциклопедии подробно описывается его творчество и говорится о его житейских трудностях в 50-е годы. Но о публикации романа речи не шло.
В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено. В 1988 году «Доктор Живаго» впервые был напечатан в СССР («Новый Мир»). 9 декабря 1989 года диплом и медаль Нобелевского лауреата были вручены в Стокгольме сыну поэта — Евгению Пастернаку. Под его же редакцией вышло несколько собраний сочинений поэта, в последние годы в России издаются многочисленные сборники, воспоминания и материалы к биографии писателя.
Постановки по произведениям Пастернака
В 1987 году состоялась премьера написанной годом ранее оперы британского композитора Найджела Осборна «Электрификация Советского Союза» по мотивам произведений Бориса Пастернака.
«Доктор Живаго» впервые был экранизирован в Бразилии в 1959, когда был поставлен одноимённый телефильм («Doutor Jivago»).
Самой известной в мире экранизацией романа остаётся голливудский фильм 1965 года Дэвида Лина, получивший 5 премий «Оскар».
Третья постановка также была осуществлена за рубежом — режиссёром Джакомо Кампиотти (итал. Giacomo Campiotti) в 2002 году. В России «Доктор Живаго» экранизирован в 2005 году Александром Прошкиным. В роли доктора Живаго снялся Олег Меньшиков. Эта экранизация вызвала неоднозначные отзывы критики.
В 2006 году в Пермском академическом театре «Театр» режиссёром Борисом Мильграмом, композитором Александром Журбиным и драматургом Михаилом Бартеневым был поставлен мюзикл «Доктор Живаго». Премьера состоялась 30 декабря.
Музеи. Увековечение памяти. Интересные факты
Первые государственные музеи, экспозиции которых посвящены Пастернаку, появились в России в год 100-летия со дня его рождения. Тогда музей Пастернака открыл свои двери в Чистополе, в доме, где поэт жил в эвакуации в годы Великой Отечественной войны (1941—1943), и в Переделкине, где он жил долгие годы вплоть до своей смерти. (Официально дом-музей в Переделкине был основан ещё в 1986). Директор дома-музея поэта — Наталья Пастернак, приходящаяся ему невесткой (вдова младшего сына Леонида).
В 2008 году во Всеволодо-Вильве (Пермский край) был открыт музей «Дом Пастернака», в котором начинающий поэт жил с января по июнь 1916 года.
В 2009 году, в день города, в Перми был открыт первый в России памятник Пастернаку (скульптор — Елена Мунц). Он располагается в сквере около Оперного театра.
Мемориальная доска есть на доме, где родился Пастернак (Оружейный переулок, д. 3).
До 1989 в школьной программе по литературе о творчестве Пастернака и вообще о его существовании не было никаких упоминаний.
Массовый советский телезритель впервые познакомился со стихами Пастернака в 1976 в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Стихотворение «Никого не будет в доме» (1931), преобразившееся в городской романс, за кадром проникновенно исполнено под гитару Сергеем Никитиным и сразу стало широко известным. Позднее Эльдар Рязанов включил отрывок из другого стихотворения Пастернака в фильм «Служебный роман», правда в фарсовом эпизоде. В 1970-х, 1980-х для цитирования Пастернака в популярном кино от режиссёра требовалась известная смелость.
В чём же заключается значение Бориса Пастернака для русской и мировой литератур?
Он показал трагедию ХХ столетия через призму человеческих душ, воспроизвёл все переживания творческой личности, которая попала на перекрёсток зла и насилия, и смогла сохранить в себе свободу и живой дух. «Доктор Живаго»: живой — Живаго, «Во имя Духа Живаго…». Юрий Живаго, герой произведения, — доктор, он, несмотря ни на что, сохраняет в себе ощущение свободы, способность мыслить и любить. Но он не может жить в мире зла и насилия. Его смерть символична. Но Пастернак утверждает мысль, что дух человека остаётся жить и после смерти. Поэтому роман завершается стихами Юрия Живаго, которые несут свет и отрицают темноту и мрак жестокости.
Пастернак — создавал философскую поэзию, насыщенную сложными вопросами эпохи, которые разрешал, прежде всего, с моральной позиции.
В творчестве Пастернака мы находим и отражение жизни в его реальных формах, и символические знаки, и футуристические поиски, и романтические мечтания, и импрессионистические зарисовки. Его творчество достаёт вершин мирового искусства и ставит автора на почётное место среди классиков ХХ столетия.
Материалы:
http://pasternak.ouc.ru/biografiya.html
http://ref.repetiruem.ru/referat/boris-pasternak — реферат
http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/oldage/pasternak/
http://to-name.ru/biography/boris-pasternak.htm — Живаго
http://shkolyaru.ru/klassicheskaya/pasternak/385-zhizn-i-tvorchestvo-borisa-pasternaka.html
http://ref.repetiruem.ru/referat/boris-pasternak/1
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Пастернак.
Запрос «Борис Пастернак» перенаправляется сюда; см. также другие значения.
| Борис Пастернак | |||
 |
|||
| Имя при рождении: |
Борис Леонидович Пастернак |
||
|---|---|---|---|
| Дата рождения: |
29 января (10 февраля) 1890 |
||
| Место рождения: |
Москва, Российская империя |
||
| Дата смерти: |
30 мая 1960 (70 лет) |
||
| Место смерти: |
Переделкино, Московская область, СССР |
||
| Гражданство: |
|
||
| Род деятельности: |
поэт, прозаик, переводчик |
||
| Годы творчества: |
1911—1960 |
||
| Направление: |
футуризм (группа «Центрифуга»), после революции — «вне групп» |
||
| Дебют: |
стихотворения в сборнике «Лирика» (1912), первый авторский сборник — «Близнец в тучах» (1913) |
||
| Премии: |
|
||
| Награды: |
|
||
| Произведения в Викитеке. |
Автограф Пастернака
Бори́с Леони́дович Пастерна́к (29 января [10 февраля] 1890, Москва — 30 мая 1960, Переделкино, Московская область) — русский поэт, писатель, один из крупнейших поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).
Содержание
- 1 Жизнь и творчество
- 2 Пастернак и Грузия
- 3 «Доктор Живаго»
- 4 Нобелевская премия. Травля
- 5 Кончина и память
- 6 После смерти
- 7 Реабилитация
- 8 Постановки по произведениям Пастернака
- 9 Музеи. Увековечение памяти
- 10 Интересные факты
- 11 Библиография
- 11.1 Произведения и книги
- 11.2 Переводы
- 12 Литература о Пастернаке
- 12.1 Документы
- 12.2 Мемуары
- 12.3 Исследования
- 12.4 Беллетристика
- 13 Фильмография
- 14 См. также
- 15 Примечания
- 16 Ссылки
[править] Жизнь и творчество
Будущий поэт родился в Москве в творческой еврейской семье. Родители Пастернака, отец — художник, академик Петербургской Академии художеств Леонид Осипович (Исаак Иосифович) Пастернак и мать — пианистка Розалия Исидоровна Пастернак (урождённая Кауфман, 1868—1939), переехали в Москву из Одессы в 1889 году, за год до его рождения. Борис появился на свет в доме на пересечении Оружейного переулка и Второй Тверской-Ямской улицы, где они поселились. Кроме старшего, Бориса, в семье Пастернак родились Александр (1893—1982), Жозефина (1900—1993) и Лидия (1902—1989)[1][2]. В некоторых официальных документах ещё начала 1900-х годов Б. Л. Пастернак фигурировал как «Борис Исаакович (он же Леонидович)»[3]
Семья Пастернак поддерживала дружбу с известными художниками (И. И. Левитаном, М. В. Нестеровым, В. Д. Поленовым, С. Ивановым, Н. Н. Ге), в доме бывали музыканты и писатели. В 1900 году во время второго визита в Москву с семьёй Пастернак познакомился Райнер Рильке. В 13 лет, под влиянием композитора А. Н. Скрябина, Пастернак увлёкся музыкой, которой занимался в течение шести лет (сохранились две прелюдии и соната для фортепиано).
25 октября 1905 года попал под казачьи нагайки, когда на Мясницкой улице столкнулся с толпой митингующих, которую гнала конная полиция. Этот эпизод войдёт в книги Пастернака.
В 1900 году Пастернак не был принят в 5-ю московскую гимназию (ныне московская школа № 91[4]) из-за процентной нормы, но по предложению директора на следующий 1901 год поступил сразу во второй класс. С 1906 по 1908 год в пятой гимназии на два класса младше, чем Пастернак, в одном классе с братом Пастернака Шурой учился Владимир Маяковский.
В 1908 году, одновременно с подготовкой к выпускным экзаменам в гимназии, под руководством Ю. Д. Энгеля и Р. М. Глиэра готовился к экзамену по курсу композиторского факультета Московской консерватории[5]. Пастернак окончил гимназию с золотой медалью и всеми высшими баллами, кроме закона Божьего, от которого был освобождён. На пути осознания своего предначертания не простым оказался выбор между музыкой и философией, между философией и поэзией. Пример родителей, добившихся высоких профессиональных успехов неустанным трудом, отозвался в Пастернаке стремлением во всём «дойти до самой сути, в работе, в поисках пути…» В. Асмус[6] отмечал, что «ничто не было так чуждо Пастернаку, как совершенство наполовину». Вспоминая впоследствии свои переживания, поэт писал в «Охранной грамоте»
Больше всего на свете я любил музыку… Но у меня не было абсолютного слуха…
После ряда колебаний отказался от карьеры профессионального музыканта и композитора[7]:
Музыку, мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал из себя, как расстаются с самым драгоценным
В 1908 году поступил на юридический факультет Московского университета (в 1909 году перевелся на философское отделение историко-филологического факультета).
Летом 1912 года изучал философию в Марбургском университете в Германии у главы марбургской неокантианской школы проф. Германа Когена, который советовал Пастернаку продолжить карьеру философа в Германии. Тогда же сделал предложение Иде Высоцкой (дочери крупного чаеторговца Д. В. Высоцкого), но получил отказ, как описано в стихотворении «Марбург» и автобиографической повести «Охранная грамота». В 1912 году вместе с родителями и сёстрами посещает Венецию, что нашло отражение в его стихах того времени. Виделся в Германии с кузиной Ольгой Фрейденберг (дочерью литератора и изобретателя Моисея Филипповича Фрейденберга). С ней его связывала многолетняя дружба и переписка.
После поездки в Марбург Пастернак отказался и от того, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на философских занятиях. В это же время он начинает входить в круги московских литераторов. Он участвовал во встречах кружка символистского издательства «Мусагет», затем в литературно-артистическом кружке Юлиана Анисимова и Веры Станевич, из которого выросла недолговечная постсимволистская группа «Лирика». С 1914 года Пастернак примыкал к содружеству футуристов «Центрифуга» (куда также входили другие бывшие участники «Лирики» — Николай Асеев и Сергей Бобров). В этом же году близко знакомится с другим футуристом — Владимиром Маяковским, чья личность и творчество оказали на него определённое влияние. Позже, в 1920-е годы, Пастернак поддерживал связи с группой Маяковского «ЛЕФ», но в целом после революции занимал независимую позицию, не входя ни в какие объединения.
Первые стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году (коллективный сборник группы «Лирика»), первая книга — «Близнец в тучах» — в конце того же года (на обложке — 1914), воспринималась самим Пастернаком как незрелая. В 1928 году половина стихотворений «Близнеца в тучах» и три стихотворения из сборника группы «Лирика» были объединены Пастернаком в цикл «Начальная пора» и сильно переработаны (некоторые фактически переписаны полностью); остальные ранние опыты при жизни Пастернака не переиздавались. Тем не менее, именно после «Близнеца в тучах» Пастернак стал осознавать себя профессиональным литератором.
В 1916 году вышел сборник «Поверх барьеров». Зиму и весну 1916 года Пастернак провёл на Урале, под городом Александровском Пермской губернии, в посёлке Всеволодо-Вильва, приняв приглашение поработать в конторе управляющего Всеволодо-Вильвенскими химическими заводами Бориса Збарского помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчётности. Широко распространено мнение, что прообразом города Юрятина из «Доктора Живаго» является город Пермь. В этом же году поэт побывал на Березниковском содовом заводе на Каме. В письме к С. П. Боброву от 24 июня 1916 г. (на следующий день после отъезда из дома во Всеволодо-Вильве) Борис называет содовый завод «Любимов, Сольвэ и К» и поселок европейского образца при нём «маленькой промышленной Бельгией»[8].
Родители Пастернака и его сёстры в 1921 году покидают советскую Россию по личному ходатайству А. В. Луначарского и обосновываются в Берлине. Начинается активная переписка Пастернака с ними и русскими эмиграционными кругами вообще, в частности, с Мариной Цветаевой. В 1926 году началась переписка с Р.-М. Рильке.
В 1922 году Пастернак женится на художнице Евгении Лурье, с которой проводит в гостях у родителей в Берлине вторую половину года и всю зиму 1922—1923 годов. В том же 1922 году выходит программная книга поэта «Сестра моя — жизнь», большинство стихотворений которой были написаны ещё летом 1917 года. В следующем 1923 году, 23 сентября, в семье Пастернаков рождается сын Евгений (скончался в 2012 году).
В 20-е годы созданы также сборник «Темы и вариации» (1923), роман в стихах «Спекторский» (1925), цикл «Высокая болезнь», поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». В 1928 году Пастернак обращается к прозе. К 1930-му году он заканчивает автобиографические заметки «Охранная грамота», где излагаются его принципиальные взгляды на искусство и творчество.
Пастернак и Чуковский на первом съезде Союза писателей в 1934 году
На конец 20-х — начало 30-х годов приходится короткий период официального советского признания творчества Пастернака. Он принимает активное участие в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году выступает с речью на его первом съезде, на котором Н. И. Бухарин призывал официально назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза. Его большой однотомник с 1933 по 1936 год ежегодно переиздаётся.
Познакомившись с Зинаидой Николаевной Нейгауз (в девичестве Еремеевой, 1897—1966), в то время женой пианиста Г. Г. Нейгауза, вместе с ней в 1931 году Пастернак предпринимает поездку в Грузию (см. ниже). Прервав первый брак, в 1932 году Пастернак женится на З. Н. Нейгауз. В том же году выходит его книга «Второе рождение» — попытка Пастернака влиться в дух того времени. В ночь на 1 января 1938 года у Пастернака и его второй жены рождается сын Леонид (будущий физик, ум. в 1976).
В 1935 году Пастернак участвует в работе проходящего в Париже Международного конгресса писателей в защиту мира, где с ним случается нервный срыв (последняя его поездка за границу). Белорусский писатель Якуб Колас в своих мемуарах вспоминал жалобы Пастернака на нервы и бессоницу:
Тут же увидишь и Бориса Пастернака, его как бы испуганное выражение лица, услышишь его громкую речь и жалобу на нервы и бессоницу[9].
Оригинальный текст (белор.)
Тут жа згледзіш і Барыса Пастарнака, яго як бы спалоханае выржэнне твару, пачуеш яго громкую гутарку і скаргу на нервы і бяссоніцу
В 1935 году Пастернак заступился за мужа и сына Анны Ахматовой, освобожденных из тюрем после писем Сталину Пастернака и Ахматовой. В декабре 1935 года Пастернак шлет в подарок Сталину книгу переводов Грузинские лирики и в сопроводительном письме благодарит за «чудное молниеносное освобождение родных Ахматовой» и далее пишет:
В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нём отозвались на мне спасительно. Последнее время меня под влиянием Запада страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел): во мне стали подозревать серьёзную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.
— [10]
В январе 1936 года Пастернак публикует два стихотворения, обращенные со словами восхищения к И. В. Сталину. Однако уже к середине 1936 года отношение властей к нему меняется — его упрекают не только в «отрешённости от жизни», но и в «мировоззрении, не соответствующем эпохе», и безоговорочно требуют тематической и идейной перестройки. Это приводит к первой длительной полосе отчуждения Пастернака от официальной литературы. По мере ослабевающего интереса к советской власти, стихи Пастернака приобретают более личный и трагический оттенок.
В 1937 году проявляет огромное гражданское мужество — отказывается подписать письмо с одобрением расстрела Тухачевского и других, демонстративно посещает дом репрессированного Пильняка.
В 1936 году поселяется на даче в Переделкино, где с перерывами проживёт до конца жизни. С 1939 по 1960 год живёт на даче по адресу: улица Павленко, 3 (сейчас мемориальный музей). Его московский адрес в писательском доме с середины 1930-х до конца жизни: Лаврушинский переулок, д.17/19, кв.72.[11]
К концу 30-х годов он обращается к прозе и переводам, которые в 40-х годах становятся основным источником его заработка. В тот период Пастернаком создаются ставшие классическими переводы многих трагедий Шекспирa, «Фауста» Гёте, «Марии Стюарт» Ф. Шиллера.
1942—1943 годы провёл в эвакуации в Чистополе. Помогал денежно многим людям, в том числе дочери Марины Цветаевой — Ариадне Эфрон.
В 1943 году выходит книга стихотворений «На ранних поездах», включающая четыре цикла стихов предвоенного и военного времени.
В 1946 году Пастернак познакомился с О. В. Ивинской и она стала «музой» поэта. Он посвятил ей многие стихотворения. До самой смерти Пастернака их связывали близкие отношения.
В 1952 году у Пастернака произошёл первый инфаркт, описанный в стихотворении «В больнице», полном глубокого религиозного чувства:
«О Господи, как совершенны
дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
<…>
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр».
[править] Пастернак и Грузия
Впервые интерес Пастернака к Грузии проявился в 1917 году, когда было написано стихотворение «Памяти Демона», в которым зазвучала навеянная творчеством Лермонтова кавказская тема.
В октябре 1930 года Пастернак познакомился с приехавшим в Москву грузинским поэтом Паоло Яшвили.
В июле 1931 года по приглашению П. Яшвили Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной Нейгауз и её сыном Адрианом (Адиком) приехали в Тифлис. Там началось знакомство и последовала тесная дружба с Тицианом Табидзе[12], Г. Леонидзе, С. Чиковани, Ладо Гудиашвили, Николо Мицишвили и многими другими деятелями грузинского искусства.
Впечатления от трёхмесячного пребывания в Грузии, тесное соприкосновение с её самобытными культурой и историей оставили заметный след в духовном мире Пастернака.
6 апреля 1932 года он организовал в Москве литературный вечер грузинской поэзии, отдавая тем самым дань таланту старых и современных поэтов: Николоза Бараташвили, Паоло Яшвили, Тициана Табидзе и других. 30 июня Пастернак написал П. Яшвили[13]
В августе 1932 года вышла книга «Второе рождение»[14] с включённым в неё циклом «Волны», полным восторга, который вызвала в нём тогда Грузия
| …Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай, Теплицу льдам возьмём подножьем, И мы получим этот край… |
В ноябре 1933 года Пастернак поехал во вторую поездку в Грузию уже в составе писательской бригады (Н. Тихонов, Ю. Тынянов, О. Форш, П. Павленко и В. Гольцев). В 1932—1933 годах Пастернак увлечённо занимался переводами грузинских поэтов.
В 1934 году в Грузии и в Москве был издан пастернаковский перевод поэмы Важи Пшавелы «Змееед».
4 января 1935 года на 1-м Всесоюзном совещании переводчиков Пастернак рассказал о своих переводах грузинской поэзии. 3 февраля того же года он читал их на конференции «Поэты Советской Грузии».
В феврале 1935 года вышли книги: в Москве «Грузинские лирики» в переводах Пастернака (оформление художника Ладо Гудиашвили)[15], а в Тифлисе — «Поэты Грузии» в переводах Пастернака и Тихонова.
В 1936 году был завершён ещё один грузинский цикл стихов — «Из летних заметок», посвящённый «друзьям в Тифлисе»[16].
22 июля 1937 года застрелился Паоло Яшвили. В августе Пастернак написал его вдове[17]
10 октября был арестован, а 16 декабря расстрелян Тициан Табидзе. Пастернак на протяжении многих лет материально и морально поддерживал его семью[18]. В этом же году был репрессирован ещё один грузинский друг Пастернака — Н. Мицишвили.
Когда в Москву, перед войной, вернулась М. И. Цветаева, по ходатайству Пастернака в Гослитиздате ей давали переводческую работу[19], в том числе из грузинских поэтов. Цветаева перевела три поэмы Важа Пшавела (больше 2000 строк)[20], но жаловалась на трудности грузинского языка.
Дом-музей поэта Н.Бараташвили в Тбилиси
В 1945 году Пастернак завершил перевод практически всех сохранившихся стихотворений и поэм Н. Бараташвили[21]. 19 октября по приглашению Симона Чиковани он выступил на юбилейных торжествах Бараташвили в тбилисском Театре имени Руставели.
В 1946 году Пастернак написал две статьи: «Николай Бараташвили» и «Несколько слов о новой грузинской поэзии»[22]. В последней не упоминались имена бывших под запретом П. Яшвили и Т. Табидзе, но строки о них он включил в 1956 году в специальные главы очерка «Люди и положения», который был напечатан в «Новом мире» только в январе 1967 года[23].
В октябре 1958 года среди первых поздравивших Пастернака с Нобелевской премией была гостившая в его доме вдова Тициана Табидзе — Нина.
С 20 февраля по 2 марта 1959 года состоялась последняя поездка Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны в Грузию. Поэту хотелось подышать воздухом молодости, побывать в домах, где когда-то жили его ушедшие друзья; другой важной причиной было то, что власти заставили Пастернака покинуть Москву на время визита в СССР британского премьер-министра Г. Макмиллана, желавшего повидать переделкинского затворника и лично выяснить причины, по которым он отказался от Нобелевской премии[24][25]. По просьбе Пастернака Нина Табидзе пыталась сохранить его приезд в тайне, только в доме художника Ладо Гудиашвили был устроен вечер с избранным кругом друзей.
Попытки осмыслить и понять корни грузинской культуры привели писателя к замыслу разработать тему раннехристианской Грузии. Пастернак начал подбирать материалы о жизнеописаниях святых грузинской церкви, археологических раскопках, грузинском языке. Однако, из-за преждевременной смерти поэта замысел остался неосуществлённым.
Начавшаяся в начале 1930-х годов дружба с видными представителями грузинского искусства, общение и переписка с которыми длились почти тридцать лет[26], привела к тому, что для Пастернака Грузия поистине стала «второй родиной». Из письма Нине Табидзе[27]
Искренний интерес и любовь к народу и культуре Грузии вселили в Пастернака уверенность героя поэмы Н. Бараташвили «Судьба Грузии» Ираклия II в будущем столь радушно встречавшей его страны[28]
1990 год был объявлен ЮНЕСКО «годом Пастернака». Устроители юбилейной мемориальной выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выделили тему «Пастернак и Грузия» в отдельный раздел[29].
[править] «Доктор Живаго»
Портрет Пастернака перед входом в книжный магазин Feltrinelli, Рим, 2012 г.
Роман «Доктор Живаго» создавался в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год. Являясь, по оценке самого писателя, вершиной его творчества как прозаика, роман являет собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Роман пронизан высокой поэтикой, сопровождён стихами главного героя — Юрия Андреевича Живаго. Во время написания романа Пастернак не раз менял его название. Роман мог называться «Мальчики и девочки», «Свеча горела», «Опыт русского Фауста», «Смерти нет».
Роман, затрагивающий сокровенные вопросы человеческого существования — тайны жизни и смерти, вопросы истории, христианства, еврейства, был резко негативно встречен властями и официальной советской литературной средой, отвергнут к печати из-за «неоднозначной позиции автора к октябрьскому перевороту и последующим изменениям в жизни страны». Так, например, Э. Г. Казакевич, прочитав роман, заявил: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение и лучше было её не делать», К. М. Симонов, главный редактор «Нового мира», также отреагировал отказом : «Нельзя давать трибуну Пастернаку!».
Публикация романа на Западе — сначала в Италии в 1957 году издательством коммуниста Фельтринелли, а потом в Великобритании, при посредничестве известного философа и дипломата сэра Исайи Берлина — привела к настоящей травле Пастернака в советской печати, исключению его из Союза писателей СССР, откровенным оскорблениям в его адрес со страниц советских газет, на собраниях «трудящихся». Московская организация Союза Писателей СССР, вслед за Правлением Союза Писателей, требовали высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его советского гражданства. Среди литераторов, требовавших высылки, были Л. И. Ошанин, А. И. Безыменский, Б. A. Слуцкий, С. A. Баруздин, Б. Н. Полевой и многие другие (см. стенограмму заседания Общемосковского собрания писателей в разделе «Ссылки»). Следует отметить, что отрицательное отношение к роману высказывалось и некоторыми русскими литераторами на Западе, в том числе В. В. Набоковым.
[править] Нобелевская премия. Травля
Марка СССР, 1990 г.
С 1946 по 1950 годы Пастернак ежегодно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатура была предложена прошлогодним лауреатом Альбером Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым писателем из России (после И. A. Бунина), удостоенным этой награды.
Присуждение премии воспринималось советской пропагандой как повод усилить травлю. Так, «Литературная газета» 25 октября 1958 года писала: «Пастернак получил „тридцать серебреников“, для чего использована Нобелевская премия. Он награждён за то, что согласился исполнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской пропаганды… Бесславный конец ждёт воскресшего Иуду, доктора Живаго, и его автора, уделом которого будет народное презрение».[30]
Публицист Давид Заславский, в свою очередь, напечатал в «Правде» статью «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».
В писательской среде Нобелевская премия Пастернаку тоже была воспринята негативно. По поводу вручения премии Сергей Смирнов сказал:
«…они ухитрились не заметить Толстого, Горького, Маяковского, Шолохова, но зато заметили Бунина. И только тогда, когда он стал эмигрантом, и только потому, что он стал эмигрантом и врагом советского народа».
Сергей Михалков откликнулся на присуждение Пастернаку премии басней про «некий злак, который звался Пастернак».
29 октября 1958 на Пленуме ЦК ВЛКСМ Владимир Семичастный, в то время — первый секретарь ЦК комсомола, заявил (как он впоследствии утверждал — по указанию Хрущёва)[31]:
«…как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым „произведением“. <…> если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. <…> А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился, о котором он в своем произведении высказался. Я уверен, что наша общественность приветствовала бы это».[32]
Травля поэта получила в народных воспоминаниях название: «Не читал, но осуждаю!». Обличительные митинги проходили на рабочих местах, в институтах, заводах, чиновных организациях, творческих союзах, где составлялись коллективные оскорбительные письма с требованием кары опального поэта.
Несмотря на то, что премия была присуждена Пастернаку «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа», усилиями официальных советских властей она должна была надолго запомниться только как прочно связанная с романом «Доктор Живаго», антисоветская сущность которого постоянно выявлялась в то время агитаторами, литературными критиками, лекторами общества «Знание» и т. д.[33][34][35][36] В результате массовой кампании давления Пастернак отказался от Нобелевской премии[37]. В телеграмме, посланной в адрес Шведской академии, Пастернак писал : «В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ».
Джавахарлал Неру и Альбер Камю взяли на себя ходатайство за нового нобелевского лауреата Пастернака перед Никитой Сергеевичем Хрущевым, но всё оказалось тщетно, хотя, конечно, писатель не был ни расстрелян, ни посажен в тюрьму[источник не указан 587 дней].
Несмотря на исключение из Союза Писателей СССР, Пастернак продолжает оставаться членом Литфонда, получать гонорары, публиковаться. Неоднократно высказывавшаяся его гонителями мысль о том, что Пастернак, вероятно, захочет покинуть СССР, была им отвергнута — Пастернак в своём письме на имя Хрущёва написал: «Покинуть Родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой».[38]
Из-за опубликованного на Западе стихотворения «Нобелевская премия» Пастернак в феврале 1959 года был вызван к Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко, где ему угрожали обвинением по статье 64 «Измена Родине», однако никаких последствий для него это событие не имело, возможно потому, что стихотворение было опубликовано без его разрешения.
Летом 1959 года Пастернак начинает работу над оставшейся незавершённой пьесой «Слепая красавица», но обнаруженный вскоре рак лёгких в последние месяцы жизни приковывает его к постели.
Дмитрий Быков, написавший художественную биографию Пастернака, считает, что болезнь развилась на нервной почве во время травли, и возлагает на власти ответственность за смерть Бориса Леонидовича.
[править] Кончина и память
Пастернак умер от рака лёгкого 30 мая 1960 года в Переделкине. Сообщение о его смерти было напечатано только в «Литературной газете» (от 2 июня) и в газете «Литература и жизнь» (от 1 июня)[39].
Сотни людей (среди них Наум Коржавин, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский) пришли 2 июня 1960 года на его похороны, несмотря на опалу поэта. Александр Галич посвятил его смерти одну из своих песен[40]:
…До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели…<…>
А над гробом встали мародёры,
И несут почётный караул…
Ка-ра-ул!
Другое стихотворение, посвящённое трагическому уходу Пастернака, принадлежит присутствовавшему на похоронах Герману Плисецкому:
Поэты, побочные дети России!
Вас с чёрного хода всегда выносили.<…>
Я плачу, я слёз не стыжусь и не прячу,
хотя от стыда за страну свою плачу.Какое нам дело, что скажут потомки?
Поэзию в землю зарыли подонки.Мы славу свою уступаем задаром:
как видно, она не по нашим амбарам.Как видно, у нас её край непочатый —
поэзии истинной — хоть не печатай!
Надгробие Пастернака в Переделкине
Борис Пастернак был похоронен на Переделкинском кладбище. Автор памятника на его могиле — скульптор Сарра Лебедева. Памятник неоднократно осквернялся, и к 40-й годовщине смерти поэта была установлена точная копия памятника, выполненная одним из учеников Лебедевой, скульптором Дмитрием Шаховским[41].
В ночь на воскресенье 5 ноября 2006 года вандалы осквернили и этот памятник[42]. В настоящее время на могиле, расположенной на крутом склоне высокого холма, для укрепления восстановленного памятника и предотвращения сползания грунта сооружён мощный стилобат, накрывающий захоронения самого Пастернака, его жены Зинаиды Николаевны, его младшего сына Леонида и пасынка Адриана Нейгауза, устроена площадка для многочисленных посетителей и экскурсантов, желающих отдать дань уважения поэту[43].
[править] После смерти
Зинаида Николаевна Пастернак умерла в 1966 году от той же болезни, что и муж. Советская власть отказалась предоставить ей пенсию, несмотря на ходатайства многих известных писателей. Сын Леонид Борисович умер в 1976 году в 38 лет (примерно в том же возрасте, что и Юрий Живаго). Старший сын, литературовед и биограф отца, Евгений Борисович скончался 31 июля 2012 года в Москве в возрасте 88 лет. Все они похоронены рядом с могилой Б. Л. Пастернака на Переделкинском кладбище.
Первая жена писателя, Евгения Владимировна Пастернак, умерла в 1965 году.
Последняя любовь Пастернака Ольга Ивинская после смерти поэта по надуманному обвинению провела в заключении ещё 4 года вплоть до 1964, потом на полученные по завещанию гонорары[44] приобрела квартиру в доме около Савёловского вокзала, где жила до своей кончины 8 сентября 1995 года. Похоронена на Переделкинском кладбище.
У Бориса Пастернака 4 внука и 10 правнуков.
[править] Реабилитация
Негативное отношение советского официоза к Пастернаку постепенно спадало после его смерти. В статье о Пастернаке из Большой Советской энциклопедии подробно описывается его творчество и говорится о его житейских трудностях в 50-е годы.[45] Но о публикации романа речи не шло.
В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено. В 1988 году «Доктор Живаго» впервые был напечатан в СССР («Новый Мир»). 9 декабря 1989 года диплом и медаль Нобелевского лауреата были вручены в Стокгольме сыну поэта — Евгению Пастернаку. Под его же редакцией вышло несколько собраний сочинений поэта, в последние годы в России издаются многочисленные сборники, воспоминания и материалы к биографии писателя.
[править] Постановки по произведениям Пастернака
«Доктор Живаго» впервые был экранизирован в Бразилии в 1959, когда был поставлен одноимённый телефильм («Doutor Jivago»).
Самой известной в мире экранизацией романа остаётся голливудский фильм 1965 года Дэвида Лина, получивший 5 премий «Оскар».
Третья постановка также была осуществлена за рубежом — режиссёром Джакомо Кампиотти (итал. Giacomo Campiotti) в 2002 году. В России «Доктор Живаго» экранизирован в 2005 году Александром Прошкиным. В роли доктора Живаго снялся Олег Меньшиков. Эта экранизация вызвала неоднозначные отзывы критики.
В 1987 году состоялась премьера написанной годом ранее оперы британского композитора Найджела Осборна «Электрификация Советского Союза» по мотивам произведений Бориса Пастернака[46].
В 2006 году в Пермском академическом театре «Театр» режиссёром Борисом Мильграмом, композитором Александром Журбиным и драматургом Михаилом Бартеневым был поставлен мюзикл «Доктор Живаго»[47]. Премьера состоялась 30 декабря.
Дом-музей Б. Л. Пастернака в Переделкине
[править] Музеи. Увековечение памяти
Первые государственные музеи, экспозиции которых посвящены Пастернаку, появились в России в год 100-летия со дня его рождения. Тогда музей Пастернака открыл свои двери в Чистополе, в доме, где поэт жил в эвакуации в годы Великой Отечественной войны (1941—1943)[48], и в Переделкине, где он жил долгие годы вплоть до своей смерти. (Официально дом-музей в Переделкине был основан ещё в 1986)[49]. Директор дома-музея поэта — Наталья Пастернак, приходящаяся ему невесткой (вдова младшего сына Леонида).[50]
В 2008 году во Всеволодо-Вильве (Пермский край) был открыт музей «Дом Пастернака»[51][52], в котором начинающий поэт жил с января по июнь 1916 года.
В 2009 году, в день города, в Перми был открыт первый в России памятник Пастернаку (скульптор — Елена Мунц).[53] Он располагается в сквере около Оперного театра.
Планируется также установка памятника поэту в Москве.[54]
Мемориальная доска есть на доме, где родился Пастернак (Оружейный переулок, д. 3). В последние годы вокруг этого здания разгорелся скандал после того, как в 2002 частная фирма надстроила к особняку мансарду, а затем оформила её в собственность.[55] Лишь в 2008 году инспекторы Москомнаследия обратили внимание на мансарду и обратились в суд с требованием снести незаконную надстройку.[56] 25 мая 2009 арбитражный апелляционный суд постановил, что постройка мансарды была незаконной.[57]
[править] Интересные факты
- В СССР до 1989 в школьной программе по литературе о творчестве Пастернака и вообще о его существовании не было никаких упоминаний. (см. Цензура в СССР)
- Массовый советский телезритель впервые познакомился со стихами Пастернака в 1976 в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Стихотворение «Никого не будет в доме» (1931), преобразившееся в городской романс, за кадром проникновенно исполнено под гитару Сергеем Никитиным и сразу стало широко известным. Позднее Эльдар Рязанов включил отрывок из другого стихотворения Пастернака в фильм «Служебный роман», правда в фарсовом эпизоде — «Любить иных — тяжёлый крест…» (1931). В 1970-х, 1980-х для цитирования Пастернака в популярном кино от режиссёра требовалась известная смелость.
- В октябре 1984 по решению суда дача Пастернака в Переделкине была отобрана у родственников писателя и передана в государственную собственность.[58]
- Пастернак написал две прелюдии (ми-бемоль минор и соль-диез минор) и сонату (си минор) для фортепиано.
- В 1903 году при падении с лошади сломал ногу, и из-за неправильного срастания (лёгкая хромота, которую Пастернак скрывал, осталась на всю жизнь) был освобождён от воинской повинности[59]. В дальнейшем поэт уделял особое внимание этому эпизоду как пробудившему его творческие силы (он произошёл 6 (19) августа, в праздник Преображения Господня — ср. позднейшее стихотворение «Август»).
- Вступительная статья к тому стихов Пастернака в Большой серии «Библиотеки поэта» (1965) стала последней легальной публикацией в СССР Андрея Синявского.Через два с половиной месяца после подписания книги в печать, 4 сентября 1965 г. он был арестован и в выпущенном в конце года каталоге серии имя автора вступительной статьи уже не упоминается.
[править] Библиография
В октябре 2005 года издательство «Слово» выпустило первое в истории полное собрание сочинений Пастернака в 11 томах (общий тираж 5000 экземпляров). Собрание составлено сыном поэта Евгением Борисовичем Пастернаком (1923—2012) и его женой Еленой Владимировной Пастернак. Вступительную статью к собранию написал Лазарь Флейшман.[60]
Первые два тома собрания вместили в себя стихи, третий — повести, статьи, эссе, четвёртый — роман «Доктор Живаго», пятый — публицистику и драматургию, шестой — стихотворные переводы. Обширная переписка поэта заняла четыре тома (всего 1675 писем). В последнем, одиннадцатом, находятся воспоминания современников о Б. Л. Пастернаке.
Издание сопровождается мультимедийным диском, на котором содержатся записи Бориса Пастернака, читающего свои стихи, его музыка, переводы драматических произведений, не вошедших в основное собрание.
В полное собрание вошли черновые редакции «Доктора Живаго», в том числе фрагменты и варианты, отвергнутые автором, первая редакция перевода «Гамлета», выпущенные отрывки из поэмы «Лейтенант Шмидт», неизвестные катрены из поэмы «Спекторский», переводы из бельгийского поэта Шарля ван Лерберга.
Предыдущее, наиболее полное для своего времени собрание сочинений Пастернака (в 5 томах) вышло в 1990 году, после 100-летия со дня рождения поэта.
[править] Произведения и книги
- Пастернак Б. Л. Близнец в тучах. — М.: Лирика, 1914.
- Пастернак Б. Л. Детство Люверс (1918, опубл. в 1922).
- Пастернак Б. Л. Три главы из повести (напечатаны в 1922 году в газете «Московский понедельник»).
- Пастернак Б. Л. Второе рождение. — М.: Сов. писатель, 1934. — 95 с. Тираж 10 200 экз. (В суперобложке, художник Г. Беренгоф.)
- Пастернак Б. Л. Грузинские лирики. — М.: Сов. писатель, 1935
- Пастернак Б. Л. На ранних поездах, впервые — в 1943 году.
- Пастернак Б. Л. Когда разгуляется, цикл стихотворений, полностью издан посмертно в «Избранном» (М., 1961).
- Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. — М.: Сов. писатель, 1989. — 736 с. Тираж 200 000 экз.
- Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2-х т. / Сост., подг. текста и примеч. В. С. Баевского и Е. Б. Пастернака. — Л.: Сов. писатель, 1990. Тираж 100 000 экз. (Библиотека поэта. Большая серия. Издание третье.)
- Пастернак Б. Л. Избранные сочинения / Сост. и комм. Е. В. Пастернак. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — 864 с. Тираж 10 000 экз. (Бессмертная библиотека)
[править] Переводы
[править] Литература о Пастернаке
[править] Документы
- Борис Пастернак и Сергей Бобров: письма четырёх десятилетий. — Публикация М. А. Рашковской // Stanford Slavic Studies. Vol. 10. Stanford 1996.
- Семейная переписка Бориса Пастернака 1921—1960 годов. — Stanford, Calif. : Hoover Institution Press, 2010. — 439 с., илл. ISBN 978-0-8179-1024-2
[править] Мемуары
- Ольга Ивинская. «Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени». Париж, 1978. Русское переиздание: М.: Либрис, 1992.
- Марина Цветаева. Эпос и лирика в современной России: Владимир Маяковский и Борис Пастернак. — Сочинения в 2-х т. М., 1990
- Евгений Пастернак, Елена Пастернак. «Жизнь Бориса Пастернака: Документальное повествование». СПб: изд-во журнала «Звезда», 2004
- Н. Н. Вильям-Вильмонт. Воспоминания о Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. М., 1989.
- Л. Гинзбург. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: СПб-Искусство, 2002.
- А. Гладков. Встречи с Пастернаком. М.: Арт-Флекс, 2002.
- Л. К. Чуковская. Борис Пастернак. — Сочинения. В 2 т. М: Арт-Флекс, 2001.
- З. А. Масленникова. Борис Пастернак. Встречи. М.: Захаров, 2001.
- Воспоминания о Борисе Пастернаке. (сборник) М.: Слово/Slovo, 1990
[править] Исследования
- В. Н. Альфонсов. Поэзия Бориса Пастернака. Л.: Союз писателей, 1990. ISBN 5-265-01492-6 // СПб.: «Сага», 2001. ISBN 5-901609-01-8
- В. Баевский. Пастернак-лирик. Смоленск, 1993.
- Наталия Иванова. «Борис Пастернак: участь и предназначение». Биографическое эссе. СПб., 2000.
- Наталия Иванова. «Борис Пастернак и другие». М.: Эксмо, 2003
- Наталия Иванова. «Борис Пастернак. Времена жизни». М.: «Время», 2007;
- Л. С. Флейшман. Борис Пастернак в двадцатые годы. — München, W.Fink Verlag, 1980. ISBN 3-7705-1949-3 //росс. перездание: Спб., «Академический проект», 2003.
- Л. С. Флейшман. Борис Пастернак в тридцатые годы. The Magnes Press. The Hebrew University. Jrusalem, 1984.
- Р. О. Якобсон. Заметки о прозе поэта Пастернака. — Р. Якобсон. Работы по поэтики. М.: 1987.
[править] Беллетристика
- Дмитрий Быков. «Борис Пастернак. Жизнь замечательных людей». М.: Молодая Гвардия, 2005
- Т. Катаева. Другой Пастернак: Личная жизнь. Темы и варьяции. — Мн.: Современный литератор, 2009. — 605 с. — ISBN 978-985-14-1614-7
- В. Ливанов. Неизвестный Борис Пастернак. М.: Дрофа, 2002
- Иван Толстой «Отмытый роман Пастернака: „Доктор Живаго“ между КГБ и ЦРУ». М.: «Время», 2008.
- Александр Карпенко Двойной портрет Пастернака и Мандельштама на фоне исторической неизбежности
- Александр Карпенко Тайнопись пастернаковского перевода «Фауста»
[править] Фильмография
- «Исторические хроники». 1958 год. Пастернак и Стрельцов.
[править] См. также
Том собрания сочинений Пастернака. М, Худлит, 1990
- Русский футуризм
- Хрущёвская оттепель
- Нобелевские лауреаты из России
- Константин Локс
- Сопоставление творчества Мандельштама и Пастернака
[править] Примечания
- ↑ Ю. М. Каган. Об «Апеллесовой черте» Бориса Пастернака
- ↑ Наталия Иванова. Пастернак и другие. Глава I. М.: Эксмо, 2003.
- ↑ Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1993. — № 3
- ↑ Школа № 91 РАО
- ↑ Е. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии — М.:Сов. писатель, 1989, с. 92
- ↑ Асмус В. Пастернак об искусстве. — Таллинн, Радуга, № 9, с.68
- ↑ Люди и положения -//Борис Пастернак. Воздушные пути — М.:Сов. писатель, 1982, с. 424
- ↑ О. Д. Гайсин «Опыт проектирования соцгорода Березники (1930—1940-е гг.)»
- ↑ Колас Я. Збор твораў у чатырнаццаці тамах. Том 11. Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы 1917-1946 гг. Мн., Маст. літ., 1976. — С. 188. — 424 с.
- ↑ Дмитрий Быков Сын сапожника и сын художника «Нева» 2005, №3
- ↑ Фейнберг М. Комментарии в кн. Б.Пастернак, З.Пастернак «Второе рождение». М.: Дом-музей Бориса Пастернака, 2010, с.184, 469, 475.
- ↑ Т. Табидзе сказал Пастернаку при первой встрече: «Не может быть, чтобы вы никогда не были в Грузии. Человек, написавший „…в синеве ледника от Тамары“, должен был это видеть».
- ↑ Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах — М.: Худ. лит-ра, 1992. — Т. 5. — С. 325—328.
- ↑ Борис Пастернак. Второе рождение — М.: Федерация, 1932.
- ↑ Б. Пастернак. Грузинские лирики — М.: Сов. писатель, 1935.
- ↑ Новый мир : журнал. — 1936. — № 10.
- ↑ Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах — М.: Худ. лит-ра, 1992. — Т. 5. — С. 372—374.
- ↑ Нина Табидзе. Радуга на рассвете. // Воспоминания о Борисе Пастернаке. — М.: Слово, 1993. — С. 289—307.
- ↑ Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак — М.:НЛО, 1998, 592 с., — с. 410
- ↑ Марина Цветаева. Сочинения. Тои второй — М.:Худлит, 1988, 640 с., — с. 546
- ↑ Грузинские романтики. — Л.: Сов. писатель, 1978. — 336 с.
- ↑ Борис Пастернак об искусстве. — М.: Искусство, 1990. — С. 170—175.
- ↑ На грузинском языке — в журнале «Мнатоби», 1956, № 11—12.
- ↑ Быков Д. Борис Пастернак. — М.: Мол. гвардия, 2008. — С. 833—834. — 892 с. — (Жизнь замечательных людей). — ISBN 523503113X
- ↑ Стальное предначертание.
- ↑ Письма грузинским друзьям. // Литературная Грузия. — 1966. — № 1—2.
- ↑ Г. Маргвелашвили. Когда на нас глядит поэт… — М.: Сов. писатель, 1990. — С. 90.
- ↑ Борис Пастернак. Воздушные пути. Проза разных лет. — М.: Сов. писатель, 1982. — С. 389.
- ↑ Мир Пастернака. — М.: Сов. художник, 1989. — 206 с.
- ↑ «Литературная газета»: Провокационная вылазка международной реакции
- ↑ Владимир Семичастный: __ «МНЕ НЕСТЕРПИМО БОЛЬНО…»
- ↑ Доклад В.Семичастного на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ (см. ниже статей из «ЛГ» и «Правды»)
- ↑ Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка
- ↑ Провокационная вылазка международной реакции
- ↑ Письмо членов редколлегии журнала «НОВЫЙ МИР» Б. Пастернаку
- ↑ Презумпция невиновности
- ↑ БОРИС ПАСТЕРНАК И ВЛАСТЬ. 1956—1960 гг.
- ↑ Борис Пастернак. Лауреаты Нобелевской премии
- ↑ Фейнберг М. Комментарии в кн. Б.Пастернак, З.Пастернак «Второе рождение». М.: Дом-музей Бориса Пастернака, 2010, с.475.
- ↑ А. Галич «Памяти Б. Л. Пастернака»
- ↑ Новости города — Пермь: Вандализм — не хулиганство!
- ↑ «НТВ»: Пастернак пострадал от вандалов
- ↑ Стальное предначертание
- ↑ Уже после осуждения О. В. Ивинской издатель Фельтринелли через «Инюрколлегию» переводил значительные суммы гонораров за роман наследникам Б. Л. Пастернака: О. В. Ивинской, Е. Б. Пастернаку и С. Г. Нейгаузу, т.к. Ивинская, названная в волеизъявлении Пастернака «единственной наследницей», сочла невозможным принять все суммы за роман и добровольно две трети наследства уступила «наследникам по закону» — Виктор Косачевский. Послесловие к роману. Из записок адвоката. – М.: «Москва», 1988, № 10, сс. 139 – 147
- ↑ Пастернак Борис Леонидович — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)
- ↑ Konrad Heidkamp. Revolution als Liebesdrama (нем.), Zeit Online. Проверено 19 февраля 2010.
- ↑ «Новые Известия»: «Доктор Живаго» танцует танго
- ↑ Музей Бориса Пастернака в Чистополе
- ↑ Информация о доме-музее Б. Л. Пастернака
- ↑ Осквернён памятник на могиле Бориса Пастернака
- ↑ Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве
- ↑ Официальный сайт «Дома Пастернака»
- ↑ «НТВ»: В Перми открыли памятник Борису Пастернаку
- ↑ «Известия»: Бронзовый Пастернак вернётся на Волхонку
- ↑ Вести.ru: Оружейный переулок взяли «на прицел»
- ↑ Испытание для дома, где родился Пастернак
- ↑ Мансарда в Доме Пастернака признана незаконной
- ↑ Фейнберг М. Комментарии в кн. Б.Пастернак, З.Пастернак «Второе рождение». М.: Дом-музей Бориса Пастернака, 2010, с.469.
- ↑ Быков Д. Борис Пастернак. — Москва: Молодая гвардия, 2008. — С. 882. — 892 с. — (Жизнь замечательных людей). — ISBN 523503113X
- ↑ Lenta.ru: Впервые издано полное собрание сочинений Бориса Пастернака
[править] Ссылки
| Борис Пастернак в Викицитатнике? | |
| Борис Пастернак в Викитеке? | |
| Борис Пастернак на Викискладе? |
- Борис Пастернак на «Родоводе». Дерево предков и потомков
- Борис Пастернак: биография, фотографии, произведения и статьи о нём
- Борис Пастернак в фондах ДЗ «НПБ України»
- Борис Пастернак. Избранные стихи
- Борис Пастернак на «Стихии»
- Борис Пастернак: стихи в «Антологии русской поэзии»
- Стенограмма заседания Общемосковского собрания писателей СССР «О поведении Б.Пастернака» от 31 октября 1958 г.
- Документы по теме «Борис Пастернак и власть» (вступительная статья)
- Нобелевская премия Бориса Пастернака. Воспоминания сына
- Борис Пастернак читает свои стихи (аудио)
- А. А. Галич. Памяти Пастернака (1)
- А. А. Галич. Памяти Пастернака (2)
- Борис Пастернак. О переводчике трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», текст перевода (1942 г.)
- «Марбург» Бориса Пастернака
- В. М. Борисов. Река, распахнутая настежь. К творческой истории романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
- Варлам Шаламов Переписка и воспоминания о Б. Л. Пастернаке
- Поэзия Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака: программа курса (В. Н. Альфонсов)
- Борис Пастернак. Биография, поэзия и проза.
- Борис Пастернак. Мучкап-Романовка-Балашов.
- «Борис Пастернак» — почтовая марка по рисунку художника Георгия Шишкина, выпущенная княжеством Монако к 50-летию присуждения писателю Нобелевской премии.
- Пунктир Пастернака (воспоминания Владимира Леви)
- Николаев А. И. О некоторых особенностях переводов стихов Бориса Пастернака на английский язык
- Бенедикт Сарнов ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- Александр Карпенко «Гамлет Пастернака: иносказание как судьба»
|
Лауреаты Нобелевской премии по литературе в 1951—1975 годах |
|---|
|
Пер Лагерквист (1951) • Франсуа Мориак (1952) • Уинстон Черчилль (1953) • Эрнест Хемингуэй (1954) • Халлдор Кильян Лакснесс (1955) • Хуан Рамон Хименес (1956) • Альбер Камю (1957) • Борис Пастернак (1958) • Сальваторе Квазимодо (1959) • Сен-Жон Перс (1960) • Иво Андрич (1961) • Джон Стейнбек (1962) • Йоргос Сеферис (1963) • Жан-Поль Сартр (1964) • Михаил Шолохов (1965) • Шмуэль Йосеф Агнон / Нелли Закс (1966) • Мигель Анхель Астуриас (1967) • Ясунари Кавабата (1968) • Сэмюэл Беккет (1969) • Александр Солженицын (1970) • Пабло Неруда (1971) • Генрих Бёлль (1972) • Патрик Уайт (1973) • Эйвинд Юнсон / Харри Мартинсон (1974) • Эудженио Монтале (1975) Полный список | (1901—1925) | (1926—1950) | (1951—1975) | (1976—2000) | (2001—2025) |