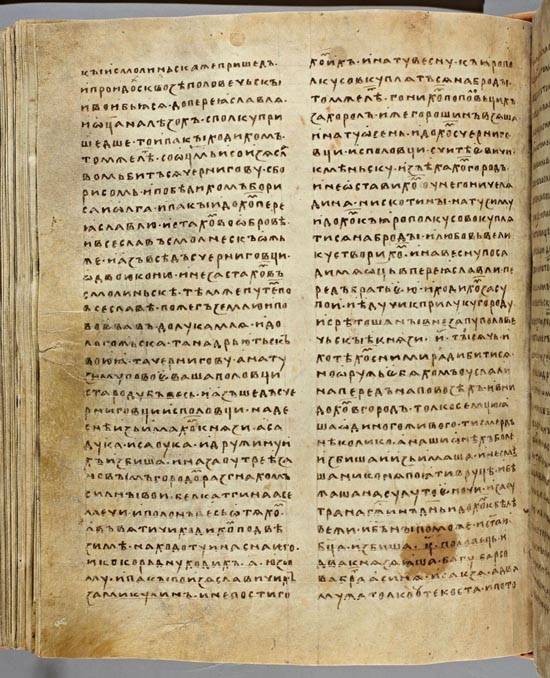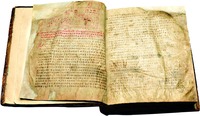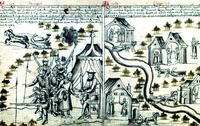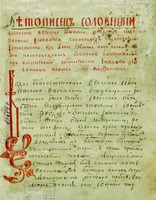В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, вместе с другими ценнейшими рукописями хранится летопись, которая называется Лаврентьевской, по имени человека, переписавшего ее в 1377 году. «Аз (я) худой, недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних (монах)»,- читаем мы на последней странице.
Книга эта написана на «хартии«, или «телятине«,- так называли на Руси пергамент: особым образом обработанную телячью кожу. Летопись, видно, много читали: ее листы обветшали, во многих местах следы восковых капель от свечей, кое-где стерлись красивые, ровные строчки, в начале книги бегущие через всю страницу, дальше разделенные на два столбца. Много видела эта книга на своем шестисотлетнем веку.
В Рукописном отделе Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге хранится Ипатьевская летопись. Она была передана сюда в XVIII веке из знаменитого в истории русской культуры Ипатьевского монастыря под Костромой. Написана она в XIV веке. Это большая книга в тяжелом переплете из двух деревянных досок, обтянутых потемневшей кожей. Пять медных «жуков» украшают переплет. Вся книга написана от руки четырьмя разными почерками — значит, над ней работало четыре писца. Писана книга в два столбца черными чернилами с киноварными (ярко-красными) заглавными буквами. Особенно красив второй лист книги, на котором начинается текст. Он весь написан киноварью, словно пламенеет. Заглавные же буквы выведены, напротив, черными чернилами. Много потрудились писцы, создавая эту книгу. С благоговением приступали они к работе. «Летописец Русский с богом починаем. Отче благий»,- написал писец перед текстом.
Самый древний список русской летописи сделан на пергаменте в XIV веке. Это Синодальный список Новгородской Первой летописи. Его можно увидеть в Историческом музее в Москве. Он принадлежал Московской синодальной библиотеке, отсюда его название.
Интересно посмотреть иллюстрированную Радзивиловскую, или Кенигсбергскую, летопись. Одно время она принадлежала панам Радзивилам и была обнаружена Петром Первым в Кенигсберге (ныне Калининграде). Теперь эта летопись хранится в Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. Написана она полууставом в конце XV века, по-видимому, в Смоленске. Полуустав — почерк более быстрый и простой, чем торжественный и медлительный устав, но тоже очень красивый.
Радзивиловскую летопись украшает 617 миниатюр! 617 рисунков в цвете — цвета яркие, жизнерадостные — иллюстрируют то, что описано на страницах. Тут можно увидеть и войска, идущие в поход с развевающимися стягами, и битвы, и осады городов. Тут изображены князья, восседающие на «столах»,- столы, служившие троном, в самом деле напоминают нынешние небольшие столики. А перед князем стоят послы со свитками речей в руках. Укрепления русских городов, мосты, башни, стены с «заборблами», «порубы», то есть темницы, «вежи» — кибитки кочевников — все это можно наглядно представить по чуть-чуть наивным рисункам Радзивиловской летописи. А что говорить об оружии, доспехах,- они изображены здесь с избытком. Недаром один исследователь назвал эти миниатюры «окнами в исчезнувший мир». Очень большое значение имеет соотношение рисунков и листа, рисунков и текста, текста и полей. Все сделано с большим вкусом. Ведь каждая рукописная книга — произведение искусства, а не только памятник письменности.
Таковы самые древние списки русских летописей. Они называются «списками» потому, что переписаны с более древних, не дошедших до нас летописей.
Как писались летописи
Текст любой летописи состоит из погодных (составленных по годам) записей. Каждая запись начинается: «В лето такое-то», и далее следует сообщение о том, что случилось в данное «лето», то есть год. (Года считались «от сотворения мира», и чтобы получить дату по современному летосчислению, надо вычесть цифру 5508 или 5507.) Сообщения бывали длинными, развернутыми повестями, а бывали и очень короткими- вроде: «В лето 6741 (1230) подписана (расписана) бысть церковь святые Богородицы в Суздале и измощена мрамором разноличным», «В лето 6398 (1390) бысть мор во Пскове, яко же (как) не бывал таков; где бо единому выкопали, ту и пятеро и десятеро положиши», «В лето 6726 (1218) тишина бысть». Писали и так: «В лето 6752 (1244) не бысть ничтоже» (то есть ничего не было).
Если в один год произошло несколько событий, то летописец соединял их словами: «в то же лето» или «того же лета».
Записи, относящиеся к одному году, называются статьей. Статьи шли подряд, выделяясь лишь красной строкой. Только некоторым из них летописец давал заглавия. Таковы повести об Александре Невском, князе Довмонте, о Донской битве и некоторые другие.
На первый взгляд может показаться, что летописи так и велись: год за годом добавлялись всё новые записи, словно бусины нанизывались на одну нить. Однако это не так.
Дошедшие до нас летописи — очень сложные произведения по русской истории. Летописцы были публицистами и историками. Их волновали не только современные им события, но и судьбы родины в прошлом. Они делали погодные записи о том, что происходило при их жизни, и добавляли в записи предшествующих летописцев новые сообщения, которые они находили в других источниках. Эти добавления они вставляли под соответствующими годами. В результате всех добавлении, вставок и использования летописцем летописей своих предшественников получался «свод«.
Возьмем пример. Рассказ Ипатьевской летописи о борьбе Изяслава Мстиславича с Юрием Долгоруким за Киев в 1151 году. В этом рассказе три главных участника: Изяслав, Юрий и оын Юрия — Андрей Боголюбский. У каждого из этих князей был свой летописец. Летописец Изяслава Мстиславича восхищался умом и военной хитростью своего князя. Летописец Юрия подробно описал, как Юрий, будучи не в состоянии пройти вниз по Днепру мимо Киева, пустил ладьи через Долобское озеро. Наконец в летописи Андрея Боголюбского описывается доблесть Андрея в битве.
После смерти всех участников ообытий 1151 года их летописи попали к летописцу нового киевского князя. Он соединил их известия в своем своде. Получился яркий и очень полный рассказ.
Но как же удалось исследователям выделить из поздних летописей более древние своды?
Помог этому метод работы самих летописцев. Наши древние историки относились с большим уважением к записям своих предшественников, так как видели в них документ, живое свидетельство о «прежде бывшем». Поэтому они не переделывали текста полученных ими летописей, а только отбирали в них интересующие их известия.
Благодаря бережному отношению к работе предшественников известия XI-XIV веков сохранены почти в неизменном виде даже в сравнительно поздних летописях. Это и позволяет их выделить.
Очень часто летописцы, как настоящие ученые, указывали, откуда они получили известия. «Когда я пришел в Ладогу, рассказали мне ладожане…», «Се же слышал от самовидца»,- писали они. Переходя от одного письменного источника к другому, они отмечали: «А се от иного летописца» или: «А се с другого, старого», то есть списано с другой, старой летописи. Много есть таких интересных приписок. Летописец-пскович, например, делает заметку киноварью против того места, где он рассказывает о походе славян на греков: «О сем писано в чудесах Стефана Сурожского».
Летописание с самого своего возникновения не было личным делом отдельных летописцев, которые в тиши своих келий, в уединении и безмолвии записывали события своего времени.
Летописцы всегда находились в самой гуще событий. Они сидели в боярском совете, присутствовали на вече. Они сражались «подле стремени» своего князя, сопровождали, его в походы, были очевидцами и участниками осад городов. Наши древние историки выполняли посольские поручения, следили за строительством городских укреплений и храмов. Они всегда жили общественной жизнью своего времени и чаще всего занимали высокое положение в обществе.
В летописании принимали участие князья и даже княгини, княжеские дружинники, бояре, епископы, игумены. Но были среди них и простые монахи, и священники городских приходских церквей.
Летописание было вызвано общественной необходимостью и отвечало общественным требованиям. Оно велось по повелению того или иного князя, или епископа, или посадника. В нем отразились политические интересы равных центров — княжеству городов. В них запечатлелась острая борьба разных социальных групп. Летопись никогда не была бесстрастна. Она свидетельствовала о заслугах и добродетелях, она обвиняла в нарушении прав и законности.
Даниил Галицкий обращается к летописи, чтобы засвидетельствовать измену «льстивых» бояр, которые «Даниила князем себе называли; а сами всю землю держали»-. В острый момент борьбы «печатник» (хранитель печати) Даниила отправился «исписать грабительства нечестивых бояр». Несколько лет спустя сын Даниила Мстислав велел занести в летопись измену жителей Берёстья (Бреста) «и вписал я в летопись крамолы их»,- пишет летописец. Весь свод Даниила Галицкого и его ближайших преемников — это повесть о крамоле и «многих мятежах» «лукавых бояр» и о доблестях галицких князей.
Иначе дело обстояло в Новгороде. Там победила боярская партия. Прочитайте запись Новгородской Первой летописи об изгнании Всеволода Мстиславича в 1136 году. Вы убедитесь, что перед вами настоящий обвинительный акт против князя. Но это только одна статья из свода. После событий 1136 года было пересмотрено все летописание, которое до того велось под покровительством Всеволода и его отца Мстислава Великого.
Прежнее название летописи, «Русский временник», было переделано в «Софийский временник»: летопись велась при соборе святой Софии — главном общественном здании Новгорода. Среди некоторых дополнений была сделана запись: «Прежде Новгородская волость, а потом Киевская». Древностью Новгородской «волости» (слово «волость» означало и «область» и «власть») летописец обосновывал независимость Новгорода от Киева, его право избирать и изгонять князей по своей воле.
Политическая идея каждого свода выражалась по-своему. Очень ярко она высказана в своде 1200 года игумена Выдубицкого монастыря Моисея. Свод составлен в связи с торжеством по случаю окончания грандиозного по тому времени инженерно-технического сооружения — каменной стены для предохранения горы у Выдубицкого монастыря от размыва водами Днепра. Вам, наверное, будет небезынтересно прочитать подробности.
Стена была поставлена на средства Рюрика Ростиславича, великого князя киевского, который имел «любовь несытну ко зданью» (к созиданию). Князь нашел «подходящего для подобного дела художника», «мастера не проста», Петра Милонега. Когда стена была «совершена», в монастырь приехал Рюрик со всей семьей. После молитвы «о приятии труда его» он сотворил «пир не мал» и «накормил игуменов и всякого чина церковного». На этом торжестве игумен Моисей выступил с вдохновенной речью. «Дивно днесь видят очи наши,- говорил он.- Ибо многие прежде нас жившие желали видеть то, что мы видим, и не видели, и слышать не сподобились». Несколько самоуничиженно, по обычаю того времени, игумен обратился к князю: «Нашея грубости писание прими, как дар словесен на похваление добродетели княжения твоего». Он говорил далее о князе, что его «держава самовластная» сияет «паче (больше) звезд небесных», она «не только в Русских концах ведома, но и сущим в море далече, ибо по всей земле прошла слава о христолюбивых делах» его. «Не на берегу стоя, но на стене создания твоего, пою тебе песнь победную»,- восклицает игумен. Он называет постройку стены «новым чудом» и говорит, что «кыяне», то есть жители Киева, стоят теперь на стене и «отовсюду веселие в душу им входит и мнится им яко (будто) аера достигше» (то есть, что они парят в воздухе).
Речь игумена — образец высокого витийственного, то есть ораторского, искусства того времени. Ею кончается свод игумена Моисея. Прославление Рюрика Ростиславича связано с восхищением мастерством Петра Милонега.
Летописям придавалось огромное значение. Поэтому составление каждого нового свода было связано с важным событием в общественной жизни того времени: со вступлением на стол князя, освящением собора, учреждением епископской кафедры.
Летопись была официальным документом. На нее ссылались при разного рода переговорах. Например, новгородцы, заключая «ряд», то есть договор, с новым князем, напоминали ему о «старине и пошлине» (об обычаях), о «Ярославлих грамотах» и своих правах, записанных в новгородских летописях. Русские князья, отправляясь в Орду, возили с собой летописи и по ним обосновывали свои требования, решали споры. Звенигородский князь Юрий, сын Дмитрия Донского, доказывал свои права на московское княжение «летописцами и старыми списками и духовною (завещанием) отца своего». Высоко ценились люди, которые могли «говорить» по летописям, то есть хорошо знали их содержание.
Летописцы сами понимали, что они составляют документ, который должен был сохранить в памяти потомков то, чему они были свидетелями. «Да и сие не забвенно будет в последних родах» (в следующих поколениях), «Да сущим по нас оставим, да не до конца забвенно будет»,- писали они. Документальность известий они подтверждали документальным материалом. Они использовали дневники походов, донесения «сторожей» (лазутчиков), письма, разного рода грамоты (договорные, духовные, то есть завещания).
Грамоты всегда производят впечатление своей подлинностью. Кроме того, они раскрывают подробности быта, а иногда и духовный мир людей Древней Руси.
Такова, например, грамота волынского князя Владимира Васильковича (племянника Даниила Галицкого). Это — завещание. Оно написано смертельно больным человеком, понимавшим, что конец его близок. Завещание касалось жены князя и его падчерицы. На Руси был обычай: княгиня после смерти мужа постригалась в монастырь.
Грамота начинается так: «Се аз (я) князь Владимир, сын Васильков, внук Романов пишу грамоту». Далее перечисляются города и села, которые он давал княгине «по своем животе» (то есть после жизни: «живот» означало «жизнь»). В конце князь пишет: «Если захочет в черницы пойти, пусть идет, если не захочет идти, а как ей любо. Мне не восстать смотреть, что кто будет чинить (делать) по моем животе». Падчерице своей Владимир назначил опекуна, но велел ему «не отдавать ее замуж неволею ни за кого».
Летописцы вставляли в своды произведения самых разных жанров — поучения, проповеди, жития святых, исторические повести. Благодаря привлечению разнообразного материала летопись стала огромной энциклопедией, включающей сведения о жизни и культуре Руси того времени. «Если хочешь все узнать, прочти летописца старого Ростовского»,- писал суздальский епископ Симон в широко когда-то известном сочинении начала XIII века — в «Киево-Печерском патерике».
Для нас русская летопись — неисчерпаемый источник сведений по истории нашей страны, подлинная сокровищница знаний. Поэтому мы с огромной благодарностью относимся к людям, которые сохранили для нас сведения о былом. Нам чрезвычайно драгоценно все, что мы можем о них узнать. Нас особенно трогает, когда со страниц летописи доносится до нас голос летописца. Ведь наши древнерусские писатели, как и зодчие и живописцы, были очень скромны и редко называли себя. Но иногда, словно забывшись, они говорят о себе в первом лице. «Случилось и мне грешному тут же быть»,- пишут они. «Аз многие словеса слышал, еже (которые) и вписал в летописаньи сем». Иногда летописцы вносят сведения о своей жизни: «В то же лето поставили меня попом». Эту запись о себе сделал священник одной из новгородских церквей Герман Воята (Воята — сокращение от языческого имени Воеслав).
Из упоминаний летописца о себе в первом лице мы узнаем, присутствовал ли он при описываемом событии или слышал о случившемся из уст «самовидцев», нам становится ясно, какое положение занимал он в обществе того времени, каково его образование, где он жил и многое другое. Вот он пишет, как в Новгороде стража стояла у городских ворот, «а другие на оной стороне», и мы понимаем, что это пишет житель Софийской стороны, где был «город», то есть детинец, кремль, а правая, Торговая сторона была «другая», «она я».
Иногда присутствие летописца ощущается в описании явлений природы. Он пишет, например, как «выло» и «стучало» замерзающее Ростовское озеро, и мы можем представить себе, что он был где-то на берегу в это время.
Бывает, что летописец выдает себя в грубоватом просторечье. «А он пролгался»,- пишет пскович об одном князе.
Летописец постоянно, даже не упоминая о себе, все же словно незримо присутствует на страницах своего повествования и заставляет нас смотреть его глазами на происходившее. Особенно явственно звучит голос летописца в лирических отступлениях: «О горе, братья!» или: «Кто не подивится тому, кто не восплачет!» Иногда наши древние историки передавали свое отношение к событиям в обобщенных формах народной мудрости — в пословицах или в поговорках. Так, летописец-новгородец, говоря, как сместили с должности одного из посадников, добавляет: «Кто копает под другим яму, сам в нее ввалится».
Летописец не только рассказчик, он и судья. Он судит по нормам очень высокой морали. Его постоянно волнуют вопросы добра и зла. Он то радуется, то негодует, восхваляет одних и порицает других.
Последующий «сводчик» соединяет противоречивые точки зрения своих предшественников. Изложение становится полнее, разностороннее, спокойнее. В нашем сознании вырастает эпический образ летописца — мудрого старца, который бесстрастно зрит на суету мира. Этот образ гениально воспроизвел А. С. Пушкин в сцене Пимена и Григория. Этот образ жил уже в сознании русских людей в древности. Так, в Московской летописи под 1409 годом летописец вспоминает «начального летословца Киевского», который все «временнобогатства» земные (то есть всю суетность земную) «не обинуяся показует» и «без гнева» описывает «все доброе и недоброе».
Над летописями трудились не только летописцы, но и простые писцы.
Если вы посмотрите на древнерусскую миниатюру, изображающую писца, вы увидите, что он сидит на «стульце» с подножием и держит на коленях свиток или пачку перегнутых в два — четыре раза листов пергамента или бумаги, на которых он пишет. Перед ним на низком столике стоит чернильница и песочница. В те времена непросохшие чернила присыпали песком. Тут же на столике лежит перо, линейка, ножик для чинки перьев и подчистки неисправных мест. На подставке лежит книга, с которой он списывает.

Неудивительно, что писец, дописав последнюю страницу, передает свою радость припиской: «Аки заяц рад, сети избег, так рад писец, последнюю страницу дописав».
Длинную и очень образную приписку сделал монах Лаврентий, закончив свой труд. В этой приписке чувствуется радость свершения большого и важного дела: «Радуется купец прикуп сотворив, и кормчий в отишье пристав, и странник в отечество свое пришед; так же радуется и книжный списатель, дошед конца книгам. Тако ж и аз худый недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних… А ныне, господа отцы и братья, оже ся (если) где описал или переписал, или не дописал, чтите (читайте), исправляя бога деля (ради бога), а не кляните, занеже (так как) книги ветшаны, а ум молод, не дошел».
Древнейший дошедший до нас русский летописный свод называется «Повестью временных лет». Он доводит свое изложение до второго десятилетия XII века, но до нас он дошел лишь в списках XIV и последующих веков. Составление «Повести временных лет» относится к XI — началу XII веков, к тому времени, когда Древнерусское государство с центром в Киеве было относительно едино. Вот почему у авторов «Повести» был такой широкий охват событий. Их интересовали вопросы, представлявшие значение для всей Руси в целом. Они остро сознавали единство всех русских областей.
В конце XI века благодаря экономическому развитию русских областей происходит их обособление в самостоятельные княжества. У каждого княжества появляются свои политические и экономические интересы. Они начинают соперничать с Киевом. Каждый стольный город стремится подражать «матери городов русских». Достижения искусства, зодчества и литературы Киева оказываются образцом для областных центров. Культура Киева, распространяясь на все области Руси XII столетия, попадает на подготовленную почву. В каждой области были до того свои самобытные традиции, свои художественные навыки и вкусы, уходившие в глубокую языческую древность и тесно связанные с народными представлениями, привязанностями, обычаями.
Из соприкосновения несколько аристократической культуры Киева с народной культурой каждой области выросло многообразное древнерусское искусство, единое и благодаря славянской общности, и благодаря общему образцу — Киеву, но везде разное, самобытное, непохожее на соседа.
В связи с обособлением русских княжеств ширится и летописание. Оно развивается в таких центрах, где до XII века велись разве что разрозненные записи, например в Чернигове, Переяславе Русском (Переяслав-Хмельницкий), в Ростове, Владимире на Клязьме, в Рязани и в других городах. Каждый политический центр чувствовал теперь острую необходимость иметь свое летописание. Летопись стала необходимым элементом культуры. Нельзя было жить без своего собора, без своего монастыря. Точно так же нельзя было жить без своей летописи.
Обособление земель сказалось на характере летописания. Летопись становится уже по охвату событий, по кругозору летописцев. Она замыкается рамками своего политического центра. Но и в этот период феодальной раздробленности не забывалось общерусское единство. В Киеве интересовались событиями, которые происходили в Новгороде. Новгородцы присматривались к тому, что делается во Владимире и Ростове. Владимирцев волновала судьба Переяславля Русского. И конечно, все области обращались к Киеву.
Этим объясняется, что в Ипатьевской летописи, то есть в южнорусском своде, мы читаем о событиях, имевших место в Новгороде, во Владимире, в Рязани и т.д. В северо-восточном своде — в Лаврентьевской летописи рассказывается о том, что происходило в Киеве, Переяславле Русском, Чернигове, Новгороде-Северском и в других княжествах.
Больше других замкнулась в узких пределах своей земли Новгородская и Галицко-Волынская летописи, но и там мы найдем известия о событиях общерусских.
Областные летописцы, составляя свои своды, начинали их с «Повести временных лет», где рассказывалось о «начале» Русской земли, и следовательно, о начале каждого областного центра. «Повесть временных лет* поддерживала у наших историков сознание общерусского единства.
Наиболее красочной, художественной по изложению была в XII веке Киевская летопись, вошедшая в Ипатьевский список. Она вела последовательное изложение событий от 1118 до 1200 года. Этому изложению была предпослана «Повесть временных лет».
Киевская летопись — летопись княжеская. В ней много повестей, в которых главным действующим лицом был тот или другой князь.
Перед нами проходят рассказы о княжеских преступлениях, о нарушении клятв, о разорении владений враждующих князей, об отчаянии жителей, о гибели огромных художественных и культурных ценностей. Читая Киевскую летопись, мы словно слышим звуки труб и бубнов, треск ломающихся копий, видим облака пыли, скрывающие и всадников и пеших. Но общий смысл всех этих полных движения, запутанных рассказов глубоко гуманный. Летописец настойчиво восхваляет тех князей, которые «не любят кровопролития» и в то же время исполнены доблести, желания «пострадать» за Русскую землю, «всем сердцем желают ей добра». Таким образом создается летописный идеал князя, который отвечал народным идеалам.
С другой стороны, в Киевской летописи звучит гневное осуждение нарушителей порядка, клятвопреступников, князей, которые начинают напрасные кровопролития.
Летописание в Новгороде Великом началось еще в XI веке, но окончательно оформилось в XII веке. Первоначально оно, как и в Киеве, было летописанием княжеским. Особенно много сделал для Новгородской летописи сын Владимира Мономаха Мстислав Великий. После него летопись велась при дворе Всеволода Мстиславича. Но Всеволода новгородцы изгнали в 1136 году, и в Новгороде установилась вечевая боярская республика. Летописание перешло ко двору новгородского владыки, то есть архиепископа. Оно велось при соборе святой Софии и в некоторых городских церквах. Но от этого оно отнюдь не стало церковным.
Новгородская летопись всеми корнями уходит в народную толщу. Она грубовата, образна, пересыпана пословицами и сохранила даже в написании характерное «цокание».
Большая часть повествования ведется в форме кратких диалогов, в которых нет ни одного лишнего слова. Вот небольшой рассказ о споре князя Святослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо, с новгородцами из-за того, что князь хотел сместить неугодного ему новгородского посадника Твердислава. Спор этот происходил на вечевой площади в Новгороде в 1218 году.
«Князь же Святослав прислал своего тысяцкого на вече, речё (говоря): «Не могу быть с Твердиславом и отнимаю от него посадничество». Рекоша же новгородцы: «Е (есть) ли вина его?» Он же рече: «Без вины». Рече Твердислав: «Тому еемь рад, оже (что) вины моей нету; а вы, братья, в посадничестве и в князех» (то есть новгородцы вправе давать и снимать посадничество, приглашать и выгонять князей). Новгородцы же отвещаша: «Княже, оже нету зины его, ты к нам крест целовал без вины мужа не лишити (не снимать с должности); а тебе ся кланяем (кланяемся), а се наш посадник; а в то ся не вдадим» (а на то мы не пойдем). И бысть мир».
Вот так кратко и твердо отстояли новгородцы своего посадника. Формула «А тебе ся кланяем» не означала поклонов с просьбой, а, напротив, кланяемся и говорим: иди прочь. Святослав это отлично понял.
Новгородский летописец описывает вечевые волнения, смены князей, постройки церквей. Его интересуют все мелочи жизни родного города: погода, недород, пожары, цены на хлеб и на репу. Даже о борьбе с немцами и шведами летописец-новгородец рассказывает деловито, кратко, без лишних слов, без каких-либо прикрас.
Новгородское летописание можно сопоставить с новгородской архитектурой, простой и суровой, и с живописью — сочной и яркой.
В XII веке возникает летописное дело и на северо-востоке — в Ростове и во Владимире. Эта летопись вошла в свод, переписанный Лаврентием. Она также открывается «Повестью временных лет», которая попала на северо-восток с юга, но не из Киева, а из Переяславля Русского — вотчины Юрия Долгорукого.
Владимирское летописание велось при дворе епископа при Успенском соборе, построенном Андреем Боголюбским. Это наложило на него свой отпечаток. В нем много поучений, религиозных размышлений. Герои произносят длинные молитвы, но редко ведут друг с другом живые и краткие разговоры, которых так много в Киевской и особенно в Новгородской летописи. Владимирская летопись суховата и в то же время многоречива.
Но во владимирском летописании сильнее чем где-либо прозвучала мысль о необходимости собирания Русской земли в одном центре. Для владимирского летописца этим центром, разумеется, был Владимир. И он настойчиво проводит мысль о главенстве города Владимира не только среди других городов края — Ростова и Суздаля, но и в системе русских княжеств в целом. Владимирскому князю Всеволоду Большое Гнездо присваивается впервые в истории Руси титул великого князя. Он становится первым среди прочих князей.
Летописец изображает владимирского князя не столько смелым воином, сколько строителем, рачительным хозяином, строгим и справедливым судьей, добрым семьянином. Владимирское летописание становится все более торжественным, как торжественны владимирские соборы, но ему не хватает высокого художественного мастерства, которого достигли владимирские зодчие.
Под 1237 годом в Ипатьевской летописи киноварью горят слова: «Побоище Батыево». В других летописях также выделено: «Батыева рать». После татарского нашествия летописание прекратилось в целом ряде городов. Однако, заглохнув в одном городе, оно подхватывалось в другом. Оно становится короче, беднее по форме и известиям, но не замирает.
Основная тема русских летописей XIII века — ужасы татарского нашествия и последующего ига. На фоне довольно скупых записей выделяется повесть об Александре Невском, написанная южнорусским летописцем в традициях киевского летописания.
Владимирская великокняжеская летопись переходит в Ростов, он меньше пострадал от разгрома. Здесь летопись велась при дворе епископа Кирилла и княгини Марии.
Княгиня Мария была дочерью убитого в Орде князя Михаила Черниговского и вдовой погибшего в битве с татарами на реке Сити Василька Ростовского. Это была выдающаяся женщина. Она пользовалась огромным почетом и уважением в Ростове. Когда князь Александр Невский приезжал в Ростов, он кланялся «святей Богородице и епископу Кириллу и великой княгине» (то есть княгине Марии). Она же «чтила князя Александра с любовью». Мария присутствовала при последних минутах жизни брата Александра Невского — Дмитрия Ярославича, когда он, по обычаю того времени, постригался в чернецы и в схиму. Смерть ее описана в летописи так, как обычно описывали кончину только выдающихся князей: «Того же лета (1271) бысть знамение в солнци, яко (будто) погибнути ему всему до обеда и пакы (снова) наполнится. (Вы понимаете, речь идет о солнечном затмении.) Тое же зимы преставися благоверная, христолюбивая княгиня Василькова месяца декабря в 9 день, яко (когда) литургию поют по всему городу. И предаст душу тихо и нетрудно, безмятежно. Слышаша вси люди града Ростова преставление ее и стекошася вси люди в монастырь святого Спаса, епископ Игнатий и игумены, и попы, и клирцы, певше над нею обычные песнопения и по-гребоша ю (ее) у святого Спаса, в ее монастыре, с многими слезами».
Княгиня Мария продолжала дело отца и мужа. По ее указанию в Ростове было составлено житие Михаила Черниговского. Она построила в Ростове церковь «во имя его» и установила ему церковный праздник.
Летописание княгини Марии проникнуто идеей необходимости крепко стоять за веру и независимость родины. В нем рассказывается о мученической смерти русских князей, стойких в борьбе с врагом. Таким выведен Василёк Ростовский, Михаил Черниговский, рязанский князь Роман. После описания его лютой казни идет воззвание к русским князьям: «О возлюбленные князья русские, не прельщайтесь пустою и обманчивою славою света сего…, возлюбите правду и долготерпение и чистоту». Роман ставится в пример русским князьям: мученичеством он приобрел себе царствие небесное вместе «со сродником своим Михаилом Черниговским».
В рязанском летописании времен татарского нашествия события рассматриваются под другим углом. В нем звучит обвинение князей в том, что они виновники несчастий татарского разорения. Обвинение прежде всего касается владимирского князя Юрия Всеволодовича, который не послушал мольбы рязанских князей, не пошел им на помощь. Ссылаясь на библейские пророчества, рязанский летописец пишет, что еще «прежде сих», то есть до татар, «отнял господь у нас силу, а недоумение и грозу и страх и трепет вложил в нас за грехи наши». Летописец высказывает мысль, что Юрий «уготовал путь» татарам княжескими усобицами, Липецкой битвой, и теперь за эти грехи русские люди терпят казнь божию.
В конце XIII — начале XIV века развивается летописание в городах, которые, выдвинувшись в это время, начинают оспаривать друг у друга великое княжение.
Они продолжают мысль владимирского летописца о верховенстве своего княжества в Русской земле. Такими городами были Нижний Новгород, Тверь и Москва. Их своды отличаются широтой. Они соединяют летописный материал разных областей и стремятся стать общерусскими.
Нижний Новгород стал стольным городом в первой четверти XIV века при великом князе Константине Васильевиче, который «честно и грозно боронил (оборонял) отчину свою от сильнее себя князей», то есть от князей московских. При его сыне, великом князе суздальско-нижегородском Дмитрии Константиновиче, в Нижнем Новгороде устанавливается вторая на Руси архиепископия. До этого только владыка новгородский имел сан архиепископа. Архиепископ подчинялся в церковном отношении непосредственно греческому, то есть византийскому патриарху, тогда как епископы были подчинены митрополиту всея Руси, который в это время уже жил в Москве. Вы сами понимаете, насколько было важно с политической точки зрения для нижегородского князя, чтобы церковный пастырь его земли не зависел от Москвы. В связи с учреждением архиепископии была составлена летопись, которая называется Лаврентьевской. Лаврентий, инок Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде, составил ее для архиепископа Дионисия.
Летопись Лаврентия уделила большое внимание основателю Нижнего Новгорода Юрию Всеволодовичу, владимирскому князю, погибшему в битве с татарами на реке Сити. Лаврентьевская летопись — бесценный вклад Нижнего Новгорода в русскую культуру. Благодаря Лаврентию мы имеем не только самый древний список «Повести временных лет», но и единственный список «Поучения Владимира Мономаха детям».
В Твери летопись велась с XIII по XV век и наиболее полно сохранилась в Тверском сборнике, Рогожском летописце и в Симеоновской летописи. Начало летописания ученые связывают с именем тверского епископа Симеона, при котором была построена «великая соборная церковь» Спаса в 1285 году. В 1305 году великий князь Михаил Ярославич Тверской положил начало великокняжескому летописанию в Твери.
В Тверской летописи много записей о постройках церквей, о пожарах и междоусобных бранях. Но в историю русской литературы тверская летопись вошла благодаря ярким повестям об убиении тверских князей Михаила Ярославича и Александра Михайловича.
Тверской летописи мы обязаны и красочным рассказом о восстании в Твери против татар.
Первоначальное летописание Москвы ведется при Успенском соборе, построенном в 1326 году митрополитом Петром, первым митрополитом, который стал жить в Москве. (До того митрополиты жили в Киеве, с 1301 года — во Владимире). Записи московских летописцев были краткими и суховатыми. Они касались постройки и росписей церквей — в Москве в это время велось большое строительство. Они сообщали о пожарах, о болезнях, наконец, о семейных делах великих князей московских. Однако постепенно — это началось уже после Куликовской битвы — летописание Москвы выходит из узких рамок своего княжества.
По своему положению главы русской церкви митрополит интересовался делами всех русских областей. При его дворе собирались областные летописи в копиях или в подлинниках, летописи свозились из монастырей и соборов. На основании всего собранного материала в 1409 году в Москве был создан первый общерусский свод. В него вошли известия из летописей Великого Новгорода, Рязани, Смоленска, Твери, Суздаля и других городов. Он осветил историю всего русского народа еще до объединения всех русских земель вокруг Москвы. Свод послужил идейной подготовкой для этого объединения.
Вид на Ипатьевский монастырь в Костроме. Фото: А.Савин (Wikimedia Commons)
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни —
Когда-нибудь, и скоро, может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою —
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.
А. С. Пушкин. Борис Годунов
Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
«Задачи союзов молодёжи» (текст выступления В. И. Ленина на III съезде комсомола 2 октября 1920 года)
Историческая наука против лженауки. Это третий материал, посвященный древним русским летописям. В нем речь пойдет о том, как некоторые из них выглядят, поскольку в места их хранения огромному количеству людей никогда не попасть, а также о содержании. Ведь некоторые читатели «ВО» считают, что все это так где-то и лежит, никто на новый русский язык старинные тексты не переводит, на предмет подлинности не изучает, языковедческим видам анализа не подвергает, а все открытия в этой области один только профессор Петухов и делает. Поэтому начнем, мы, пожалуй, с Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, где вместе с другими ценнейшими рукописными сочинениями наших предков хранится и летопись, получившая название Лаврентьевской. И названа она так по имени того человека, который переписал ее в 1377 году, а в конце, на самой последней странице, оставил и вот такой интересный автограф: «Аз (я) худой, недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних (монах)».
Страница Лаврентьевской летописи, оборот 81 листа. Содержит часть поучения Владимира Мономаха с описанием его военных походов, 1377 г. Источник: сайт Российской национальной библиотеки
Начнем с того, что написан этот манускрипт на «хартии», или, как еще называли этот материл, «телятине», то есть пергаменте, или особым образом выделанной телячьей коже. Читали ее много, так как видно, что листы ее не только обветшали, но и на страницах видны многочисленные следы капель воска от свечей. То есть на своем шестисотлетнем веку эта книга повидала немало.
Ипатьевская летопись хранится в Рукописном отделе Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге. Сюда она попала еще в XVIII веке из Ипатьевского монастыря, что находится под Костромой. Относится она к XIV веку и выглядит очень солидно: переплет деревянный, обтянутый темной кожей. Считается, что написана она четырьмя (пятью!) различными почерками, то есть писали ее несколько человек. Текст идет в два столбца, написанных черными чернилами, но заглавные буквы выписаны киноварью. Второй лист манускрипта весь написан киноварью и потому особенно красив. Заглавные же буквы на нем, напротив, сделаны чернилами черного цвета. Очевидно, что писцы, над ним трудившиеся, своей работой гордились. «Летописец Русский с богом починаем. Отче благий», — написано было кем-то из переписчиков перед текстом.
Что же касается самого древнего списка русской летописи, то он также сделан на пергаменте и в XIV веке. Это Синодальный список Новгородской Первой летописи, который хранится в ГИМе, то есть Историческом музее в Москве. Просто раньше он находился в Московской синодальной библиотеке, и вот по ее имени его и назвали.
Очень интересным памятником прошлого является, конечно же, знаменитая иллюстрированная Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись, ведь в ней так много цветных иллюстраций. Названа она так потому, что какое-то время находилась во владении панов Радзивиллов, а Кенигсбергской ее называют потому, что нашел ее Петр Первый в Кенигсберге. Находится она в Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. Почему-то именно она вызывает подозрения, так сказать, в своей «несостоятельности», поскольку, мол, плохие Радзивиллы как раз ее и подделали. Но написана она в конце XV века, и не где-нибудь, а… в Смоленске. Написана полууставом, то есть почерком несколько более быстрым и более простым, чем куда более торжественный и основательный устав, хотя этот шрифт тоже очень красив.
Но главное — это миниатюры Радзивиловской летописи, которых 617! Вы только подумайте: 617 рисунков, выполненных в цвете, причем все цвета яркие, очень жизнерадостные и хорошо иллюстрируют то, о чем написано в тексте. и войска, идущие в поход под развевающимися стягами, и картины битв, осад – словом, война во всех ее тогдашних видах. Мы видим князей, восседающих на «столах», служивших им троном, и иностранных послы с грамотами в руках. Мосты, крепостные башни, и стены, «порубы» — темницы, «вежи» — так назывались на Руси кибитки кочевников. По рисункам Радзивиловской летописи мы все это можем себе наглядно представить. То же самое можно сказать и про оружие и доспехи, их тут не много, а просто очень много. И все рисунки сочетаются с текстом. И вывод: такое количество рисунков вкупе с текстом подделать чисто физически невозможно. А главное, такая подделка не имела бы смысла, поскольку легко устанавливалась бы перекрестным сличением с другими текстами, а ошибки в иллюстрациях – данными археологии. Куда ни кинь, всюду клин! Или ты подделываешь один к одному, мол, нашли еще один список ранее неизвестный и хотим продать его за очень большие деньги (тут еще есть хоть какая-то надежда, что не раскусят, хотя очень слабая), или вносим туда изменения, и нас тут же разоблачает первый попавшийся специалист! То есть в любом случае затраченные деньги не окупятся. Только 617 миниатюр… ну… по 500000 р. за каждую + текст… дорогое выходит удовольствие, не так ли? А главное, чего ради?
Радзивиловская летопись. Миниатюра с изображением сражения полков Мстислава Романовича и Василька Володаревича Минского; пленение Мстислава Васильком, 1197 г. Описание события на миниатюра в тексте летописи: «в лето 6705. …Тое же зимы посла Давыд ис Смоленьска сыновца своего Мстислава, свата великого князя Всеволода, в помочь зятю своему на Витбеск, и победи я Василко с черниговци, и Мстислава, свата княжа, взяша и ведоша его к Чернигову»
Именно таковы самые древние списки русских летописей. Они, кстати, потому и названы «списками», что их «списали» с куда более древних манускриптов, которые до нас не дошли.
Тексты любой летописи писались по погодам, поэтому записи в них обычно начинаются так: «В лето такое-то (то есть в год) бысть то-то… или не бысть ничего, или не бысть ничтоже», а далее идет описание случившегося. Летописание велось «от сотворения мира», то есть чтобы перевести ту дату в современное летосчисление, нужно вычесть из летописной даты либо число 5508 либо 5507. Некоторые сообщения были очень короткими: «В лето 6741 (1230) подписана (то есть расписана) бысть церковь святые Богородицы в Суздале и измощена мрамором разноличным», «В лето 6398 (1390) бысть мор во Пскове, яко же (как) не бывал таков; где бо единому выкопали, ту и пятеро и десятеро положиши», «В лето 6726 (1218) тишина бысть». Когда событий было много, летописец пользовался следующим выражением: «в то же лето» или «того же лета».
Текст, который относился к одному году, называется статьей. Статьи в тексте идут подряд, их выделяет лишь красная строка. Заглавия давались лишь особо значимым текстам, посвященным, например, Александру Невскому, псковскому князю Довмонту, Куликовской битве и ряду других важных событий.
Но неверно думать, что летописи именно так и велись, то есть подряд год за годом делались записи. На самом деле летописи — это сложнейшие литературные произведения, посвященные русской истории. Дело в том, что их авторы-летописцы были одновременно и монахами, то есть служили Господу, и публицистами, и историками. Да, они вели погодные записи о том, чему были свидетели, вставляли в записи своих предшественников назидательные добавления, которые узнавали из той же Библии, житий святых и других источниках. Вот так и получался у них «свод»: сложный «микст» из библейских мотивов, назиданий, прямых указаний стоящего над летописцем епископа или князя, и его личного мироощущения. Разбирать летописи по силам только высокоэрудированным специалистам, иначе можно после этого легко отправиться искать могилу Святополка Окаянного на польско-чешскую границу.
Радзивиловская летопись. Увод половцами части русского населения в плен, 1093 г. Описание события на миниатюре в тексте летописи: «…и люди разделиша и ведоша во вежи к сердоболем своим и сродником. Много рода христьяньска…»
В качестве примера рассмотрим сообщение Ипатьевской летописи о том, как князь Изяслав Мстиславич сражался с Юрием Долгоруким за княжение в Киеве в 1151 году. В нем фигурируют три князя: Изяслав, Юрий и Андрей Боголюбский. И каждый имел своего летописца, причем летописец Изяслава Мстиславича открыто восхищается умом и его военной хитростью; летописец Юрия подробным образом рассказал, как Юрий, пустил свои ладьи в обход через Долобское озеро; ну а летописец Андрея Боголюбского расхваливает доблесть своего князя.
А затем после 1151 года они все умерли и посвященные им летописи попали в руки уже к летописцу очередного киевского князя, для которого личного интереса они уже не представляли, потому как стали далеким прошлым. И он объединил все эти три рассказа в своем своде. И сообщение вышло полным и ярким. И перекрестными ссылками легко проверить, откуда что было взято.
Как же удается исследователям выделять из более поздних летописей более древние тексты? Дело в том, что отношение к грамотности в то время было очень уважительным. Написанный текст имел определенное сакральное значение, недаром существовала поговорка: написано пером — не вырубишь топором. То есть переписчики древних книг с большим уважением относились к трудам своих предшественников, так как для них это был «документ», истина перед Господом Богом. Поэтому тексты полученных ими для переписывания летописей они не переделывали, а лишь отбирали интересующие их события. Вот почему известия XI-XIV веков сохранились в поздних списках практически неизменными. Что позволяет их сравнивать и выделять.
Кроме того, летописцы указывали источники информации: «Когда я пришел в Ладогу, рассказали мне ладожане…», «Се же слышал от самовидца». Такие приписки встречаются в текстах постоянно. Также было в обычае указывать: «А се от иного летописца» либо «А се с другого, старого». Например, в псковской летописи, где рассказывается о походе славян на греков, летописец записал на полях: «О сем писано в чудесах Стефана Сурожского». Некоторые летописцы участвовали в княжеских советах, бывали и на вече, и даже бились с врагами «подле стремени» своего князя, то есть ходили с ним походы, были и очевидцами, и непосредственными участниками осад городов, и чаще всего, даже уйдя из мира, занимали в обществе высокое положение. Мало того, в летописании участвовали и сами князья, их княгини, княжеские дружинники, бояре, епископы, игумены. Хотя были среди них и простые монахи, и скромные священники самых обычных приходских церквей.
Радзивиловская летопись. Построение города Белгорода по повелению Владимира Святославича, 990 г. Описание события на миниатюре в тексте летописи: «В лето 6498. Заложи Белъгород и наруби во нь от иных городов, и многи люди введе вонь. Бе бо любя град сей»
И не надо думать, что писались летописи «объективно». Напротив, кто как «видел», тот так и писал, помня, однако, что Бог за ложь, тем более письменную, «документ, между прочим», накажет вдвойне. Конфликт интересов в летописях опять же прослеживается очень четко. Летописи рассказывали и о заслугах тех же князей, но они же и обвиняли их в нарушении прав и законов. То есть не все и тогда (как и сейчас!) покупалось за деньги и силой принуждения!
P. S. Рекомендуемая статья для дополнительного чтения: Щукина Т. В., Михайлова А. Н., Севостьянова Л. А. Русские летописи: особенности и проблемы изучения // Молодой ученый. 2016. №2. С. 940-943.
Продолжение следует…
Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
40, С. 628-644
опубликовано: 18 июня 2020г.
- Л. XI-XIV вв.
- Л. XV в.
- Л. XVI-XVIII вв.
- Л. в Великом княжестве Литовском
ЛЕТОПИСАНИЕ
Важнейшая форма древнерусской историографии. Летописями называют тексты, содержащие описание исторических событий, организованное по годам. Как правило, большая часть летописи состоит из погодных статей, начинающихся обозначением года («В лето…») и продолжающихся сообщениями о событиях, нередко отделенных друг от друга оборотами типа «в то же лето» или «тои же зимы». Эти сообщения могут быть как краткими, только называющими то или иное событие, так и пространными, детализированными повествованиями. Иногда в текст погодных статей помещались документы, чуждые Л. в жанровом отношении (договоры Руси с Византией X в., «Русская Правда», «Поучение» блгв. кн. Киевского Владимира (Василия) Всеволодовича Мономаха, жизнеописания св. блгв. кн. Владимирского Александра Ярославича Невского, св. блгв. кн. Псковского Довмонта (Тимофея), блгв. кн. Московского и Владимирского Димитрия Иоанновича Донского, перечни князей и церковных иерархов и др. Для многих летописей характерны «пустые годы», т. е. обозначения годов без последующего текста. В начале летописных памятников обычно помещали вводный текст, не имеющий погодной разбивки. Погодная структура нехарактерна только для т. н. Галицко-Волынской летописи XIII в., а также для предполагаемых древнейших памятников рус. историографии кон. X или, скорее, XI в.
Все сохранившиеся до наст. времени памятники Л. так или иначе взаимосвязаны и имеют сложную картину сходств и различий. Тексты могут дословно совпадать на мн. страницах повествования, однако затем могут совершенно расходиться. В совпадающей части они могут различаться в отдельных деталях, наличием или отсутствием к.-л. известий, степенью подробности, датировками и т. д. Это обусловлено самой природой Л. Летописцы могли продолжать тексты, созданные их предшественниками, записями за новые годы, могли редактировать их, соединять разные тексты в один (создавать т. н. своды), исправлять отдельные детали (в т. ч. посредством выскабливания и т. п.).
Прп. Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 93)
Прп. Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 93)
Имена большинства книжников, участвовавших в этой работе, неизвестны. Так, в источниках XI-XIV вв. поименно названы только 4 летописца (монахи прп. Нестор Киево-Печерский и Лаврентий, игум. Сильвестр, пономарь Тимофей). Др. имена летописцев (прп. Никон Киево-Печерский, свящ. Герман Воята, иером. Кирик, игумены Поликарп и Моисей, боярин Петр Бориславич и др.) были предложены исследователями в результате разработок гипотез с разной степенью уверенности, выдвинутых учеными. Известен ряд имен летописцев более позднего времени, как названных в источниках, так и предполагаемых. Наряду с непосредственными авторами летописных записей большое значение имел патрон (заказчик) летописной работы. Это могли быть митрополиты, (архи)епископы, князья и, вероятно, настоятели мон-рей. Начиная с XV в. есть основания говорить и о частной инициативе, напр. отдельных монахов, в составлении летописей. Местом ведения летописей, как правило, были кафедральные соборы (как в Новгороде и, вероятно, в Ростове) или мон-ри (напр., Киево-Печерский, см. Киево-Печерская лавра).
Летописи включают сообщения о событиях самого разного рода: о сменах князей, смертях, рождениях и браках членов княжеского рода, междоусобицах, городских волнениях, княжеских преступлениях и т. п., о войнах с иноплеменниками, сменах посадников и тысяцких (в Новгороде), поставлении церковных иерархов, строительстве, поновлении и росписи церквей, об основании мон-рей, о необычных природных явлениях, знамениях и бедствиях (пожарах, голодных годах, эпидемиях и т. п. событиях), и мн. др.
Не вполне ясно, как древнерусские книжники и их патроны представляли себе цели Л. Прямые свидетельства на этот счет отсутствуют (кроме, пожалуй, известия ряда летописей о том, что в 1432 кн. Юрий Дмитриевич доказывал в Орде свои права на великое княжение «летописцы старыми списки и духовною отца своего»). В качестве гипотез предполагались задачи политико-идеологические (обоснование прав на власть, прославление династии и т. п.), политико-юридические (фиксация прецедентов), церковные (запись дней смерти или основания церквей для последующих служб и т. п.), эсхатологические (запись деяний людей для Страшного Суда [И. Н. Данилевский]) и др. Говоря о функциях раннего Л., важно иметь в виду, что нет сведений о тиражировании этих текстов (и, следов., о сколько-нибудь широком круге их читателей), скорее всего они имелись в одном экземпляре в соборных церквах или крупных мон-рях. Вероятно, переработка летописного текста не всегда подразумевала его переписку: книжники могли заменять отдельные тетради, вставлять листы и т. п. С XV в., когда переработка и копирование летописей приобрели большие масштабы, есть основания говорить о росте политического значения и тенденциозности летописей.
Все ранние летописи написаны на церковнослав. языке со значительным элементом живой восточнослав. речи (по В. М. Живову, гибридный церковнослав. язык). При этом язык конкретных летописцев может довольно существенно различаться (в т. ч. и по признаку использования восточнославянизмов, диалектизмов и др.), что дает основания для лингвистической стратификации летописей.
В Л. использовалось летосчисление от Сотворения мира (С. М.), как правило, к-польская эра, для к-рой дистанция от С. М. до Р. Х. составляет 5508 лет (см. в ст. Хронология). Летописцы XI-XIV вв. чаще всего считали, что год начинается весной (1 марта или в начале Великого поста), однако иногда — на полгода позже, а иногда — на полгода раньше визант. сентябрьского года (т. н. мартовский и ультрамартовский стили). Из-за несовпадения в определении, когда наступает новолетие, между летописями имеется немало расхождений в датировке событий, которые в летописях часто указывались не только по году от С. М., но и по месяцам и числам юлианского календаря по церковным праздникам, дням недели и даже иногда по времени суток. Нередким было указание на индикт.
Хотя Л. началось на Руси в XI в., сохранившиеся рукописи датируются временем не ранее XIII в. Известны всего 2 кодекса с летописями на пергамене (Синодальный список Новгородской I летописи XIII-XIV вв. и Лаврентьевская летопись 1377 г.; еще один пергаменный кодекс, Троицкая летопись нач. XV в., сгорел в московском пожаре 1812 г.), множество других являются бумажными. Из бумажных рукописей свыше 20 датированы XV или рубежом XV и XVI вв., остальные — более поздним временем. Иллюстрированные кодексы представлены Радзивиловской летописью (ок. 1487), Лицевым летописным сводом (60-70-е гг. XVI в.) и нек-рыми памятниками XVII в.
Как правило, «летописями» (Ипатьевская летопись, Новгородская I летопись и т. д.) называют группы близкородственных кодексов, содержащих приблизительно один и тот же текст, иногда с разным окончанием. «Списками» (напр., Ипатьевский список Ипатьевской летописи) называют конкретные кодексы, принадлежащие к этим группам, «изводами» — подгруппы этих списков (напр., Новгородская I летопись старшего и младшего изводов). В случае, если какая-то летопись представлена всего одним списком, она может называться и «летопись» и «список» (напр., Лаврентьевская летопись = Лаврентьевский список). Названия летописей и списков, принятые в науке, равно как и группировка списков в летописи, сложились исторически и не всегда отражают реальное содержание и соотношение текстов (напр., Ипатьевская летопись названа так потому, что ее древнейший список обнаружен в костромском Ипатиевском во имя Св. Троицы мужском монастыре, но ее текст не имеет никакого отношения к Костроме; Новгородская IV летопись древнее, чем Новгородские II и III летописи; различия между старшим и младшим изводами Новгородской I летописи, скорее заставляют считать их разными памятниками; и т. д.). Кроме названий реально сохранившихся текстов в лит-ре фигурируют наименования не существующих в оригинале, а реконструируемых памятников Л. (напр., «Повесть временных лет», Начальный свод, Свод 1212 г., Новгородская владычная летопись и др.). Слово «свод», подчеркивающее компилятивный характер большинства памятников Л., может использоваться по отношению как к реконструируемым текстам (напр., Начальный свод), так и к реально сохранившимся (напр., Ипатьевский свод = Ипатьевская летопись).
Л. XI-XIV вв.
Представлено следующими памятниками.
Лаврентьевская летопись. Начальный разворот. 1377 г. (РНБ. F.IV.2. Л. 1 об.— 2)
Лаврентьевская летопись. Начальный разворот. 1377 г. (РНБ. F.IV.2. Л. 1 об.— 2)
Лаврентьевская летопись известна в единственном списке (РНБ. F.п.IV.2), написанном в 1377 г. мон. Лаврентием и еще 2 писцами, вероятно, в Н. Новгороде. Отражает Л. Киева (в части до сер. XII в.), Переяславля-Южного (частично в тексте за XII в.) и Владимиро-Суздальской Руси (с сер. XII в.). К ней текстуально близка Троицкая летопись, доводившая изложение до 1408 г. и отражавшая в части за XIV — нач. XV в. Л. Москвы, Твери и других городов. Она сгорела в московском пожаре 1812 г., однако ее текст может быть с высокой степенью уверенности реконструирован на основе выписок Н. М. Карамзина из готовившегося в нач. XIX в. издания и др. источников.
Близкий к ним текст с описанием событий только до нач. XIII в. содержат еще 3 памятника. Радзивиловская летопись (БАН. 34.5.30, создана ок. 1487 на территории Литовского великого княжества) доводит изложение до 1206 г. Это древнейший сохранившийся иллюстрированный летописный кодекс: рукопись содержит 618 миниатюр, частично, как предполагается, воспроизводящих миниатюры утраченного протографа нач. XIII в. Московско-Академическая летопись (РГБ. Ф. 173.I.236) — рукопись кон. XV в., представляющая собой почти механическое соединение 3 памятников: до статьи 1206 г. она совпадает с Радзивиловской (и даже может быть названа ее Академическим списком); статьи 1205-1238 гг. совпадают с Софийской I летописью; текст за 1239-1419 гг. содержит краткую ростовскую летопись, в части за XIII в. родственную Лаврентьевской. Летописец Переяславля-Суздальского сохранился в 2 списках до 60-х гг. XV в. (РГАДА. Ф. 181. № 279/685; БАН. 45.11.16), из к-рых только 1-й содержит полный текст памятника до 1214 г. Статьи 1138-1206 гг. близки к Радзивиловской летописи; текст за 1206-1214 гг. оригинальный.
Под именем Ипатьевской летописи известна группа близкородственных списков, древнейший из к-рых (Ипатьевский, БАН. 16.4.4) написан ок. 1418 г., а 2-й по древности (Хлебниковский, РНБ. F.IV.230) — в 50-60-х гг. XVI в. (другие, еще более поздние списки близки к Хлебниковскому). Текст Ипатьевской летописи до кон. XII в. отражает киевское Л., а текст за 1201-1292 гг.- Л. Галицко-Волынской Руси.
Понятие «Новгородская I летопись» включает как старший извод — пергаменный Синодальный список (ГИМ. Син. 786; его 1-я ч. написана ок. 1234, 2-я — ок. 1330, также имеются приписки разными почерками о событиях 1330-1352 гг.; тетради с текстом до 1016 г. утрачены), так и младший извод: группу списков, древнейшие из которых — Комиссионный (СПбФИИ. Ф. 11. № 240) и Академический (БАН. 17.8.36) — датируются сер. XV в. (кроме того, есть неск. списков XVIII-XIX вв., восходящих к Академическому, а также Троицкий список 60-х гг. XVI в., РГБ. Ф. 173. IV. № 54, содержащий только текст до 1015 г.). Оба извода содержат почти идентичный текст новгородской летописи, отражающий события кон. XI — нач. XIV в., однако изводы различаются в части за XI в. Младший извод имеет продолжение о событиях XIV — 1-й пол. XV в. Ряд уникальных известий за XI и XIV вв. содержат также новгородско-софийские летописи, в целом представляющие сводческую работу уже XV в.
Три памятника содержат тверское Л. с кон. XIII в. и на протяжении всего XIV в.: Рогожский летописец — свод, сохранившийся в единственной рукописи 2-й четв. XV в. (РГБ. Ф. 247. № 253); Тверской сборник (Тв.), известный в 3 списках XVII в. (к Твери имеет отношение только текст с 1284 г.; более ранние статьи восходят к ростовскому своду 1534 г., который в свою очередь имел источники, близкие к новгородским и новгородско-софийским летописям), а также тверской летописный фрагмент за 1314-1344 гг., обнаруженный А. Н. Насоновым в рукописи XVII в. (ГИМ. Муз. № 1473).
История Л. XI-XV вв. во многих моментах может быть уверенно реконструирована на основе сравнительно-текстологического метода, анализа вставок, дублировок и внутренних т. н. швов, выявления языковой гетерогенности и др. методов. В то же время остается немало дискуссионных или не вполне проясненных вопросов.
Важнейшие из наиболее ранних сохранившихся летописных кодексов (Лаврентьевский, Радзивиловский, Московско-Академический, Ипатьевский, Хлебниковский) в части до 10-х гг. XII в. содержат почти идентичный текст, начинающийся словами: «Се повести времяньных лет…» и получивший поэтому в науке название «Повесть временных лет» (ПВЛ). Этот свод состоит из обширной недатированной части (рассказывающей о расселении народов после потопа, географии Вост. Европы, происхождении Киева, визите св. ап. Андрея Первозванного на Русь и др.) и погодных статей с 852 (6360) г. по 10-е гг. XII в. (конкретный момент, когда заканчивается ПВЛ и начинаются ее продолжения, является предметом дискуссии). Статьи ПВЛ за IX-X вв., очевидно, написаны ретроспективно, на основании устной традиции и визант. источников — прежде всего слав. перевода хроники Георгия Амартола с продолжением, а также подлинных договоров Руси с Византией, текст к-рых помещен в ПВЛ под 907, 911 (весьма вероятно, в этих 2 статьях помещены фрагменты одного и того же договора), 943 и 972 гг. С 1-й пол. XI в., наоборот, в ПВЛ появляются сообщения о событиях (часто лаконичные), точность датировки к-рых подтверждается зарубежными источниками. Следов., в это время в Киеве уже велись летописные записи, возможно в форме кратких анналов. С 60-х гг. XI в. в ПВЛ начинают регулярно встречаться т. н. дневные даты, а под одним годом сочетаться сообщения о событиях, друг с другом никак не связанных,- то и другое характерно для летописей, пополняющихся из года в год, т. е. во 2-й пол. XI в. в Киеве уже велось полноценное Л.
Существует т. зр., согласно к-рой ПВЛ 10-х гг. XII в. является 1-м пространным памятником древнерус. историографии, ей предшествовали только краткие записи (Т. Л. Вилкул, А. П. Толочко, В. Ю. Аристов). Однако значительная часть ученых (начиная с А. А. Шахматова, в совр. историографии — А. А. Гиппиус, С. М. Михеев и др.) полагают, что при анализе ПВЛ могут быть гипотетически выявлены более ранние этапы летописной работы.
Так, большинство ученых считают, что у истоков рус. историографии стоял какой-то пространный, не разделенный на годы текст о древнейшей истории Руси (Древнейший свод, Древнейшее сказание, «нарративное ядро»). Ученые по-разному датируют этот памятник — 90-ми гг. X в., 10-ми, 30-ми или 60-ми гг. XI в. и определяют его содержание. Во 2-й пол. XI в. в Киево-Печерском мон-ре этот памятник был, по-видимому, соединен с ведшимися на протяжении XI в. краткими анналами, в результате чего сформировался летописный жанр в известной в наст. время форме.
Конкретная история Л. 2-й пол. XI — нач. XII в. тоже составляет предмет дискуссий. Шахматов в работах кон. XIX — нач. XX в. предложил реконструкцию древнейших этапов Л., ключевым моментом которой стал т. н. Начальный свод — киево-печерский памятник 90-х гг. XI в. Согласно Шахматову, в составе Новгородской I летописи младшего извода (списки сер. XV в. и позже) сохранился текст за IX — нач. XI в., более ранний, чем «классическая» ПВЛ. В этом тексте отсутствует ряд фрагментов ПВЛ, заведомо известных как вставные (напр., рассказ о 4-й мести св. равноап. кнг. Ольги (Елены)), нет договоров Руси с Византией, части цитат из хроники Георгия Амартола и др. Эту гипотезу Шахматова поддерживает значительная часть ученых (О. В. Творогов, А. А. Гиппиус, А. Тимберлейк, П. С. Стефанович и др.), другие же настаивают на вторичности текста Новгородской I летописи в сравнении с ПВЛ (В. М. Истрин, С. А. Бугославский, Д. Островский, Вилкул и др.).
Кроме Начального свода 90-х гг. XI в. восстанавливается еще один, более ранний этап киево-печерского Л.- свод 70-х гг. XI в., часто атрибутируемый прп. Никону Печерскому. Не исключено, что именно Никон соединил Древнейшее сказание с краткими анналами, впервые создав развернутую погодную летопись. Иногда исследователями реконструируется еще один, более ранний этап Л.: по Шахматову, новгородский свод ок. 1050 г.; по Гиппиусу, киевский свод ок. 1060 г.
Нет ясности и с процессом составления ПВЛ в 10-х гг. XI в. В части списков ПВЛ содержится запись игумена киевского Выдубицкого во имя арх. Михаила мужского монастыря свт. Сильвестра (впосл. епископ Переяславский) о написании им летописи в 1116 г. В то же время, судя по содержанию, ПВЛ в своей основе сложилась в Киево-Печерском мон-ре. Киево-печерская традиция, отразившаяся в Киево-Печерском патерике, а также в Хлебниковском списке (XVI в.), приписывает создание ПВЛ монаху Печерского мон-ря прп. Нестору. Большинство ученых полагают, что Нестор был составителем ПВЛ, а Сильвестр — переписчиком или создателем 2-й редакции (соответственно, ПВЛ была создана в 1113 или 1115 г., а рукопись/редакция Сильвестра — в 1116 г.). Есть, однако, т. зр., согласно к-рой единственным автором ПВЛ был Сильвестр. Текст ПВЛ по Ипатьевскому и Хлебниковскому спискам имеет ряд особенностей в сравнении с др. кодексами (дополнительные известия, др. редакция нек-рых сообщений, напр. рассказа о призвании варягов). По мнению мн. ученых, в Ипатьевском и Хлебниковском списках отразилась еще одна, 3-я, редакция ПВЛ (ок. 1118); др. исследователи отрицают наличие особой 3-й редакции.
Л. Юж. Руси XII в. (после окончания ПВЛ) отразила т. н. Киевская летопись — текст Ипатьевской летописи за 10-90-е гг. XII в. В окончательном виде Киевская летопись представляет собой обширный свод кон. XII или нач. XIII в., содержащий наиболее объемные в раннем Л. повествования о военно-политических событиях и дающий представление о значительном круге чтения его составителя, к-рый цитирует многочисленные переводные памятники — сочинения Иосифа Флавия, Иоанна Малалы и др. В составлении этого свода, вероятно, принимал участие выдубицкий игум. Моисей. Среди источников Киевской летописи были летописные записи не только Киева, но и др. городов — Переяславля-Южного, Чернигова, Галича, а также городов Владимиро-Суздальской Руси. Сравнение текста за XII в. в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях обнаруживает значительные совпадения, к-рые обусловлены использованием как южнорус. (переяславской) летописи во Владимиро-Суздальской Руси, так и, наоборот, владимирского материала в Киевской летописи. При этом в ряде случаев Лаврентьевская летопись передает более ранние чтения, нежели Ипатьевская. По-видимому, напрямую к Киевскому своду кон. XII — нач. XIII в. восходит Московский свод кон. XV в., в к-ром сохранился ряд известий, выброшенных в Ипатьевской летописи. Киевская летопись доводит изложение до 1200 г., однако нек-рые ученые в др. летописях усматривают остатки киевского Л. за 1-ю треть XIII в.
Галицко-Волынская летопись (текст Ипатьевской летописи за 1201-1292 гг.; в действительности 1-е события, описанные в этой части, относятся к 1205) состоит из 2 частей: галицкой (до 1258) и волынской (1259-1292). Этот текст в отличие от других летописей в оригинале не был разбит на погодные статьи (в таком виде он дошел до настоящего времени в Хлебниковском списке, в Ипатьевском — явно вторичная, искусственно сделанная годовая сетка). Повествование Галицко-Волынской летописи отличается связностью, сюжетностью, вниманием к фигурам конкретных князей, что дало повод рассматривать этот памятник как серию княжеских биографий. Как и в Киевской летописи, в Галицко-Волынской имеется целый ряд заимствований из переводных исторических сочинений. При этом, в отличие от большинства других летописей, здесь нет систематических сведений по церковной истории. Не исключено, что оригинал памятника имел миниатюры. Фрагменты более раннего галицкого Л. (XII в.) вошли в состав Киевской летописи.
В Новгороде летописные записи делались уже с сер. XI в., но скорее всего это были лишь краткие заметки, сохранившиеся в Синодальном списке Новгородской I летописи (ср., однако, гипотезу Шахматова о новгородском своде сер. XI в., отразившемся в целом ряде памятников, включая ПВЛ). Первый новгородский свод, соединивший киевский материал с местным, может быть датирован 90-ми гг. XI в. или 10-ми гг. XII в. (Т. В. Гимон). С сер. 10-х гг. XII в. в Новгороде начали систематически, из года в год вести летопись, пополнявшуюся до XV в. (ее оригинал до нас не дошел, но к ней восходят оба извода Новгородской I летописи, а также летописи новгородско-софийской группы). Лингвистический анализ памятников новгородского Л. выявил моменты смены пополнявших эту летопись авторов (Гиппиус). Эти моменты в большинстве случаев совпадают со сменами новгородских (архи)епископов, что позволяет говорить о данном памятнике как о новгородской владычной летописи (впрочем, не исключено, что первое время, в 1115-1132, патроном летописца был князь). Весьма вероятно, что летописцем архиеп. Нифонта (статьи 1132-1156 гг.) был иером. Кирик, а летописцем свт. Новгородского Иоанна (Илии) (статьи 1164-1186 гг.), отредактировавшим начальную часть летописи,- свящ. Герман Воята. Пример пономаря Тимофея (XIII в.) показывает, что один человек, будучи клириком приходской церкви Новгорода, мог заниматься перепиской богослужебных книг на заказ и одновременно исполнять обязанности архиепископского секретаря, пополняя летопись и составляя официальные документы. Новгородское Л. XII-XIV вв. отличается лаконичностью, вниманием к местным, городским делам (внутренние конфликты, смены посадников и тысяцких, пожары, строительство церквей и др.), а также к природным явлениям. Л. XIII в. более пространное и лит. обработанное, чем Л. XII и XIV вв. Со 2-й четв. XIV в. (Л. свт. Василия Калики) новгородская владычная летопись начинает чаще интересоваться событиями за пределами Новгородской земли. Высказывались гипотезы о том, что Л. велось в Новгороде не только в соборном храме Св. Софии, но и в др. церквах и мон-рях Новгорода и его окрестностей. Однако имеется только 2 примера. Во-первых, это Синодальный список Новгородской I летописи, представляющий собой копию владычной летописи, сделанную для Юрьева новгородского мужского монастыря ок. 1234 г., пополненную по той же владычной летописи ок. 1330 г., а в 1330-1352 гг. получившую ряд приписок разными почерками о текущих событиях. Во-вторых, записи в рукописи Студийского устава кон. XII в. (ГИМ. Син. 330), которые представляют собой выписки из владычной летописи, касающиеся Благовещенского на Мячине монастыря. Т. о., в обоих случаях перед нами не самостоятельные летописи, а копия владычной летописи и выписки из нее, сделанные для нужд конкретных монастырей.
С XIII в. летописные записи стали делать в Пскове. В XIV в. псковское Л. приобрело более регулярный характер. По содержанию псковские летописи сходны с новгородскими: их отличают деловой стиль, интерес к городским событиям, строительству, природным явлениям, а также к взаимоотношениям Пскова с Ливонским орденом, Новгородом и Литвой. Центром Л. был Троицкий собор. Материалы псковского Л. XIII-XIV вв. сохранились в переработанном виде: в составе псковских сводов с сер. XV в., а также в т. н. новгородско-софийских летописях.
Л. Сев.-Вост. Руси началось в сер. XII в. и отразилось в Лаврентьевской, Радзивиловской, Московско-Академической летописях, Летописце Переяславля-Суздальского, Московском своде кон. XV в. и др. Местом ведения летописи в XII-XIII вв. были Владимир и/или Ростов. Традиционно патронами Л. считаются вел. князья Владимирские, однако в последние годы получен ряд данных о связи Л. с Ростовской епископской кафедрой. Тем не менее северо-вост. Л. отличается от новгородского особым вниманием к деятельности князей, а не к жизни одного из городов. К нач. XIII в. относится составление Владимирского великокняжеского свода, иллюстрации которого предположительно были использованы художниками Радзивиловской летописи. С кон. XIII в. Л. начинается в Твери (отразилось также в заключительных статьях Лаврентьевской летописи), а с XIV в.- в Москве (дошло гл. обр. в Троицкой летописи).
Л. XV в.
Для этого времени характерны объединительные тенденции в рус. княжествах и соответственно обострившаяся политическая и идеологическая борьба, которая провоцировала более частый пересмотр летописных текстов, особенно в Москве и Новгороде, что также способствовало составлению общерус. сводов (т. е. таких, к-рые не ограничивали внимание историей какой-то одной земли, подобно большинству памятников XII-XIV вв.). Кроме того, это время становления книжной культуры в новых монастырях-землевладельцах (Троице-Сергиевом (см. Троице-Сергиева лавра), Кирилловом Белозерском в честь Успения Пресв. Богородицы мужском монастыре и др.), что также сказалось на развитии Л. Наконец, в XV в. в широкое употребление вошел более дешевый, нежели пергамен, материал для письма — бумага, что облегчило составление новых летописных текстов.
Общерусский митрополичий свод нач. XV в., составленный в Москве и доведенный до 1408 г., отразился в Троицкой летописи. В этом своде были использованы летописные материалы из Москвы, Твери, Новгорода, Суздаля, Ростова и др. Особое внимание в своде уделялось митр. Киевскому свт. Киприану, вскоре после смерти которого (1406) свод был составлен. Тверская обработка этого свода (или, может быть, его протографа), охватывающая события до 1412 г., отразилась в Симеоновской и Никоновской летописях и в Рогожском летописце.
Особую группу памятников Л. составляют новгородско-софийские летописи: Новгородская Карамзинская (единственный список рубежа XV и XVI вв., РНБ. F.IV.603, имеющий необычную структуру: летописный текст в нем разделен на 2 подборки), Софийская I (представлена старшим и младшим изводами; списки с 60-70-х гг. XV в.) и Новгородская IV (также имеющая старший и младший изводы; списки с 70-х гг. XV в.). Эти летописи отражают сводческую активность в Новгороде, Москве и, возможно, в Троице-Сергиевом мон-ре в 1-й пол. XV в. и по-разному сочетают известия, взятые из новгородского Л., из летописи типа Троицкой, а также из др. источников. В новгородско-софийских летописях впервые появляются обширные повести о Куликовской битве, нашествии хана Тохтамыша, «Слово о житии и преставлении» св. блгв. кн. Московского и Владимирского Димитрия Донского и др. Если в Софийской I летописи доля новгородских известий сравнительно невелика, то в Новгородской Карамзинской она существенно больше, в Новгородской IV — еще значительнее. Существует 2 основные гипотезы относительно того, как соотносятся между собой новгородско-софийские летописи. Согласно первой, в их основе лежит т. н. Новгородско-Софийский свод (ученые датируют его временем от 10-х гг. XV в. до 1448 г.), к-рый впосл. по-разному редактировали в Новгороде и Москве (Шахматов, Я. С. Лурье, М. А. Шибаев). Согласно др. гипотезе, соотношение новгородско-софийских летописей объясняется сложнее, и, в частности, постепенное сложение этих текстов отражают 2 подборки Новгородской Карамзинской летописи, причем в 1-й представлен наиболее ранний этап сводческой работы (Г. М. Прохоров, А. Г. Бобров; при этом Прохоров считает, что новгородско-софийские летописи складывались с кон. XII в., а по более реалистичному взгляду Боброва, история их составления укладывается в 1-ю пол. XV в.). Часть ученых называют одним из этапов сложения новгородско-софийских летописей Московский свод (Полихрон) митр. Киевского свт. Фотия или даже отождествляют его с Новгородско-Софийским сводом (Б. М. Клосс). В любом случае Софийская I летопись представляет московскую ветвь новгородско-софийских летописей (и на ней основано московское Л. 2-й пол. XV в.), а Новгородская IV — новгородскую ветвь, использованную позднее в новгородских и псковских компиляциях.
Ряд памятников отражает московское великокняжеское Л. 2-й пол. XV в., для к-рого реконструируется неск. последовательных этапов переработки. Свод нач. 70-х гг. XV в. (основанный в свою очередь на Софийской I летописи) отразился в Никаноровской, Вологодско-Пермской летописях, Летописи Лавровского и Музейском летописце (по Лурье); свод 1477 г.- в «Летописце русском от 72-х язык» (в Лихачёвском, Прилуцком и Уваровском списках). Свод 1479 г. сохранился в почти неизменном виде в Архивском списке кон. XVII-XVIII в. и Эрмитажном списке XVIII в., в несколько переработанном виде — в Уваровском списке XVI в.; в лит-ре называется также «Московский свод кон. XV в.». Свод 1479 г. отличается от предшествующего Л. более светским характером содержания, значительным объемом дополнительно привлеченных источников (владимиро-суздальских, южнорусского). Составитель этого свода в изложении событий прошлого целенаправленно изменял текст источников в промосковском духе. В 80-90-х гг. XV в. московское великокняжеское Л. продолжалось. Его материалы за эти годы отразились в ряде памятников: в тексте Уваровского списка за 1479-1493 гг., в неопубликованном Лихачёвском списке «Летописца русского от 72-х язык» (Арх. СПбИИ РАН. Кол. 238 (Н. П. Лихачёва). № 365), в Погодинском и Мазуринском видах Сокращенных сводов, в Симеоновской летописи (последняя представляет собой свод рубежа XV и XVI вв.), а также в Воскресенской летописи и др. сводах XVI в.
Московское Л. 2-й пол. XV в. не сводится, по-видимому, к официальным памятникам. Так, «частной» летописью (по С. Н. Кистерёву) являлся один из источников свода 1518 г.,- общего протографа Софийской II и Львовской летописей,- к-рый ученые связывают с клиром одной из кремлевских церквей.
Л. в XV в. развивалось и в др. центрах, причем некоторые летописи характеризует независимая политическая позиция, отличавшаяся, скажем, от взгляда великокняжеских летописцев. Примером может служить Л. Ростова, по-прежнему связанное с Ростовской кафедрой. До 1419 г. ростовское Л. отразилось в Московско-Академической летописи. Согласно О. Л. Новиковой, текст этой летописи за 1413-1419 гг. составлен уже в Москве, в резиденции ростовского владыки в Дорогомилове. К этому же памятнику восходит «Летописец русский» кон. XV в., опубликованный Насоновым по спискам ГИМ. Син. 941 и РГБ. Муз. 3841. Ростовский свод 1489 г. составил основу Типографской летописи. В этом своде обнаруживается независимая от великокняжеской власти позиция по ряду вопросов (напр., летописец осуждает репрессии в присоединенных к Москве Новгороде и Твери).
В Ермолинской летописи (доходящей до 1481 г. с приписками за 1485-1488 гг.), а также в Устюжской и Сокращенных сводах отразился (по гипотезе Лурье) летописный свод 70-х гг. XV в., составленный в Кирилловом Белозерском мон-ре и тоже отличавшийся независимым взглядом на ряд событий. В статьях 1462-1472 гг. Ермолинской летописи присутствуют известия о деятельности архитектора и строителя В. Д. Ермолина. С Кирилловым Белозерским мон-рем связывается и младший извод Софийской I летописи (60-е гг. XV в.). В составе одного из сборников известного кирилло-белозерского книжника 2-й пол. XV в. мон. Евфросина (ныне в 2 кодексах: РНБ. Кир.-Бел. 22/1099; РНБ. Погод. 1554) известен краткий «Русский летописец», к-рый нек-рые исследователи атрибутируют самому Ефросину.
В Твери Л. продолжалось до утраты независимости в 1485 г. (последовательный ряд тверских известий до этого времени сохранился в составе Тверского сборника). Л. Вологды с 70-х гг. XV в. отразилось в Вологодско-Пермской летописи. Летописные записи, делавшиеся в кон. XIV-XV в. в Вел. Устюге отразились в Устюжской (Архангелогородской) летописи. Из состава Коми-Вымской летописи (80-е гг. XVI в.) вычленяется серия известий, восходящих к пермской владычной летописи, ведшейся в Усть-Выми в кон. XIV-XV в. (вероятно, также послужила источником Вологодско-Пермской летописи).
В Новгороде в 1-й пол. XV в. Л. представлено, с одной стороны, продолжением новгородской владычной летописи (отразилось в Новгородской I летописи младшего извода), а с другой — новгородской версией Новгородско-Софийского свода (Новгородская IV летопись), тоже созданной по инициативе архиеп. свт. Евфимия II Вяжицкого. В сер. XV в. по его же инициативе создается Новгородская V летопись — сокращенная переработка Новгородской IV с исправлениями по Новгородской I. В 1450 г., судя по упоминанию в Новгородской II летописи (XVI в.), какой-то памятник Л. был создан в Лисицком мон-ре. К XV в. относится и несохранившийся краткий новгородский летописец, послуживший источником таких памятников, как Летопись Авраамки, Летописец еп. Павла, Рогожский летописец, Новгородская Большаковская летопись и др. Новгородское Л. кон. 40-х — 70-х гг. XV в. отразилось в Строевском и Синодальном списках Новгородской IV летописи, в Летописи Авраамки, а также в Устюжском летописце. По гипотезе Боброва, в 70-х гг. XV в. Л. перешло из ведения архиепископов в ведение коллегии посадников. После утраты Новгородом независимости (1478) Л. здесь возобновляется лишь в XVI в.
В Пскове на протяжении XV в. также вели Л., разные его слои отразились в Псковских I, II и III летописях (из них только II дошла в рукописи 80-х гг. XV в., остальные — в более поздних). В основе всех 3 памятников лежит псковский свод сер. XV в., которому было предпослано жизнеописание св. кн. Псковского Довмонта (Тимофея). В этом своде были использованы источники из Новгорода, Смоленска и др.; т. о., псковское Л. тоже приобрело общерус. характер. Уже в 1-й пол. XV в., на одном из этапов работы над новгородско-софийскими летописями, в распоряжении сводчика имелся какой-то псковский летописный текст за XIV — нач. XV в. Для 2-й пол. XV в. предположительно реконструируется ряд этапов летописной работы в Пскове.
Наряду с пространными памятниками Л. с древнейших времен известны разнообразные краткие летописчики и подобные им тексты. Так, в составе «Памяти и похвалы князю Владимиру» Иакова Мниха (XI в.) читается роспись событий времен Владимира Святого, датированных по годам его правления. Часть «Поучения» Владимира Мономаха составляет перечисление в хронологическом порядке его военных и охотничьих достижений. В рукописи Студийского устава кон. XII в. (ГИМ. Син. 330) на последней, чистой странице сделано неск. выписок из новгородской владычной летописи, касающихся строительства Благовещенского мон-ря под Новгородом и смертей 2 архиепископов — его основателей. Рус. известиями, доходившими до 1278 г., в XIII в. в Ростове был продолжен славянский перевод «Летописца вскоре» патриарха Никифора (древнейшие списки в составе Кормчих книг). Известны 2 серии летописных записей на пасхалиях: 1) ок. 40 кратких записей, вписанных в клетки пасхальной таблицы в новгородской рукописи сер. XIV в. (ГИМ. Син. 325), вероятно, имевшей тверской протограф; 2) ок. 50 сообщений о событиях 2-й пол. XV в. на полях пасхалии в сборнике РГБ. 304.I.762, принадлежавшей Симеону (Сергию), протопопу московского Успенского собора, Новгородскому архиепископу, а затем монаху Троице-Сергиева мон-ря († 1495). Родственной летописям формой историописания были перечни князей, церковных иерархов, новгородских посадников и тысяцких, а также епископий и городов, читающиеся в целом ряде рукописей XV в.- чаще всего внутри летописного текста или в составе его «конвоя». Весьма вероятно, что нек-рые из этих перечней имели протографы кон. XI и/или 60-х гг. XII в. Во многих рукописях нелетописного содержания имеются приписки об отдельных исторических событиях (иногда в составе выходных записей писцов, но нередко и в виде самостоятельных «летописных» записей или серий таковых). Наконец, нек-рое количество «летописных» надписей известно среди граффити древнерус. церквей (с XI в.).
Л. XVI-XVIII вв.
В отличие от Л. XV в. традиция XVI в. почти не знает памятников, оппозиционных по отношению к гос. власти; местное Л. продолжалось лишь в Новгороде, Пскове и Устюге, но не носило антимосковской направленности. По мнению Лурье, в XVI в. происходил относительный спад в развитии рус. Л. Д. С. Лихачёв, напротив, считал XVI в. расцветом Л.- в это время были созданы крупнейшие исторические компиляции (Никоновская, Воскресенская летописи, Лицевой летописный свод). Летописи претерпели изменения: годовые статьи стали более пространными, некоторые памятники по форме сблизились с историческими повестями и трактатами, сохраняя при этом все особенности летописного жанра. По мнению Я. Г. Солодкина, в это время существовали также неофициальные (как правило, боярские) частные летописцы, к-рые не сохранились, но дошли до настоящего времени в летописях XVII в.
Софийская 1-я летопись (С1) по списку Царского (С1Ц) была создана вскоре после 1508 г. (текст доведен до этого года). С1Ц существенно отличается от др. списков С1. В ее основу была положена С1 младшей редакции. Кроме того, был привлечен Сокращенный свод кон. XV в. (близкий к Погодинскому списку), а также записи московского великокняжеского Л., доведенные до 1508 г. (Клосс). Поднимался вопрос о влиянии С1Ц на последующее рус. Л. Памятник был использован при создании Воскресенской летописи (Шахматов, В. А. Кучкин, Клосс).
Два важнейших памятника рус. исторической книжности — Львовская летопись (Львов.) и Софийская 2-я летопись (С2) — восходят к Летописному своду 1518 г. (Св.1518). Львов. представляет собой компиляцию 2 памятников: сначала следует тексту Св.1518 вплоть до его завершения, а после этого — Своду 1560 г. (Клосс). С2 совпадает с Львов. с кон. XIV в. и до 1518 г. (Шахматов). Позже было выяснено, что источником С2 и Львов. послужила одна и та же рукопись (Клосс, Лурье). Выделяют 2 редакции Св.1518: первая возникла в результате соединения Ростовского свода 1489 г. и великокняжеской летописи, доведенной до 1518 г. (сохр. в составе Уваровской летописи); вторая сложилась в результате дополнения 1-й по различным источникам, среди которых — великокняжеский Московский свод кон. XV в., Сокращенный свод 1491 г., материалы митрополичьего архива, компиляция, включавшая Ермолинскую летопись, летопись, сходную с Типографской, и С1 (Клосс). Одним из основных источников Св.1518 считается летописный свод 80-х гг. XV в., оппозиционный по отношению к Иоанну III; к этому своду восходит цепь уникальных известий в С2 и в Львов., завершающаяся на 80-х гг. XV в. Составителями были книжники Успенского собора (по мнению Клосса, В. Д. Назарова), или это был летописец священника московской ц. во имя св. Иоанна Лествичника Петра-Кифы, составителя «Слова на второе перенесение мощей митрополита Петра» и «Сказания от чудес некоего любомудреца» (как считает Кистерёв).
Иоасафовская летопись (Иоасаф.) сохранилась в единственной рукописи. Она охватывает события с 1437 по 1520 г., название дано по имени владельца рукописи митр. Московского Иоасафа (Скрипицына). В основе Иоасаф. лежит Московский свод кон. XV в., продолженный записями до 1520 г., к-рый был дополнен материалами церковного происхождения, в частности известиями Св.1518, рассказами о чудесах при гробницах святителей Московских Петра и Алексия и др.
Крупнейший памятник русского Л. XVI в.- Никоновская летопись (Ник.), названная по одному из списков, который принадлежал патриарху Московскому Никону. Этот летописный свод митр. Даниила (Клосс) охватывает события до 1520 г. Оригинал Ник. сохранился в составе рукописи М. А. Оболенского (Обол.) РГАДА. Ф. 201. № 163 (конволют). Часть этой рукописи, содержащая Ник., датируется 20-30-ми гг. XVI в. Основные источники Ник.- Симеоновская, Иоасаф. и Новгородская хронографическая летописи, протограф Владимирского летописца, тверской источник (по Клоссу — летописный свод, сходный с Рогожским летописцем и Тверским сб.); вероятно, был привлечен Св.1518, что согласуется с предположением об использовании Св.1518 при создании Иоасаф. (Насонов), Московский свод кон. XV в., Хронограф 1512 г. (С. П. Розанов), 2-й хронографический памятник, сходный с Западнорусским хронографом (Клосс). Особенность Ник.- наличие родословных росписей рядом с именами князей, близких к генеалогическим материалам, читающимся на листах 389-477 сборника БАН. Арханг. Д. 193. Некоторые известия Ник. уникальны. Источники были творчески обработаны составителями этой летописи в интересах митрополичьей кафедры, последовательно проведены идеи защиты церковного имущества и прав Церкви на собственность, а также союза гос-ва и Церкви, дано историческое обоснование ряда вопросов, которые были предметом обсуждения на церковном Соборе 1531 г. В 50-х гг. XVI в. со списка Обол. была снята копия, дополненная по Воскресенской летописи и «Летописцу начала царства» (см. ниже), доведенному до 1556 г., рукопись (БАН. 32.14.8) получила наименование Патриаршего списка (Патр.), бытовала в церковных кругах. Обол. использована при создании Лицевого свода и Летописного свода 1560 г., а впосл. рукопись оказалась в Троице-Сергиевом монастыре, где в 30-х гг. XVII в. была использована для создания особой, Троицкой, редакции Ник. (Клосс).
Вторым по масштабам летописным памятником XVI в. считается Воскресенская летопись (Воскр.), сохранившаяся в нескольких списках: одни содержат 1-ю половину, другие — 2-ю половину текста. Полный текст Воскр. отразился в Библиотечном списке (РНБ. F.IV.239; F.IV.585) и копиях с него. Списки, содержащие половину текста произведения, восходят к несохранившемуся списку-двухтомнику (А. В. Сиренов). Основные источники Воскр.- Свод 1479 г. и С1Ц. Текст доведен до 1541 г., древнейшие списки относятся к 50-м гг. XVI в. При определении времени создания Воскр. учитывалось, что в последних статьях ее составитель симпатизирует Шуйским, к-рые имели наибольшее влияние в 1542 г., последним в перечне митрополитов назван Макарий (митрополит с 1542), а польск. кор. Сигизмунд (ум. в 1548) упоминается живым (С. А. Левина). Но в Библиотечном списке имя Макария приписано др. почерком, следов., работа велась до 19 марта 1542 г. Тексту Воскр. предшествуют 2 оглавления: в первом повествование доведено до 1533 г., во втором — до 1537 г. На этом основании выделяют 2 редакции памятника — 1533 и 1537 г. (Шахматов). Два кратких летописца (ГИМ. Син. 939 и БАН. Арханг. Д. 193), вышедшие из-под пера известного книжника 1-й трети XVI в. Михаила Медоварцева, отразили текст Воскр. (Сиренов). Один из них (БАН. Арханг. Д. 193) составлен в 20-х гг. XVI в., когда, следов., появилась первоначальная редакция Воскр.
В нач. 50-х гг. XVI в. был создан «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича» (ЛНЦ) — произведение, оригинальное по форме и содержанию, по жанровой принадлежности сближающееся с историческими повестями. В ЛНЦ соединены документальное и хронографическое начала, для него характерно совмещение «деловой приказной речи с литературно-украшенной» (Лихачёв). Еще до обнаружения древнейших списков ЛНЦ Шахматов предположил, что повествование о событиях за 1534-1556 гг. в Патр., за 1542-1558 гг. в Обол. и за 1534-1560 гг. во Львов. заимствованы из официальной летописи. Впосл. Н. Ф. Лавров обнаружил списки (происходящие из Кириллова Белозерского монастыря), содержащие ЛНЦ вне состава более крупных компиляций. А. А. Зимин установил, что это наиболее ранняя редакция ЛНЦ. Первоначально ЛНЦ описывал события до взятия Казани и возвращения царя в Москву в форме панегирика по случаю победы (С. О. Шмидт). Повествование начинается с вокняжения Иоанна IV Васильевича (1533). Особое внимание уделено внешнеполитическим контактам, дипломатическим отношениям, военным походам. Со временем текст был отредактирован, 2-я редакция положена в основу офиц. летописца эпохи Иоанна IV (А. Е. Жуков). Вопрос о круге создателей ЛНЦ спорный: составление памятника связывали с деятельностью свт. Макария (Лавров, Насонов) или же приписывали авторство А. Ф. Адашеву (Зимин). Светский характер ЛНЦ не следует преувеличивать: значительная часть известий в его составе посвящена вопросам истории Церкви. Возможно, в его создании участвовали как светские, так и духовные лица (А. С. Усачёв). Текст ЛНЦ вошел в состав ряда летописных сборников XVI-XVII вв. и послужил источником Летописного свода 1560 г. и Лицевого летописного свода.
Летописный свод 1560 г. (Св.1560) — компиляция текстов на основе Воскр. и Ник. (Обол. и один из списков двухтомника Воскр.); другими его источниками были Св.1518 в списке, более исправном, чем тот, что использовали составители С2 и Львов., Новгородский свод 1539 г., Житие прп. Михаила Клопского и разрядные материалы семейства Колычевых (Жуков). Клосс и Жуков предположили, что Св.1560 появился при митр. сщмч. Филиппе II (Колычеве), возможно в его окружении. А. Е. Пресняков обнаружил список РГАДА. МГАМИД № 11, к-рый назвал Архивским летописцем, а Насонов — список РГБ. Рум. Ф. 256. № 255 (Румянцевский летописец). Позже Клосс установил, что это один и тот же текст, совпадающий также с текстом Львов. после 1518 г.
Крупнейший памятник официального русского Л. XVI в.- Лицевой летописный свод (ЛЛС), компиляция, состоящая из 10 томов, украшенных 16 тыс. миниатюр. Первые 3 тома посвящены всемирной истории, последующие — рус. истории. Последние 2 тома (т. н. Синодальный том и Царственная книга) охватывают правление Иоанна IV. Завершается текст 1567 г. Первую публикацию во 2-й пол. XVIII в. осуществил М. М. Щербатов, обнаруживший Царственную книгу (ГИМ. Син. 149). Долгое время создание ЛЛС относили к XVII в. Но водяные знаки бумаги свидетельствуют о том, что памятник был создан в 70-х гг. XVI в., т. е. в годы правления Иоанна IV (Н. П. Лихачёв). Высказывалось мнение, что ЛЛС составляли с 1568 и до сер. 1576 г. в царской книгописной мастерской в Александровой слободе (Клосс) или же что в дек. 1576 г. была завершена только хронографическая часть памятника и активно шла работа над летописной (А. А. Амосов); существует гипотеза, что в его создании принимали участие книжники из митрополичьего или чудовского скриптория, ранее составившие Степенную книгу (Усачёв). Выявлены неск. рукописей, к-рые были непосредственными источниками памятника: «История Иудейской войны» Иосифа Флавия (В. Ф. Покровская), Обол., список Еллинского летописца 2-го вида (Клосс), Томский список Степенной книги царского родословия (Сиренов). Переписчики ЛЛС соединяли фрагменты, заимствованные из источников, практически не изменяя их текст (в этом ЛЛС сходен со Св.1560). По поводу авторства приписок к тексту ЛЛС за период царствования Иоанна IV возникла дискуссия. Согласно одной т. зр., они были сделаны непосредственно царем (Д. Н. Альшиц). По другому мнению, приписки были сделаны лицом из окружения Иоанна IV (Шмидт). Существует также гипотеза, согласно которой приписки к Царственной книге сделал дьяк И. М. Висковатый между 1568 и 1570 гг. (Н. Е. Андреев). Одни исследователи считали содержание приписок тенденциозным (Альшиц, Шмидт), другие — достоверным (Андреев).
В 3-й четв. XVI в. составлена общерусская Холмогорская летопись (Холм.), доведенная до 1558 г. («Книга Летописец Киевский и Володимерский и Московский и всех руских князей»), впервые исследованная (в одном списке) Лурье. Более ранний список, кон. XVI в., обнаружен А. В. Лаврентьевым. В начальной части Холм. сходна с Типографской летописью; с сер. XII до кон. XIV в.- со Львов.; с кон. XIV по кон. XV в. текст сближается с Вологодско-Пермской летописью (в особой редакции, к к-рой восходит ряд уникальных известий Холм.); источниками были Сказание о князьях Владимирских, Повесть о Флорентийском Соборе Симеона Суздальского, «Просветитель» Иосифа Волоцкого, Послание Филофея Мисюрю Мунехину «на звездочетцев». Соединение источников не было механическим: компилятор выстраивал известия в хронологическом порядке, в нек-рых случаях вставлял в текст собственные комментарии, проводил своеобразный анализ фактов и пытался согласовать противоречивые сведения своих источников (Лурье). Важное место в Холм. занимают сведения по истории Русского Севера (Холмогор и Двинской земли), особенно с кон. XV в.
В XVI в. создается Тверская летопись, или Тверской сборник (Тв.), дошедший в 3 списках XVII в. Предполагают, что составитель был ростовцем. Первая часть Тв. заимствована из Ростовского свода, близкого к Ермолинской и ко Львов., в распоряжении составителя была Н1, на протяжении 6793-6883 (1285-1375) гг. текст совпадает с Рогожским летописцем. Источником Тв. и Рогожского летописца был тверской летописный свод 1375 г. в редакции 1455 г., составленной в Твери под влиянием Свода 1448 г. (Насонов), однако есть мнение (Лурье), что никакого влияния Свода 1448 г. в Тв. не обнаруживается, а сходный текст Тв. и Рогожского летописца возник под влиянием др. памятника — Свода 1408 г., отразившегося в Троицкой летописи.
В XVI в. Л. развивается и на севере России. Одним из наиболее ярких памятников местного Л. XVI в. является Устюжская летопись (Устюж.) 1-й четв. XVI в. Она содержит местные и общерус. известия, состоит из 3 частей: с 852 по 1114 г., с 1124 по 1473 г., с 1474 по 1516 г. Устюж. сохранилась в 2 редакциях. Первая представлена списком Мацеевича, обнаруженным К. Н. Сербиной (ИРЛИ (ПД). Древл. Оп. 23. № 134), 2-я была известна Шахматову под названием Архангелогородского летописца. В 3-й части списки Устюж. содержат большее количество расхождений, на это время приходятся наиболее важные события для устюжан, когда они активно участвовали в жизни Московского гос-ва. По мнению Сербиной, эта летопись ближе всего стоит к Сокращенному своду по Погодинскому списку; составитель Устюж. во 2-й части привлек протограф, общий с Сокращенным сводом, дополнив его общерусскими, ростовскими, новгородскими и устюжскими известиями, извлеченными из великокняжеского Московского свода XV в. и др. письменных и устных источников. Согласно Лурье, Устюж. восходит к независимому Кирилло-Белозерскому своду. В рукописи содержится ряд уникальных общерус. и новгородских известий, присутствуют особые изложения тех событий, к-рые читаются и в др. летописях. Сербина отмечала противоречивый характер Устюж.: с одной стороны, преданность устюжан вел. князьям Московским, с другой — критические замечания в адрес как великокняжеских воевод, так и самого вел. князя. Составитель во мн. случаях отмечает участие устюжан в походах вел. князей Московских против удельных князей, подчеркивает особую роль «добрых людей» Устюга, т. е., вероятно, верхушки городского посада.
Лурье считал, что новгородское Л. не продолжалось после присоединения Новгорода к Московскому гос-ву, однако позднее выяснилось, что это не так. Как показала Новикова, в 1-й пол. XVI в. оно базировалось на новгородском Л. 30-40-х гг. XV в. В основу большинства новгородских летописей XVI в. легла Новгородская 4-я летопись (Н4), 2 списка к-рой содержат текст до 1515 г. и до 1516 г., а также общий текст до 1513 г. Вероятно, в это же время был составлен еще один летописный свод новгородского происхождения. Среди источников Свода 1513 г. был и Сокращенный свод Мазуринского вида, 2-м источником была краткая новгородская летопись, завершавшаяся примерно на 1500/01 г. (может быть приблизительно реконструирована на основании сопоставления нек-рых новгородских летописей).
В Новгородской летописи по списку Дубровского (НлД) и в Архивской (Ростовской) летописи (Шахматов) отразился новгородский летописный Свод 1539 г. В основе 1-й части НлД лежит Н4 Старшей редакции, близкая к Голицынскому списку, привлекались также Н4 Младшей редакции, близкая к Академическому списку, а также новгородская редакция Сокращенного свода (Новикова). По мнению Шахматова, к Своду 1539 г. восходит также Отрывок Летописи по Воскресенскому Новоиерусалимскому списку (ГИМ. Воскр. № 154б (далее: Отрывок)), в к-ром с 7022(1414) по 7046(1538) г. содержится текст, первичный по отношению к НлД. С. Н. Азбелев полагает, что Отрывок отражает 1-ю редакцию Свода 1539 г.; по мнению Новиковой, Отрывок — это подготовительный этап работы над этим Сводом.
Др. традицию в новгородском Л., не связанную со Сводом 1539 г., представляет Новгородская Большаковская летопись, содержащая ряд уникальных известий 1-й пол. XVI в. Характер статей за 20-30-е гг. XVI в. позволяет предположить, что ее создание связано с деятельностью новгородского наместника М. С. Воронцова (Е. Л. Конявская).
В единственной рукописи сохранился Постниковский летописец (обнаружен М. Н. Тихомировым), 1-я часть к-рого близка к С2, 2-я содержит текст, изобилующий уникальными известиями — своеобразными мемуарами в форме летописных записей; текст обрывается на 1547 г. Более ранние памятники подобного рода неизвестны. Составитель был хорошо осведомлен о внешнеполитических и внутренних вопросах жизни Московского гос-ва, зафиксировал подробности политических расправ 30-40-х гг. XVI в.- возможно, это был Постник Губин, дьяк Разрядного приказа с 1542 по 1558 г. (Тихомиров).
Псковское Л. сместилось в это время в псковские мон-ри (Насонов). В сер. XVI в. создан псковский свод 1547 г., оригинал к-рого представлен Варшавским списком. Памятник связан с псковским Елизаровым во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста монастырем и старцем Филофеем. Псковская 3-я летопись (П3) создана ок. 1567 г. Псковская 1-я летопись и П3 до 1481 г. восходят к общему протографу, после этого сближаются только в отдельных известиях. Насонов предполагал, что Свод 1567 г. был создан в Псково-Печерском в честь Успения Пресв. Богородицы мужском монастыре в окружении игум. Корнилия; ученый считал, что этот текст антимосковской направленности. Другого взгляда придерживался Андреев, полагавший, что Корнилий был иосифлянином и в летописи не выражено никакой специфически местной т. зр.
Вопрос о Л. на рубеже XVI и XVII вв. несколько раз поднимался в литературе. В. И. Корецкий полагал, что в это время существовала летопись Иосифа, келейника св. патриарха Иова, к-рая была положена в основу мн. последующих летописных сочинений, но эта гипотеза не нашла поддержки. Е. И. Дергачёва-Скоп высказывала предположение о том, что существовал Сибирский летописец кон. XVI в., который лег в основу Румянцевского летописца. Но твердых данных о существовании Л. этого периода, как и самих летописей, к-рые можно было бы датировать этим временем, нет. По мнению Лурье, офиц. Л. прекратилось в годы опричнины. Корецким и Б. Н. Морозовым обнаружен т. н. Поволжский летописец нач. XVII в. (датировка по Солодкину), использовавший воспоминания какого-то участника начала Смуты.
В период правления царя Михаила Феодоровича появилось неск. исторических сочинений, традиционно названных летописцами, хотя, возможно, некоторые из них нельзя уже считать летописями в прямом смысле слова. Новый летописец (НЛ) был составлен ок. 1630 г., сохранился в многочисленных списках разного времени, к-рые можно разбить на 2 редакции: Академическую (или редакцию Овчинникова) и Ундольского (по В. Г. Вовиной-Лебедевой). В НЛ излагаются события, начиная с покорения Сибири Ермаком и заканчивая 1630 г. Большинство исследователей памятника (С. Ф. Платонов, Л. В. Черепнин, Вовина-Лебедева) считают, что НЛ вышел из офиц. кругов, предположительно связанных с патриархом Филаретом. Черепнин считал, что в работе участвовал Посольский приказ, хотя это мнение оспаривала Вовина-Лебедева. Андреев писал, что начальные статьи, повествующие о завоевании Сибири, попали в Москву при помощи Тобольского архиеп. Киприана (Старорусенкова; впосл. Новгородский митрополит) (Андреев); возможно, архиепископ был причастен к составлению их источника (Вовина-Лебедева). Л. Е. Морозова считает Киприана автором НЛ. На основе НЛ в результате дополнения его текста во 2-й пол. XVII в. составили многочисленные поздние редакции, напр. НЛ по списку Оболенского, «Летопись о многих мятежах» и др.
Нек-рые компилятивные летописцы сохранились в единичных списках. Так, список Пискарёвского летописца (ПЛ) 40-х гг. XVII в. был обнаружен О. А. Яковлевой. ПЛ содержит краткое изложение библейской и русской истории, наиболее ценными считаются его части, посвященные событиям XVI в., в т. ч. опричнине. Связный текст оканчивается известием о воцарении Михаила Романова, в заключительной части имеются сообщения о его смерти и воцарении Алексея Михайловича. Делались предположения, что памятник возник в 20-30-х гг. XVII в. в посадской среде и что к составлению причастны печатник Никита Фофанов (Тихомиров) или дьяк Нечай Перфильев (С. И. Хазанова), что ПЛ использовал воспоминания какого-то москвича, причастного к каменному строительству (Яковлева), что источником для ПЛ была НЛ (Морозова, оспорено Солодкиным), что оба памятника имели общие источники (Вовина-Лебедева). Хазанова предположила использование в ПЛ разрядных записей. Усачёв писал о связи ПЛ с нек-рыми памятниками XV-XVI вв.
Бельский летописец (БЛ) сохранился в единственном дефектном списке сер. XVII в. (ГИМ. Увар. Д. 569; начало утрачено). Составители, возможно, были близки к роду князей Прозоровских. Начинается БЛ с сообщения о смерти царя Феодора Иоанновича. БЛ доведен до 1632 г., примерно тогда же, вероятно, и составлен (Корецкий). Статья (возможно, добавленная др. составителем) о войне с Речью Посполитой в 1664 г. обрывается на фразе, наверное относящейся к 1667/68 г. Морозовский летописец (не опубл.) сохранился в единственном списке сер. XVIII в. (РНБ ОР. F.IV.228), содержит известия за 1380-1612 гг., основанные на Хронографе Кубасова с дополнениями, в т. ч. с уникальными известиями об опричнине. Московский летописец сохранился в одном списке, имеет сбитую хронологию: излагает основные события Смуты нач. XVII в., затем возвращается ко времени Иоанна III и последующим событиям до 1599 г. Содержит некоторые уникальные сведения о периоде царствования Иоанна IV и Феодора Иоанновича. Очевидно, был составлен после 1635 г., но до 1645 г. в среде московского духовенства (Солодкин) или служилых людей (Зимин). Среди источников выделяют многочисленные записи типа разрядных.
Во 2-й пол. XVII в., особенно в кон. XVII — нач. XVIII в., в разных городах России составлялись многочисленные компилятивные летописцы. Этим временем датируются списки НЛ в соединении со Степенной книгой, с Хронографом, «Повестью о Словене и Русе». Эти и др. неизданные рукописи можно расценивать как попытки создать связную «летопись» от начала Руси до современного составителям периода. Наиболее известный результат таких попыток — летописный Свод 1652 г. (не опубл., самые ранние списки: РНБ ОР. Вяз. Q.206; РНБ. Погод. 1406; РНБ. Q.IV.139; РГБ. Больш. № 423; ГИМ. Увар. № 543). Он был открыт Насоновым и подробно исследован Лаврентьевым, датировавшим его 1652-1658 гг. Свод 1652 г. основывался на Никоновской и Воскресенской летописях, житиях, исторических повестях, НЛ, дополненном некоторыми оригинальными известиями о Смуте. Лаврентьев полагал, что Свод 1652 г. отразил какую-то более раннюю, чем сохранившиеся, редакцию НЛ, но это не подтвердилось при последующем изучении памятника Вовиной-Лебедевой. Позднее был составлен Летописец 1686 г. (не опубл., наиболее ранние списки: РГАДА. Ф. 181. № 20/25; ГИМ ОР. Син. № 153; РГБ ОР. Ф. 256. № 413). Выделяют Пространную и Сокращенную редакции памятника, к-рый обосновывал идею исконной принадлежности малороссийских земель московским государям как наследникам рода Рюриковичей. В основе Летописца 1686 г. лежит НЛ с продолжением. По Черепнину, источником продолжения были документы Посольского приказа. С этим не согласился А. П. Богданов, который отнес создание Летописца 1686 г. к деятельности патриаршего скриптория. С патриаршим двором связаны и компилятивный Летописный свод 70-80-х гг. XVII в., составленный Варлаамом (Палицыным) (по Клоссу и Корецкому), и следующий за ним по содержанию Летописный свод 80-х гг. XVII в. В патриаршем скриптории возник Летописец 1619-1691 гг., сохранившийся в Пространной и Краткой редакциях; его значение — в содержащихся в тексте записях очевидца о событиях 2-й пол. XVII в.
Три фрагмента в тексте Летописца 1686 г. относятся к отдельному Летописцу Ф. Ф. Волконского (согласно Богданову). Существуют и другие частные (фамильные) летописцы служилых людей. Летописец Черкасских (ЛЧ) кон. XVII в. (не изд., единственный список 2-й пол. XVIII в.- РГАДА. Ф. 357. № 274) — историческое сочинение, соединившее части Синопсиса, НЛ, Хронографа 1617 г. (Богданов), или один из исторических сборников XVIII в. (А. Ю. Самарин). Внимание исследователей привлекли его известия о городских восстаниях сер. и 2-й пол. XVII в. Летописец Дашкова 80-х гг. XVII в. (единственный список 2-й пол. XVIII в. изготовлен для Эрмитажной б-ки -РНБ ОР. Эрм. № 567) связывают с патриаршим и государевым стольником А. Я. Дашковым, составившим его на основе Хронографа и Разрядной книги частной редакции. В Витебске в сер. XVIII в. на польск. языке с примесью белорусского витебскими мещанами была составлена т. н. Летопись Панцырного и Аверки с 974 по 1767 г. Мазуринский летописец (Маз.) сохранился в одном списке 80-х гг. XVII в. Он начинается с легендарных известий «Повести о Словене и Русе», изложение доходит до 1682 г. Очевидно, Маз. был связан с окружением патриарха Московского Иоакима (Савёлова). Основан на НЛ (или Своде 1652 г.), Хронографе 1617 г., разрядах, Хронике М. Стрыйковского и др. Содержит несколько оригинальных известий по XVII в. В тексте Маз. есть ссылка на один из его источников («…писано в другом летописце моем же Сидора Сназина»). Исходя из этого, исследователи памятника (Богданов и др.) считают служилого человека Сназина составителем Маз., хотя эта фраза, как считает Вовина-Лебедева, может указывать просто на принадлежность ему обоих летописцев. Беляевский летописец 1696 г. (единственный список — РГБ ОР. Ф. 29 (собр. Беляева). № 65/1754), по мнению Богданова, также вышел из патриаршего скриптория, текст начинается записью о смерти матери царя Михаила Феодоровича в 1631 г. и заканчивается статьей 1696 г., после чего помещена приписка о смерти Петра I Алексеевича; содержит некоторые оригинальные известия о событиях сер.- 2-й пол. XVII в. Из многочисленных кратких летописцев исследователи выделяют также «Летописец выбором» (не опубл., ранние списки — ОПИ ГИМ. Ф. 440 (колл. Забелина). № 20; РГБ ОР. Ф. 330. Карт. II. 57; РНБ ОР. Q.XVII.22) — сохранившийся в 20 списках текст, представляющий собой краткий перечень известий о событиях рус. истории с 1154 г. (перенесение Владимирской иконы Божией Матери во Владимир) до 2-й четв. XVII в. Текст представляет собой совокупность разного рода компиляций, имеющих некоторые общие признаки и восходящих к одному протографу, написанному посадским человеком или стрельцом (Богданов).
Местные (или городовые) летописи XVII — нач. XVIII в. составлялись в кругах, близких к канцеляриям воевод, или в крупных мон-рях. Встречаются и частные летописцы, в основном составленные посадскими людьми. Местные летописи являют собой смесь общерусских и местных известий. Набор последних стандартен: назначения и смены воевод (позднее губернаторов), а также игуменов мон-рей, приезд других должностных лиц, описания необычных природных явлений (бури, наводнения, сильные ледоходы, землетрясения и проч.) и бедствий (пожары, эпидемии), поступления царских грамот (иногда приводятся цитаты из них), проведение гос. ревизий и переписей населения. Отдельный ряд известий — это описания чудес местных святых; строительству церквей и монастырей часто посвящали сказания. Со временем общерус. события отражались в летописцах в виде кратких записей о новых царствованиях, рождениях и смертях особ царского рода, начале и конце войн и заключении мирных договоров. В качестве источников таких сообщений использовали в основном не более древние рукописи, а офиц. сообщения, а в летописцах XVIII в.- иногда даже печатные издания по рус. истории.
Ермак отпускает Кутугая. Миниатюра из Ремезовской летописи. 1744 г. Худож. С. У. Ремезов (БАН. 16.16.5. Л. 11)
Ермак отпускает Кутугая. Миниатюра из Ремезовской летописи. 1744 г. Худож. С. У. Ремезов (БАН. 16.16.5. Л. 11)
Сибирские летописи — большая группа связанных между собой летописных текстов, рассказывающих о завоевании Сибири казаками Ермака и последующем освоении рус. людьми этих территорий; в них описаны народы, проживавшие в Сибири, реки и дороги, рыбы и звери. Во всех известных сибир. летописях содержатся различные варианты таких рассказов. С. В. Бахрушин полагал, что все сибир. летописи восходят к единой основе, а именно к записям показаний ветеранов похода Ермака, собранных в Тобольске по приказу архиеп. Тобольского Киприана (Старорусенкова) для составления синодика казаков Ермака (казачье «Написание»). Вопрос о первичности одних сибир. летописей по отношению к другим неоднократно ставился в литературе, но единой т. зр. у исследователей нет. Предлагалось считать в качестве основы Румянцевский летописец (Дергачёва-Скоп, Лаврентьев), Погодинский летописец (Е. К. Ромодановская) и др. Есиповская летопись (Есип.) — единственный точно датированный текст, составленный в 1636 г. в Тобольске архиепископским дьяком Саввой Есиповым. Сохранилась в большом количестве списков и в неск. редакциях, из к-рых выделяют Основную и Распространенную. Строгановская летопись сохранилась в единственном списке, созданном (судя по филиграням) в 20-х гг. XVII в. в вотчине Строгановых. Она содержит особую версию о начале похода Ермака, отличающуюся от Есип. и др. Есипов стремился показать Ермака христ. просветителем Сибири, по собственному почину отправившимся покорять языческие народы. Составитель Строгановской летописи, наоборот, выставил главными инициаторами и организаторами похода торговых людей Строгановых. Румянцевский летописец (РЛ) существует в 2 видах: А и Б, дополненном выдержками из НЛ. По мнению Дергачёвой-Скоп, в основе РЛ лежит повесть «О Сибири» (ее источник — Есип.). Погодинский летописец сохранился в единственном списке кон. XVII в. и считался переработкой Есип., но Ромодановская привела аргументы в пользу того, что он восходит к протографу, более раннему, чем Есип., т. е. к «Написанию» (поддержаны А. Т. Шашковым). Автором этого раннего текста (по Ромодановской), вероятно, был казак Черкас Александров. Абрамовский летописец («Летописец Тобольский о Сибирской стране») известен в 2 списках, имеющих большое сходство с Есип., но вопрос о первичности этой летописи в отношении протографа Абрамовского летописца не решен. Кроме того, в Абрамовском летописце читаются известия, имеющие народную основу. К более поздним летописным памятникам Сибири относится Сибирский летописный свод (СЛсв.) — офиц. летопись (основанная на Пространной редакции Есип.), которая велась в Тобольске в кругах, близких к воеводской канцелярии и митрополичьему двору. СЛсв дошел в неск. редакциях (по Н. А. Дворецкой), некоторые носят особые названия («Книга записная», «Записки, к сибирской истории служащие», «Описание о поставлении городов и острогов в Сибири» и др.). Наиболее ранняя редакция СЛсв. составлена в 1687 г. Др. редакции продолжают изложение до сер. XVIII в. Одна из них уделяет особое внимание томским воеводам. Ремезовская летопись (Ремез.), или «История Сибирская», была написана тобольским сыном боярским Семеном Ульяновичем Ремезовым ок. 1703 г., сохранилась в оригинале и копии XVIII в., снабжена 154 черно-белыми миниатюрами. В основу ее положена Есип., устные легенды, а также более древняя Кунгурская летопись (названная им так по месту обнаружения, вставлена в текст Ремез.). Частные сибирские летописи составлялись и позднее. Так, в Тобольске ок. 1760 г. окончил свой труд ямщик Илья Черепанов. Черепановская летопись охватывает события с 1578 по 1760 г., основана на СЛсв., Есип., Ремез. и др. источниках, офиц. бумагах из Сибирской губ. канцелярии, устных известиях, а также использует выдержки из трудов Г. Ф. Миллера. Иркутская «Летопись П. И. Пежемского» начинается с 1652 г. (основание Иркутска) и оканчивается 1807 г., отличается подробностью изложения событий. Автор использовал печатные источники, офиц. сообщения, публикации в «Сибирском вестнике», воспоминания старожилов Иркутска. Некоторые документы приводятся в тексте целиком. Об отдельных известиях сказано, что они взяты «из летописи». Составленная также в Иркутске «Летопись В. А. Кротова» начинается с 1807 г. и заканчивается 1856 г. Очевидно, автор пользовался теми же источниками, что и Пежемский или сходными.
Др. большая группа местных летописей — новгородские. Неопубликованная Новгородская Корнильевская летопись (Корнил.) составлена в 60-х гг. XVII в. Основной текст доведен до 1646 г., но имеется ряд позднейших дополнений. В ее основе лежат Н1, Н2, Н4, С1 и др. источники (единственный список — БАН. 34.4.1). На Корнил. опиралось все последующее новгородское Л. Особенно интенсивно летописная работа велась в Новгороде с 70-х гг. XVII в. до 1689 г. Вариант Корнил.- неопубликованная Новгородская Уваровская летопись (сохр. 2 списка). Новгородская 3-я летопись (НЗ) основана на Корнил., связана с деятельностью Новгородского митрополичьего двора (по Азбелеву; В. В. Яковлев оспорил эту т. зр.), известна во мн. списках и 2 редакциях: в Пространной 70-80-х гг. XVII в. (по Азбелеву) или после 1692 г. (по Яковлеву), в Краткой (1682-1690, по Азбелеву; кон. XVII в., по Яковлеву). Новгородские события в памятнике превалируют над общерусскими (некоторые списки продолжают текст до нач. XVIII в.). Неопубликованная полностью Новгородская Забелинская летопись (НЗЛ) названа по основному списку (ГИМ. Забелин. № 261). Это обширная компиляция, охватывающая период с начала становления Руси до 1679 г., составлена в Новгороде на основе НЗ (Азбелев) или Корнил. (Яковлев) с дополнениями не позднее 1681 г. (Черепнин, Азбелев) или в период с сер. 80-х до нач. 90-х гг. XVII в. (Яковлев). В нач. XVIII в. летописная работа продолжалась при дворе митр. Иова, известного просветительской деятельностью. Новгородская Погодинская летопись (Погод.) сохранилась в 30 списках (архетипный список РНБ ОР. Погод. № 1411), в некоторых текст доведен до 1716 г., в других — до нач. XIX в., в основу положены НЗЛ, др. новгородские источники, «Казанская история».
Еще одна группа — летописи Русского Севера. Устюжский летописец, составленный на основе Устюжской летописи 1-й четв. XV в., существует в 2 редакциях: 1-я оканчивается на 1677 г., 2-я охватывает события 1192-1745 гг. Последнее сообщение — о пожаре в Устюге, во время к-рого растопился медный колокол Воскресенской ц. Летописец был составлен в устюжском во имя арх. Михаила монастыре. Использован в качестве основного источника летописец 1679-1680 гг. Летописец Льва Вологдина (ЛЛВ) был составлен в 1765 г. священником устюжского Успенского кафедрального собора (сохр. автограф и много списков XVIII-XIX вв.). Начинается с 1192 г., общерус. известия заимствованы из «Краткого Российского летописца с родословием» М. В. Ломоносова; основным источником был Устюжский летописец 1746 г., дополненный известиями др. летописцев. Существует 2-я редакция, доходящая до 1779 г. ЛЛВ был использован штаб-лекарем Я. Я. Фризом для составления в 1793 г. «Исторического и физического описания областного города Устюга Великого». Летописец Ивана Слободского составлен в 1716 г. певчим Вологодского архиерейского дома, содержит исключительно местные известия, сохранился в 2 редакциях (нач. 1147 г., окончание соответственно — 1676 г. и 1654 г.). Редакция 1654 г. составлена не ранее 1782 г. Вологодский летописец известен в одной рукописи, охватывает события с 862 по 1770 г. Очевидно, составлен в Спасо-Прилуцком мон-ре. До кон. XV в. текст близок к Погодинской летописи, далее — к нек-рым общерус. летописцам XVII в. Двинской летописец, составленный в Холмогорах в 70-80-х гг. XVII в., известен в неск. редакциях. Охватывает события с 1397 по 1682 г. Ряд списков Краткой редакции, связанной с воеводской канцелярией, продолжает текст, описывающий в основном местные события 1682-1705 гг. Пространная редакция, исходящая из окружения архиепископа, оканчивается на 1750 г. Среди событий XVIII в. подробно рассказано о приезде царя Петра I в 1702 г. в Холмогоры и об освящении в его присутствии новой церкви в Архангельске. Подробно перечислены выборы бурмистров в городскую ратушу и выборы в городской магистрат. Пинежский летописец (открыт А. И. Копаневым) составлен в 1661-1667 гг. в семье крестьян-староверов Поповых, известен в 2 списках. Использует разнообразные источники о Смуте, в т. ч. «Сказание» Авраамия (Палицына), включает также оригинальные местные известия.
К кратким монастырским летописцам XVII в. относятся, напр., Летописец Кириллова Белозерского мон-ря 1604-1617 гг., наиболее известный Соловецкий летописец (Летописец Соловецкого мон-ря), повествующий о событиях с начала построения обители, о Зосиме, Савватии и Германе Соловецких, и далее в тексте, расположенном по годам смены игуменов, описываются монастырское строительство, царские пожалования монастырю, Соловецкое восстание 1667-1676 гг., посещение мон-ря Петром I. Последнее известие за 1759 г.- о смерти архиеп. Архангелогородского и Холмогорского Варсонофия. Одна из редакций продолжает текст до 1814 г. Последнее известие — о выведении из мон-ря артиллерии и орудий в Новодвинскую крепость.
Летописец Соловецкий. 2-я пол. 90-х гг. XVIII в. (НБРК. Инв. № 45614р. Л. 1)
Летописец Соловецкий. 2-я пол. 90-х гг. XVIII в. (НБРК. Инв. № 45614р. Л. 1)
Соликамская летопись появилась в соликамском во имя Св. Троицы мужском монастыре в XVII в. и велась мн. лицами до кон. XVIII в.; начинается с описания местоположения Чердыни и Соли-Камской, затем идет ряд кратких общерус. известий с 990 г., более подробно даны местные известия начиная с 1579 г. С кон. XVII — нач. XVIII в. записи велись по годам. Последнее сообщение — об упразднении в Соли-Камской мон-ря и о переносе его в Пермь. Одновременно при Богоявленской ц. в Соли-Камской велась др. летопись, повествующая о событиях с нач. XVIII в. Обе были опубликованы А. А. Дмитриевым. Первое известие этой более поздней Соликамской летописи — 1158 г., затем упомянуты краткие общерус. известия об истории возникновения Пыскорского мон-ря, о набегах татар и вогулов на пермские городки, а также местные известия за XVII-XVIII вв., в т. ч. о Пугачёвском бунте и движении в его поддержку, о сражении под Кунгуром; последние известия — под 1781 г. Далее снова следуют местные записи с 1741 по 1824 г. Очевидно, после 1781 г. летопись была дополнена и переделана др. лицом. Кроме этого, в Соли-Камской составляли летописные сочинения Савватий и Никита Арефины, а также Василий Лучников, известные по выборке из этих текстов, напечатанной В. Н. Берхом. Эти частные летописи соликамских граждан начинались с Сотворения мира и продолжались до времени жизни их создателей. О Лучникове известно, что он умер в 1803 г. Отец и сын Арефины жили в 1-й пол. XVIII в.
В мон-рях составляли и др. поздние летописцы; напр., Летопись Боголюбова мон-ря, опубликованная П. А. Гильтебрандтом (1879), содержит краткие известия за 1158-1770 гг. По мнению издателя, она была составлена на основании монастырских актов и записей игум. Аристархом. Черниговская летопись известна в 3 списках, доведенных до 1725 и 1750 гг. Она начинается сообщением об избрании в 1587 г. Сигизмунда III Вазы польск. королем и состоит из неск. частей, которые, как полагают, писал один человек (очевидно, на Правобережье Украины) до 1703 г., затем продолжали другие, и последняя часть была составлена еще кем-то в Чернигове. Межигорская летопись содержит ряд кратких сообщений о Межигорском в честь Преображения Господня мужском монастыре; она была составлена в этой обители, возможно настоятелем Илией (Кощаковским). Летопись Подгорецкого мон-ря представляет вариант синопсиса, содержит выписки из документов, известия о местных монастырских событиях (текст до 1715 г., затем имеются записи 1726 и 1729 гг.). Запись 1729 г.- о смерти игум. Парфения (Ломиковского), при к-ром эта летопись и могла быть составлена. Известна еще Краткая летопись о событиях в Новороссии с 1765 по 1806 г., неизвестно кем составленная, она касается как местных, так и общерус. известий.
Нижегородский летописец по неск. спискам был издан в XIX в. А. С. Гациским. Как выяснила позднее М. Я. Шайдакова, существуют 2 летописных памятника, к-рые следует различать: «Летописец о Нижнем Новгороде» (ЛНН, 3 списка) и собственно «Нижегородский летописец» (НижЛ, 29 списков, неск. редакций). ЛНН был создан в 50-х гг. XVII в. и представляет собой выписки из общерус. летописи с добавлением местных известий (со статьи об основании Н. Новгорода до статьи о моровом поветрии 1654 г.). НижЛ составлен не ранее 1655 г. в кругу нижегородского духовенства на основе ЛНН, Хронографа 1617 г., Воскресенской летописи и Степенной книги (в 2 частях: с основания города до 1422; в 1509-1540 с добавлением различных текстов в разных списках в основном местного содержания за XVII в., в поздних редакциях текст доходит до сер. XVIII в.).
Л. на Вятке известно по нескольким редакциям «Повести о стране Вятской» (ПСВ), созданной в нач. XVIII в. в Хлынове и являвшейся компиляцией разного рода книжных и устных местных легенд; возможно, памятник составлен на основе какой-то местной летописи. ПСВ состоит из 4 частей. Собственно вятские известия начинаются со 2-й части, 1-я редакция к-рой — «Сказание о вятчанех» (по Д. К. Уо) связана с именем местного книжника С. Ф. Попова. Третья часть повествует о начале почитания иконы свт. Николая Великорецкого. Четвертая часть представляет собой отдельные летописные записи о Вятке (с 1389 по 1553). Еще одним вариантом краткого местного летописца является Слободская летопись (РНБ. F.IV.844, список сер. XVIII в.), доведенная до 1698 г.
Т. о., Л. продолжалось и в XVIII в., и частично в нач. XIX в. Постепенно характер поздних летописей менялся. Они теряли прежнее гос., политическое значение, что отражалось и на точности воспроизводимых известий. Мн. летописцы XVII в., а тем более XVIII в. изобилуют ошибками и искажениями из-за небрежности в соединении источников. Все больше проявляется компилятивная природа Л. Поздние летописцы уже не являются летописными сводами, в к-рых каждый последующий автор продолжал труд своего предшественника. Они часто составлялись единовременно одним человеком, были посвящены отдельным сюжетам и в этом смысле перенимали мн. особенности исторической повести, получившей особенное развитие после Смуты нач. XVII в. В эпоху Петра I предпринимались новые попытки составить общерус. летопись: напр., появилась «Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии», которая охватывает события до смерти Петра I. Это компиляция отрывков разных текстов: извлечений из «Повести о Словене и Русе», кратких известияй о первых Рюриковичах и происхождении царского венца, известий до времен Иоанна Грозного, фрагментов «Казанской истории», смеси известий русских и иностранных источников о событиях XVII в. Особое внимание уделено Чигиринским, Крымским, Азовским походам, стрелецким бунтам. В текст включены краткий «реестр» основных событий царствования Петра I, записанных по годам, а также таблица потерь рус. армии в сражениях при Лесной (1708) и под Полтавой (1709). Предполагается, что эта летопись была составлена Г. Г. Скорняковым-Писаревым (Насонов), очевидно, по указанию царя и является одной из попыток создать офиц. летописную историю его царствования. Др. такой попыткой было создание летописной «истории» Федора Поликарпова. Но крупнейшие сочинения о прошлом («Скифская история» А. И. Лызлова 1692 г., «Синопсис» архим. Иннокентия (Гизеля) и др.) с кон. XVII в. написаны уже в иной, нелетописной манере.
В. Г. Вовина-Лебедева, А. Е. Жуков
Л. в Великом княжестве Литовском
(ВКЛ). Первые памятники Л. на восточнослав. землях ВКЛ были составлены в XV в. на основе памятников Л., создававшихся в Сев.-Вост. Руси. В составе этих первых компиляций сохранился летописец, созданный в окружении митр. Киевского Фотия, содержащий сведения о его поездках на земли ВКЛ в 1412-1427 гг. В этих же компиляциях есть краткие известия о митр. Киевском Герасиме. Создававшиеся в XVI в. на основе этих компиляций (с продолжением описания XVI в.) официальной летописи ВКЛ к.-л. известий, касавшихся жизни православного населения на землях княжества, не содержат. Только составленная, видимо, в нач. XVI в. «Волынская краткая летопись» содержит ряд известий о церковной жизни на Волыни и в ВКЛ на рубеже XV и XVI вв., гл. обр. связанных с возведением на Киевский митрополичий стол Макария (Чёрта), а затем Иосифа (Болгариновича).
Положение стало меняться к кон. XVI в., когда появился ряд местных летописей, составители к-рых уделяли внимание церковной жизни. Один из таких источников — «Баркулабовская летопись», написанная приходским священником городка Баркулабова в районе Могилёва. В ней есть известия о событиях местной церковной жизни и даже о реакции местных жителей на попытки введения нового календаря, на переход епископов в унию. Летопись содержит подробное описание работы правосл. Собора в Бресте 1596 г.
Главный памятник украинского Л.- «Густынская летопись», созданная в 20-х гг. XVII в. в окружении архим. Киево-Печерской лавры Захарии (Копыстенского). В этом летописном своде рассказывается о событиях, происходивших в Вост. Европе с древнейших времен до нач. XVI в. Заканчивается летопись на известиях 1597 г.; по одной из гипотез, 1-я версия завершалась 1515 г. Ее источниками были текст Ипатьевской летописи, а также какая-то великорус. летопись (не ранее XVI в.), известия различных европ. и польск. хроник. Летопись содержала подробный рассказ о Ферраро-Флорентийском Соборе (с правосл. т. зр.), а в конце к своду был присоединен обширный рассказ «О унии, како почася в Руской земле», к-рый заканчивался сообщением об аресте протосинкелла Никифора.
Памятник местного происхождения, описывающий монастырскую жизнь на Левобережье в 1-й пол. XVII в.,- «Летописец Густынского монастыря», который включает уникальный рассказ о восстановлении правосл. иерархии в 1620-1621 гг. в Киевской митрополии. Фрагменты таких памятников местного происхождения входили в состав разного рода летописных компиляций. В одной из них сохранился летописный фрагмент с сообщениями о событиях церковной жизни Киева, в т. ч. о попытках принудить население принять унию после смерти кн. К. К. Острожского в 1608 г. В «Острожском летописце» сохранились записи об основании правосл. обителей на Волыни в нач. XVII в., о репрессиях, сопровождавших принуждение населения Острога к унии. Некоторые известия о событиях церковной жизни встречаются во «Львовской летописи» — наиболее крупном местном повествовании о событиях, происходивших на Украине в 20-40-х гг. XVII в. Здесь рассказывается о разорении польским войском киевских мон-рей во время восстания 1630 г., о посвящении свт. Петра (Могилы) во Львове.
Среди укр. летописей 2-й пол. XVII — нач. XVIII в. наиболее ранний памятник — «Летопись Самовидца», написанная духовным лицом, протопопом, служившим сначала в Брацлаве, а затем в Стародубе. Однако события церковной жизни получили в этом тексте слабое отражение. Автор даже не всегда отмечает смены на Киевском митрополичьем столе. Те или иные высокопоставленные представители духовенства гл. обр. упоминаются, когда они принимают участие в политической борьбе.
Лишь с 70-х гг. XVII в. в источнике появляются сообщения о нек-рых событиях церковной жизни, связанных в основном со Стародубом. Особый интерес представляет рассказ о поездке автора как посла митр. Иосифа (Тукальского) к К-польскому патриарху (1670). «Летопись Самовидца» послужила одним из главных источников важнейшего памятника укр. Л. 1-й пол. XVIII в.- «Летописи» Грабянки. Как показано в работах А. М. Бовгири, краткая редакция памятника была составлена духовным лицом, уделявшим внимание событиям церковной жизни. Эта редакция, однако, остается неизданной, а в Пространной редакции памятника, к-рую теперь связывают с именем Грабянки, этот материал подвергся сильному сокращению.
Особое место среди этих памятников занимает «Летопись» С. Величко, к-рый отвел заметное место описанию событий церковной жизни на Украине (гл. обр. на Левобережье) во 2-й пол. XVII в. Часть сведений он заимствовал из сочинений церковных писателей того времени (прежде всего Иоанникия (Галятовского)), но часть восходит к неизвестным источникам, как, напр., известия о Мгарском мон-ре. В 1690 г. Величко стал служащим гетманской канцелярии, и это дало ему возможность включить в свою летопись большое количество грамот 90-х гг. XVII в., отражающих борьбу против распространения унии, отношения патриарха Московского со светской и с церковной властью на Левобережной Украине, местных иерархов с гетманской властью и представителями Вост. Церквей.
Для более позднего времени должна быть отмечена составленная в XVIII в. в Могилёве «Хроника» Т. Р. Сурты и Ю. Трубницкого. В ней помещены известия о возвращении в 1633 г. православным в Могилёве храмов, к-рые были закрыты в течение 20 лет, и о восстановлении их при помощи Огинских, о митр. Иосифе (Тукальском) и о его заключении в Мальборке, о приезде в Могилёв в 1699 г. еп. Серапиона (Полховского), о его смерти и похоронах в 1704 г., о приезде еп. Сильвестра (Святополк-Четвертинского) в 1707 г., о репрессиях против униатов царя Петра I Алексеевича в Полоцке, об ограблении шведами в 1708 г. храмов в Могилёве; далее содержатся известия, связанные с деятельностью еп. Иеронима (Волчанского) в 40-х гг. XVIII в.
Б. Н. Флоря
Изд. (избранные): Летописец, содержащий в себе Российскую историю от 6390/852 до 7106/1598 г., т. е. по кончину царя и вел. кн. Феодора Иоанновича. М., 1781; Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. СПб., 1789. Ч. 1-2; 1799. Ч. 3-4; Летописец Соловецкого мон-ря. М., 1790; Летописец Соловецкий, или Краткое летописание. М., 1815; Полное собрание русских летописей. СПб., 1846-1921. Т. 1-24; М.; Л.; СПб., 1949-1994. Т. 25-39; М., 1994-2008. Т. 40-43. См. также: ПВЛ. Т. 1: Лаврентиевская и Троицкая летописи. СПб., 1846; Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. Л., 19282. Вып. 1; Л., 1927. Вып. 2; М., 1962, 19973. Вып. [1-2]; Т. 2: Ипатиевская и Густынская летописи. СПб., 1843; Ипатьевская летопись. СПб., 19082. М., 1962, 1997-1998р; Т. 3: Новгородские летописи. СПб., 1841. Новгородская 1-я летопись старшего и младшего изводов. М., 2000р; Т. 4: Новгородские и Псковские летописи. СПб., 1848. Вып. 1-3: Новгородская четвертая летопись. Пг.; Л., 1915-19292; Т. 4. Ч. 1: Новгородская четвертая летопись. М., 2000р; Т. 5: Псковские и Софийские летописи. СПб., 1851; Т. 5. Вып. 1: Псковские летописи. М., 2003р; Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000р; Т. 6: Софийские летописи. СПб., 1853; Т. 6. Вып. 1: Софийская 1-я летопись старшего извода. М., 2000р; Софийская 2-я летопись. М., 2001р; Т. 7-8: Летопись по Воскресенскому списку. СПб., 1856-1859; Т. 8: Летопись по Воскресенскому списку. М., 2001р; Т. 9-12: Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновскою, летописью. СПб., 1862-1901, 2000р; Патриаршая, или Никоновская, летопись. М., 1965; Т. 13: То же. Доп. к Никоновской летописи. Так называемая Царственная книга. СПб., 1906. М., 1965, 2000р; Т. 14. [Ч.] 1: «Повесть о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси». [Ч.] 2: «Новый летописец». СПб., 1910. М., 1965; Т. 15: Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. СПб., 1863. М., 1965; Т. 15. Вып. 1: Рогожский летописец. Пг., 19222. М., 1965. Рогожский летописец. Тверской сборник. М., 2000р; Т. 16: Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. СПб., 1889. М., 2000р; Т. 17: Западнорусские летописи. СПб., 1907. М., 2008р; Т. 18: Симеоновская летопись. СПб., 1913. М., 2007 р; Т. 20: Львовская летопись. СПб., 1910-1912. 2 ч.; Т. 22: Русский хронограф. Ч. 1: Хронограф ред. 1512 г. СПб., 1911; Ч. 2: Хронограф западнорусской редакции. Пг., 1914; Т. 23: Ермолинская летопись. СПб., 1910. М., 2004р; Т. 24: Типографская летопись. Пг., 1921. М., 2000р; Т. 25: Московский летописный свод кон. XV в. М.; Л., 1949. М., 2004р; Т. 26: Вологодско-Пермская летопись. М.; Л., 1959, 2006р; Т. 27: Никаноровская летопись. М.; Л., 1962; Т. 27: Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV в. М., 2007р; Т. 28: Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). М.; Л., 1963; Т. 29: Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. М., 1965; Т. 30: Владимирский летописец. Новгородская 2-я (Архивная) летопись. М.; Л., 1965; Т. 31: Летописцы последней четверти XVII в. М.; Л., 1968; Т. 32: Хроники: Литовская, Жмойтская и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцирного. М.; Л., 1975; Т. 33: Холмогорская летопись. Двинский летописец. М., 1977; Т. 34: Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы. М., 1978; Т. 35: Летописи белорусско-литовские. М., 1980; Т. 36: Сибирские летописи. Ч. 1: Группа Есиповской летописи. М., 1987; Т. 37: Устюжские и вологодские летописи XVI-XVIII вв. М., 1982; Т. 38: Радзивиловская летопись. Л., 1989; Т. 39: Софийская 1-я летопись по списку И. Н. Царского. М., 1994; Т. 40: Густынская летопись. СПб., 2003; Т. 41: Летописец Переславля Суздальского (Летописец русских царей). М., 1995; Т. 42: Новгородская Карамзинская летопись. СПб., 2002; Т. 43: Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского. М., 2004; Величко С. В. Летопись событий в Юго-Зап. России. К., 1848-1864. 4 т.; Летопись Григория Грябянки. К., 1854; Южнорусские летописи / Изд.: Н. М. Белозерский. К., 1856. Т. 1; Летопись Боголюбова мон-ря / Изд.: П. А. Гильтебрандт // ДНР. 1879. Т. 2. № 7. С. 257-264; Соликамские летописи / Изд.: А. А. Дмитриев. Пермь, 1884; Нижегородский летописец / Изд.: А. С. Гациский. Н. Новг., 1886; Сб. летописей, относящихся к истории Юж. и Зап. Руси. К., 1888; В[ерещаги]н А. [С.]. Повесть о стране Вятской // Тр. Вятской УАК. 1905. Вып. 3. С. 1-97; Сибирские летописи. СПб., 1907; Иркутская летопись: Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова. Иркутск, 1911. Вып. 1: 1652-1856; 1914. Вып. 2: 1857-1880. (Тр. Вост.-Сиб. отд. РГО; № 5, 8); Псковские летописи / Подгот. к печ.: А. Н. Насонов. М.; Л., 1941. Вып. 1; 1947. Вып. 2; Зимин А. А. Краткие летописцы XV-XVI вв. // ИА. 1950. Т. 5. С. 9-39; Присёлков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. СПб., 20022; Устюжский летописный свод (Архангелогородский летописец) / Ред.: К. Н. Сербина. М.; Л., 1950; Насонов А. Н. Летописный свод XV в. (по 2 спискам) // Мат-лы по истории СССР. М., 1955. Т. 2. С. 273-321 («Летописец русский»); Вычегодско-Вымская летопись // Историко-филол. сб. / АН СССР. Коми филиал. Сыктывкар, 1958. Вып. 4. С. 257-271; Иоасафовская летопись / Ред.: А. А. Зимин, С. А. Левина. М., 1957; Новгородская харатейная летопись / Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1964; Бевзо О. А. Львiвський лiтопис i Острозький лiтописец. К., 1971; Лiтопис самовидця. К., 1971; Копанев А. И. Пинежский летописец // Рукописное наследие Др. Руси: По мат-лам Пушкинского дома. Л., 1972. С. 57-91; The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and Četvertyns’kyj (Pogodin) Codices / Introd.: O. Pritsak. Camb. (Mass.), 1990. Факс.; Радзивиловская летопись / Отв. ред.: М. В. Кукушкина. СПб.; М., 1994. 2 т. Факс.; Столярова Л. В. Записи ист. содержания XI-XIV вв. на древнерус. пергаменных кодексах // ДГВЕ, 1995 г. М., 1997. С. 3-79; Уо Д. К. К истории вятского летописания // In memoriam: Сб. памяти Я. С. Лурье. СПб., 1997. С. 303-320; Галицько-Волинський лiтопис: Дослiдження. Текст. Комент. / Ред.: М. Ф. Котляр. К., 2002; Бобров А. Г. Летописание Вел. Новгорода 2-й пол. XV в. // ТОДРЛ. 2003. Т. 53. С. 109-121; Конявская Е. Л. Новгородская летопись XVI в. из собр. Т. Ф. Большакова // НИС. 2005. Вып. 10(20). С. 322-383; Шайдакова М. Я. Нижегородские летописные памятники XVII в. Н. Новг., 2006. С. 127-266; Кистерёв С. Н. Ефросин и «Роуский летописец» // Летописи и хроники: Новые исслед., 2008. М.; СПб., 2008. С. 94-123; Новгородская первая летопись: Берлинский список / Предисл.: А. В. Майоров. СПб., 2011. Факс.; Гимон Т. В., Орлова-Гимон Л. М. Летописный источник ист. записей на пасхалии в ркп. РГБ. 304.I.762 (XV в.) // Источниковедческие исслед. М., 2014. Вып. 6. С. 54-79.
Лит. (избр.): Шлёцер А.-Л. Нестор: Рус. летописи на древлеславенском яз. СПб., 1809-1819. 3 ч.; Погодин М. П. Нестор: Ист.-крит. рассуждение о начале рус. летописей. М., 1839; Сухомлинов М. И. О древней рус. летописи как памятнике литературном. СПб., 1856; Бестужев-Рюмин К. Н. О составе рус. летописей до кон. XIV в.: Повесть временных лет. Летописи южнорусские. СПб., 1868; Маркевич А. И. О летописях: Из лекций по историографии. Од., 1883. Вып. 1; Шахматов А. А. Разбор соч. И. А. Тихомирова «Обзор летописных сводов Руси северо-восточной». СПб., 1899; он же. Общерус. летописные своды XIV и XV вв. // ЖМНП. 1900. Ч. 331. № 9. Отд. 2. С. 90-176; Ч. 332. № 11. С. 135-200; 1901. Ч. 338. № 11. С. 52-80; он же. О так называемой Ростовской летописи. М., 1904; он же. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908; он же. Обозрение рус. летописных сводов XIV-XVI вв. М.; Л., 1938; он же. История рус. летописания. СПб., 2002. Т. 1. Кн. 1; 2003. Кн. 2; 2011. Т. 2; Пресняков А. Е. Архивский летописец // Памяти Л. В. Майкова. СПб., 1902. С. 1-14; Розанов С. П. Хронограф редакции 1512 г. // ЛЗАК. 1907. Вып. 18. С. 1-16 (отд. паг.); Степанов Н. В. Единицы счета времени (до XIII в.) по Лаврентьевской и 1-й Новгородской летописям // ЧОИДР. 1909. Кн. 4. С. 1-74; Святский Д. О. Астрономические явления в рус. летописях с научно-крит. точки зрения. Пг., 1915 (переизд.: Он же. Астрономия Др. Руси: С кат. астрономических известий в рус. летописях, сост. М. Л. Городецким. М., 2007); Истрин В. М. Замечания о начале рус. летописания: По поводу исслед. А. А. Шахматова // ИОРЯС. 1921. Т. 26. С. 45-102; 1924. Т. 27. С. 207-251; Перфецкий Е. Ю. Рус. летописные своды и их взаимоотношения. Братислава, 1922; Лавров Н. Ф. Заметки о Никоновской летописи // ЛЗАК. 1927. Вып. 1(34). С. 55-90; Насонов А. Н. Летописные памятники Тверского княжества // ИАН. Сер. 7. 1930. № 9. С. 709-772; он же. Из истории псковского летописания // ИЗ. 1946. Т. 18. С. 255-294 (То же // ПСРЛ. М., 2003. Т. 5. Вып. 1. С. 9-44); он же. О тверском летописном мат-ле в рукописях XVII в. // АЕ за 1957 г. М., 1958. С. 26-40; он же. Новые источники по истории Казанского «взятия» // Там же за 1960 г. М., 1962. С. 3-26; он же. История рус. летописания: XI — нач. XVIII в.: Очерки и исслед. М., 1969; Присёлков М. Д. История рус. летописания XI-XV вв. Л., 1940. СПб., 19962; Лихачёв Д. С. Рус. летописи и их культурно-ист. значение. М.; Л., 1947; Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII в. // ИЗ. 1945. Т. 14. С. 81-128; Сербина К. Н. Устюжский летописный свод // ИЗ. 1946. Т. 20. С. 239-270; она же. Устюжское летописание XVI-XVIII вв. Л., 1985; Ерёмин И. П. Киевская летопись как памятник лит-ры // ТОДРЛ. 1949. Вып. 7. С. 67-97; Бахрушин С. В. Науч. тр. М., 1955. Т. 3. Ч. 1; Левина С. А. О времени составления и составителе Воскресенской летописи // ТОДРЛ. 1955. Т. 11. С. 375-379; она же. К изучению Воскресенской летописи // Там же. 1957. Т. 13. С. 689-705; она же. Списки Воскресенской летописи // ЛиХ, 1984 г. М., 1984. С. 38-58; Азбелев С. Н. Две редакции Новгородской летописи Дубровского // НИС. 1959. Вып. 9. С. 219-228; он же. Новгородские летописи XVII в. Новгород, 1968; Марченко М. i. Украïнська iсторiографiя. К., 1959; Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. М.; Л., 1960. Вып. 1; Бережков Н. Г. Хронология рус. летописания. М., 1963; Рыбаков Б. А. Др. Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963; он же. Рус. летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972; Покровская В. Ф. Из истории создания Лицевого летописного свода 2-й пол. XVI в. // Мат-лы и сообщ. по фондам Отд. рукописной и редкой книги БАН. М., Л., 1966. С. 5-19; Лимонов Ю. А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Л., 1967; Флоря Б. Н. Коми-Вымская летопись // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 218-231; Чамярыцкi В. А. Беларускiя летапiсы, як помнiкi лiт-ры: Узнiкненне i лiт. гiсторыя першых зводаў. Мiнск, 1969; Алешковский М. Х. Повесть временных лет: Судьба лит. произведения в Др. Руси. М., 1971; он же. К типологии текстов «Повести временных лет» // Источниковедение отеч. истории, 1975. М., 1976. С. 133-162; Дзира Я. I. Самiйло Величко та його лiтопис // Iсторiографiчнi дослiдження в Укр. РСР. К., 1971. Вып. 4. С. 198-223; Прохоров Г. М. Кодикологический анализ Лаврентьевской летописи // ВИД. 1972. Вып. 4. С. 77-104; он же. Летописные подборки рукописи ГПБ, F.IV.603 и проблема сводного общерус. летописания // ТОДРЛ. 1977. Т. 32. С. 165-198; он же. Радзивиловский список Владимирской летописи по 1206 г. и этапы владимирского летописания // Там же. 1989. Т. 42. С. 53-76; он же. Мат-лы постатейного анализа общерус. летописных сводов: (Подборки Карамзинской рукописи, Софийская 1, Новгородская 4 и Новгородская 5 летописи) // Там же. 1999. Т. 51. С. 137-205; Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974; Андреев Н. Е. О характере 3-й Псковской летописи // Russia and Orthodoxy: Essays in honor of Georges Florovsky. The Hague, 1975. Vol. 2. P. 117-158; Буганов В. И. Отечественная историография рус. летописания. М., 1975; Grabmüller H.-J. Die Pskover Chroniken: Untersuch. zur russischen Regionalchronistik im 13.-15. Jh. Wiesbaden, 1975; Клосс Б. М., Лурье Я. С. Рус. летописи XI-XV вв. // Метод. рекомендации по описанию слав.-рус. рукописей для сводного кат. рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. Ч. 1. С. 78-139; Лурье Я. С. Общерус. летописи XIV-XV вв. Л., 1976; он же. Холмогорская летопись // ТОДРЛ. 1970. Т. 25. С. 135-149; он же. Две истории Руси XV в.: Ранние и поздние, независимые и офиц. летописи об образовании Моск. гос-ва. СПб., 1994; он же. История России в летописании и в восприятии Нового времени // Он же. Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. С. 11-172; Творогов О. В. Повесть временных лет и Начальный свод: Текстол. коммент. // ТОДРЛ. 1976. Т. 30. С. 3-26; Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерус. летописания. М., 1977; Мыцык Ю. А. Украинские летописи XVII в. Днепропетровск, 1978; Тихомиров М. Н. Рус. летописание. М., 1979; Клосс Б. М. Никоновский свод и рус. летописи XVI-XVII вв. М., 1980; он же. Список Царского Софийской I летописи и его отношение к Воскресенской летописи // ЛиХ, 1984. М., 1984. С. 25-37; Ромодановская Е. К. Погодинский летописец: (К вопросу о начале сибирского летописания) // Сибирское источниковедение и археография. Новосиб., 1980. С. 18-59; она же. Летописные источники о походе Ермака // Изв. СО. АН СССР. Сер. обществ. наук. 1981. № 11. Вып. 3. С. 21-26; Лаврентьев А. В. Списки и редакции летописного свода 1652 г. // Источниковедческие исслед. по истории феод. России. М., 1981. С. 62-82; он же. Ранний список Холмогорской летописи из собр. А. И. Мусина-Пушкина // ТОДРЛ. 1985. Т. 39. С. 323-334; Муравьёва Л. Л. Летописание Сев.-Вост. Руси кон. XIII — нач. XV в. М., 1983; она же. Московское летописание 2-й пол. XIV — нач. XV в. М., 1991; она же. Рогожский летописец XV в. М., 1998; Дворецкая Н. А. Сибирский летописный свод: (2-я пол. XVII в.). Новосиб., 1984; Клосс Б. М., Назаров В. Д. Рассказы о ликвидации ордынского ига на Руси в летописании кон. XV в. // ДРИ. М., 1984. [Вып.:] XIV-XV вв. С. 283-313; Шмидт С. О. Российское гос-во в сер. XVI ст.: Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984; Улащик Н. Н. Введение в изучение белорус.-литов. летописания. М., 1985; Корецкий В. И. История русского летописания 2-й пол. XVI — нач. XVII в. М., 1986; Франчук В. Ю. Киевская летопись: Состав и источники в лингвист. освещении. К., 1986; СККДР. 1987. Вып. 1. С. 234-251, 337-343 [Библиогр.]; 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 17-69 [Библиогр.]; Богданов А. П., Чистякова Е. В. «Да будет потомкам явлено…»: Очерки о рус. историках 2-й пол. XVII в. и их трудах М., 1988; Богданов А. П. Летописец 1686 г. и патриарший скрипторий // КЦДР: XVII в. 1994. С. 64-89; Ульяновский В. И. Летописец Кирилло-Белозерского мон-ря 1604-1617 гг. // Там же. С. 113-139; Зиборов В. К. О летописи Нестора: Основной летописный свод в рус. летописании XI в. СПб., 1995; Самарин А. Ю. «Летописец князей Черкасских» как рукописный ист. сб. XVIII в.: (Состав, датировка, атрибуция) // ГДРЛ. 1995. Сб. 8. С. 246-255; Цыб С. В. Древнерус. времяисчисление в «Повести временных лет». Барнаул, 1995. СПб., 20112; Шашков A. T. Погодинский летописец и начало сибирского летописания // Проблемы истории России. Екат., 1996. Вып. 1. С. 116-161; Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // НИС. 1997. Вып. 6(16). С. 3-72; он же. «Рекоша дроужина Игореви…»: К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи // Russian Linguistics. Dordrecht. etc., 2001. Vol. 25. N 2. P. 147-181; он же. О критике текста и новом переводе-реконструкции «Повести временных лет» // Ibid. 2002. Vol. 26. N 1. P. 63-126; он же. Новгородская владычная летопись XII-XIV вв. и ее авторы: (История и структура текста в лингвист. освещении) // Лингвист. источниковедение и история рус. языка, 2004-2005. М., 2006. С. 114-251; он же. К проблеме редакций Повести временных лет // Славяноведение. 2007. № 5. С. 20-44; 2008. № 2. С. 3-24; он же. До и после Начального свода: Ранняя летописная история Руси как объект текстол. реконструкции // Русь в IX-X вв.: Археол. панорама. М.; Вологда, 2012. С. 37-63; Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская летопись: Источники, структура, жанровые и идейные особенности // ДГВЕ, 1995. М., 1997. С. 80-165; Солодкин Я. Г. История позднего рус. летописания. М., 1997; он же. Очерки по истории общерус. летописания кон. XVI — 1-й трети XVII вв. Нижневартовск, 2008; он же. Об источниках и авторстве Поволжского летописца нач. XVII в. // ЛиХ, 2013-2014. СПб., 2015. С. 411-422; Яковлев В. В. Новгородское летописание XVII в.: АКД. СПб., 1997; он же. Новгородская Корнильевская летопись в рус. историографии XVIII-XX вв. и в науч. наследии А. А. Шахматова // Акад. А. А. Шахматов: Жизнь, творчество и науч. наследие (в печати); Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. М., 1998; Дергачева-Скоп Е. И. Сибирское летописание в общерус. лит. контексте кон. XVI — cер. XVIII вв.: АДД. Екат., 2000; Шибаев М. А. Редакторские приемы составителя Софийской I летописи // Опыты по источниковедению: Древнерус. книжность. СПб., 2000. Вып. 3. С. 368-394; он же. Младшая редакция Софийской 1 летописи и проблема реконструкции истории летописного текста XV в. // Там же. 2001. Вып. 4. С. 340-385; Timberlake A. Who Wrote the Laurentian Chronicle (1177-1203)? // ZSP. 2000. Bd. 59. N 2. S. 237-266; idem. Redactions of the Primary Chronicle // Рус. язык в науч. освещении. М., 2001. № 1. С. 196-218; Бобров А. Г. Новгородские летописи XV в. СПб., 2001; Пауткин А. А. Беседы с летописцем: Поэтика раннего рус. летописания. М., 2002; Щапов. Памятники. С. 21-49; Новикова О. Л. Новгородские летописи нач. XVI в.: Текстологич. исслед. // НИС. 2003. Вып. 9(19). С. 221-244; она же. Из истории новгородского летописания XVI в.: Новгородская летопись П. П. Дубровского и родственные ей памятники // ОФР. 2005. Вып. 9. С. 3-40; она же. Мат-лы для изучения рус. летописания кон. XV — 1-й пол. XVI в. // Там же. 2007. Вып. 11. С. 132-258; 2009. Вып. 13. С. 105-197; она же. Лихачёвский «Летописец от 72-х язык»: К истории создания и бытования // ЛиХ, 2009-2010. М.; СПб., 2010. С. 237-272; она же. «Летописец русский» в рукописях и в истории рус. летописния XV в. // Там же, 2011-2012. М.; СПб., 2012. С. 156-205; она же. О происхождении Синодальной редакции Типографской летописи // Вестн. Альянс-Архео. М.; СПб., 2014. Вып. 7. С. 3-22; Толочко П. П. Рус. летописи и летописцы X-XIII вв. СПб., 2003; Уо Д. К. История одной книги. СПб., 2003; Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: История текста. СПб., 2004; она же. Школы исследования рус. летописей: XIX-XX вв. СПб., 2011; Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004; Гимон Т. В. Как велась новгородская погодная летопись в XII в.? // ДГВЕ, 2003 г. М., 2005. С. 316-352; он же. В каких случаях имена новгородцев попадали на страницы летописи (XII-XIII вв.)? // Там же, 2004 г. М., 2006. С. 291-333; он же. Историописание раннесредневек. Англии и Др. Руси: Сравн. исслед. М., 2012; он же. События XI — нач. XII в. в новгородских летописях и перечнях // ДГВЕ, 2010 г. М., 2012. С. 584-703; он же. Для чего писались рус. летописи?: Вторая версия // История: Электр. науч.-образоват. ж. 2012. Вып. 5(13). С. 237-262; он же. Новгородское историописание в правление Василия Калики (1330-1352) // Ист. повествование в Средневек. России: К 450-летию Степенной книги: Мат-лы всерос. конф. М.; СПб., 2014. С. 36-70; idem. (Guimon T. V.). What Events Were Reported by the Old Rus’ Chroniclers? // Collegium. Helsinki, 2015. Vol. 17. P. 92-117; Морозов В. В. Лицевой свод в контексте отеч. летописания XVI в. М., 2005; Толочко А. П. Происхождение хронологии Ипатьевского списка Галицко-Волынской летописи // Palaeoslavica. Camb., 2005. Vol. 13. N 1. P. 81-108; он же. Очерки начальной Руси. К.; СПб., 2015; Стависький В. Киïв i киïвське лiтописання в XIII ст. К., 2005; Накадзава А. Исследования новгородских и московских летописей XV в. Тояма, 2006; Шайдакова М. Я. Нижегородские летописные памятники XVII в. Н. Новг., 2006; Hristova D. S. Major Textual Boundary of Linguistic Usage in the Galician-Volhynian Chronicle // Russian History. Pittsburg, 2006. Vol. 33. N 2. P. 313-331; Бовтиря А. М. Козацьке iсторiописання // Iсторiя украïнського козацтва. К., 2007. Т. 2. С. 250-302; Щавелёв А. С. Слав. легенды о первых князьях: Сравнит.-ист. исслед. моделей власти у славян. М., 2007; Ostrowski D. The Načal’nyj Svod and the Povest’ vremennyx let // Russian Linguistics. Dordrecht, 2007. Vol. 31. N 3. P. 269-308; Анисимова Т. В. Сб. хронографический с Рогожским летописцем: (Археогр. описание) // ЛиХ, 2008. М.; СПб., 2008. С. 52-93; Кистерев С. Н. Эпизод истории частного московского летописания XV в. // Там же. С. 152-171; Мат-лы междунар. конф. «Повесть временных лет и начальное летописание»: (Москва, 22-25 окт. 2008 г.) // ДРВМ. 2008. № 3(33). С. 5-75; Введенский А. М. Текстологический анализ летописного сказания о крещении Новгорода // ТОДРЛ. 2009. Т. 60. С. 267-280; Вилкул Т. Л. Люди и князь в древнерус. летописях сер. XI-XIII вв. М., 2009; она же (Вiлкул Т. Л.). Лiтопис i хронограф: Студiï з домонгольського киïвського лiтописання. К., 2015; Усачев А. С. Степенная книга и древнерус. книжность времени митр. Макария. М.; СПб., 2009; он же. Летописец начала царства и митрополичья кафедра в сер. XVI в. // Проблемы отечественной истории и историографии XVII-XX вв.: Сб. ст., посвящ. 60-летию Я. Г. Солодкина. Нижневартовск, 2011. С. 5-21; он же. Митр. Афанасий и памятники рус. летописания сер.- 3-й четв. XVI в. // ЛиХ, 2011-2012. М.; СПб., 2012. С. 253-274; Цукерман К. Наблюдения над сложением древнейших источников летописи // Борисо-Глебский сб. = Collectanea Borisoglebica. P., 2009. Вып. 1. С. 183-305; Конявская Е. Л. Краткий новгородский летописец и его место в новгородском летописании // ДРВМ. 2010. № 1(39). С. 40-52; Милютенко Н. И. Новгородская I летопись младшего извода и общерус. летописный свод нач. XV в. // ЛиХ, 2009-2010. М.; СПб., 2010. С. 162-222; Аристов В. Ю. Проблемы происхождения сообщений Киевской летописи // Ruthenica. К., 2011. Т. 10. С. 117-136; Михеев С. М. Кто писал «Повесть временных лет»? М., 2011; Сиренов А. В. «Двухтомник» Воскресенской летописи // ЛиХ, 2011-2012. М.; СПб., 2012. С. 236-252; он же. О времени создания Воскресенской летописи // Ист. повествование в средневек. России: Мат-лы всерос. науч. конф. М.; СПб., 2014. С. 113-125. (Историография и источниковедение отеч. истории; Вып. 7); он же. Пометы Томского списка Степенной книги и составление Лицевого летописного свода // Там же. С. 202-220; он же. Летописцы в рукописях Михаила Медоварцева // ЛиХ, 2013-2014. М.; СПб., 2015. С. 235-247; Стефанович П. С. «Сказание о призвании варягов», или Origo gentis russorum? // ДГВЕ, 2010 г. М., 2012. С. 514-583; Иванова Н. П. Месяцеслов Новгородской первой летописи. Барнаул, 2013; Назаренко А. В. Достоверные годовые даты в раннем летописании и их значение для изучения древнерус. историографии // ДГВЕ, 2013 г. (в печати); Жуков А. Е. Летописец начала царства в составе Свода 1560 г. // Вестн. СПбГУ. Сер. 2. 2014. Вып. 4. С. 162-173; он же. К вопросу об источниках Летописного свода 1560 г. // Ист. повествование в средневек. России. 2014. С. 126-187; он же. К вопросу об истории текста «Летописца начала царства» // ЛиХ, 2013-2014. М.; СПб., 2015. С. 348-382.
В. Г. Вовина-Лебедева, Т. В. Гимон, А. Е. Жуков, Б. Н. Флоря
Радзивиловская летопись.
Существует ли однозначный ответ на вопрос: зачем писались
летописи? С одной стороны, вроде бы сама «Повесть
временных лет» отвечает на него: чтобы рассказать
«откуду есть пошла Руская земля, кто въ Киеве нача
первее княжити, и откуду Руская земля стала есть»
[1]. Иными словами, поведать
о русской истории от самого начала ее и до становления
православного государства под собирательным
названием Русская земля, дабы «сие не забвено было
в последних родех» [2]. То есть и нами в
том числе. Благодаря летописным известиям мы можем
воспроизвести историю России с древнейших времен. Так
что историческое значение летописей отрицать не
приходится.
Однако, отмечая бесспорно важное историческое значение
летописей, как исторических источников, мы, тем не менее,
на поставленный выше вопрос «зачем писались
летописи?» так и не ответили. А рядом с ним возникает
другой: почему русское летописание почти что резко
прекращается в конце XV в., а в XVI в. в историографии
господствует уже иной жанр — хронографы? Это тем более
удивительно, что хронографы (или хроники) давно были
известны на Руси, поскольку велись в Византии
(«Хронограф Иоанна Малалы» (VI в.) и
«Хронику Георгия Амартола» (IX в.) знали уже и
использовали составители «Повести временных
лет») и Западной Европе, и из них черпали сведения по
мировой истории русские летописцы, но в качестве
основного исторического жанра, ведущего
повествование не по годам (по-древнерусски —
«летам» отсюда и «лето-писание»), а по
царствованиям, древнерусскими историками
востребованы только в XVI в. Почему произошла эта смена
жанра, разве не все равно было, как писать о прошедших
событиях: по годам или по царствованиям?
С научной точки зрения, то есть со взгляда на летописи и
на хронографы только как на исторические источники
— все равно, лишь бы в них были достоверные сведения. Но
коль древнерусские книжники сменили почти что в одночасье* один жанр на другой, стало быть,
вкладывали в понятие летописи особый смысл,
отличный от хронографа. Что же это за смысл?
Практически все жанры древнерусской литературы XI-XVII вв.
(кроме мирских повестей) имеют «внелитературные
функции» (Д.С. Лихачев)[3]: ораторское красноречие
— это ни что иное, как проповеди, читаемые по
случаю праздника, важного события или на темы морали;
жития, вошедшие в четьи сбоники (Четьи-Минеи),
прославляеют духовный подвиг святых и являются прежде
всего неотъемлемой частью церковной службы святым;
послания церковных отцов (иерархов) своим
духовным чадам; «слова» по поводу
религиозных споров (например, с латинянами), освящения
церкви (знаменитое «Слово о Законе и
Благодати») и т.д. Совершенно очевидно, что
«древнерусская литература» — это православная
литература, которая была призвана к духовному кормлению
нового христианского народа. И «внелитературная
функция», так уж получается, была у древнерусских
творений основной. Но поскольку содержание облекалось в
словесную форму, а отношение к Слову было равно
отношению к Богу («В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог» — свидетельсвует
Иоанн), ибо Иисус Христос является воплощением Слова, —
все древнерусские писатели (а ими были в большинстве
своем люди духовные — служители церкви) стремились в
меру своих сил и таланта к литературному
совершенствованию своих творений. Прилагая к ним
литературно-эстетический критерий оценки, забывая при
этом об их основной функции, мы и говорим о
древнерусской литературе.
Но если дело обстоит таким образом, тогда как определить
«внелитературную функцию» летописей? Это
светский (мирской) жанр или церковный? Если мирской, то
почему авторами ее за редким исключением, были монахи и
велись они в монастырях и на епископских и митрополичьих
кафедрах? Если же церковный, то почему известия о мирской
жизни преобладают в нем над церковными? И почему летописи
почти никогда не говорят о рождении князей, но в
обязательном порядке свидетельсвуют об их кончине,
равно как и святителей — митрополитов, епископов,
архимандритов и игуменов? И почему в них так много
описаний различных небесных знамений? И почему они столь
часто напоминают людям об их грехах? И есть еще множество
«почему», на которые не было пока дано
ответов…
Но доминирует все же главный из них — зачем писались
летописи?
Memento mori
Мысли о чем больше всего угнетали и угнетают человека?
Конечно же, о смерти. Но православный человек воспринимал
и воспринимает смерть как явление физическое: умирает
тело, душа же бессмертна. Бессмертной душой мы подобны
Богу.
Где же и в каком качестве будет пребывать душа человека по
физической смерти тела? Души праведников на небесах,
вместе с ангелами в вечной радости, ну а грешников — в
преисподней, в вечных муках.
Смысл человеческой жизни, таким образом, сводится к
стяжанию Духа Святаго, добродетели и искуплению грехов. По
тому, как прожита временная жизнь, определяется пребывание
души в вечной жизни.
Души праведников и грешников будет судить сам Господь на
Страшном Суде, который грядет в конце мира сего. Жизнь на
земле не вечна. Она имеет начало — сотворение мира
видимого (по Библии — в 5508 г. до Р.Х.) и конец —
Страшный Суд.
О конце мира и Страшном суде мы знаем из
«Апокалипсиса» или «Откровения» Иоанна
Богослова. Центральный эпизод, увиденный и описанный ап.
Иоанном Богословом, для нашей темы является ключевым:
«И видехъ престоль великъ белъ (белый) и Седящего на
немъ, ему же отъ лица бежа небо и земля (от лица Которого
бежали небо и земля), и место не обретеся имъ (и места не
нашлось им). И видехъ мертвеца (мертвых) малыа и великия
стояща предъ Богомъ, и книги разгнушася (и книги
раскрылись), и ина (другая) книга отверзеся (открылась),
яже есть животная (которая является книгой жизни), и судъ
приаша мертвецы отъ написанныхъ въ книгахъ по деломъ ихъ
(и судимы были мертвые по написанному в книгах о делах
их)» (Гл. 20; 11-12)
О каких книгах, имеющих записи о делах христиан ведется
речь? Ни один из богословов, толковавших это место, не
объясняет этого. Что же касается особой («иной»)
«книги жизни», то ее назначение объясняет
Апокалипсис: в нее вписаны души праведных, удостоенных
вечной жизни на небесах: «И кто не был записан в
книге жизни, тот был брошен в озеро огненное»
(Гл. 20: 15). То есть, на Страшном суде присутствуют два
разных типа книг: в одни внесены земные деяния христиан,
по ним и будет вершиться суд. Поскольку о них говорится во
множественном числе, то надо понимать, их несколько, может
быть, даже много. А в другую едниственную книгу жизни,
заносятся души, заслужившие вечное пребывание на небесах.
В одном из тропарей, читаемых во время службы на первой
неделе Великого поста (перед Пасхой), говорится: «На
Страшном судилищи без оглагольников (обличителей)
обличаюся, без свидетелей осуждаюся; книги бо совестные
разгибаются и дела сокровенные открываются«.
Очевидно, речь идет о тех же многочисленных книгах, о
которых говорит «Апокалипсис». Но в тропаре они
имеют уточняющее название — «совестные», то
есть, «сведующие», «знающие», можно
сказать, «возвещающие» [4]. Но ведь все
известные нам летописи как раз и повествуют о
человеческих деяниях, и не всегда самых достойных. В
одном из списков «Повесть временных лет» так
и озаглавлена: «Повесть времянных дей
(деяний, поступков) Нестора черноризца Феодосіева
Печерскаго монастыря» [5].
И в «Откровении» Иоанна Богослова, и в
«Изборнике» 1076, и в тропаре о «совестных
книгах» сообщается во множественном числе. Но ведь и
летописи велись во многих местах многими летописцами и
сохранились они в достаточном количестве. Так не на
«Апокалипсис» ли и на великопостный тропарь
ориентировались монахи «труждаясь в делах летописания
и поминая лета вечныя», к которым отходили после
временных? [6]
Кому писал князь Владимир Мономах?
Хорошо известно так называемое «письмо» князя
Владимира Мономаха Олегу Святославличу, князю
Черниговскому, представляющее собой заключительную часть
трехсоставного «Поучения детям», И хотя в самом
послании Мономаха черниговский князь не назван ни разу по
имени, ни у кого из исследователей не вызывает сомнения
адресат, поскольку Мономах обращается к убийце своего сына
Изяслава, коим и был Олег Святослвич.
Почему же обращение Владимира Мономаха не
персонифицировано, хотя адресат легко угадывается? И
почему сочинение Мономаха сохранилось в одном единственном
списке? И почему оно было включено именно в «Повесть
временных лет», когда Мономах стал уже великим князем
Киевским? [2]
Попытаемся разобраться в этих вопросах, для чего нам
необходимо понять суть написанного самим Мономахом.
В «Послании» нет традиционного обращения к тому,
кому пишут. И не потому, что Мономах не хотел проявить
положенного в таком случае уважения к собеседнику. Дело в
том, что Мономах изначально сосредотачивает свое внимание
на себе самом, точнее, собственной душе: «О,
многострадальный и печальный я! — начинает он послание. —
Много боролась с сердцем и одолела душа сердце мое.
Поскольку мы тленны, и я задумывался, как предстать пред
Страшным Судьею, покаяния и смирения не учинив меж собою
(т.е. между князьями — А.У.). Ибо если кто молвит:
«Бога люблю, а брата своего не люблю», — то ложь
произносит. И еще (напомню слова евангелиста Матфея):
«Если не отпустите прегрешений брату [7] (Здесь и далее перевод
мой — А.У.).
Вот основной посыл сочинения Владимира Мономаха: будучи
смертными (тленными), следует думать не столько о
сегодняшнем дне, сколько о грядущем Страшном суде и
готовиться предстать пред Судьею [4]. А для того, чтобы быть
прощенным на Суде, необходимо простить и ближних своих,
покаяться и проявить смирение.
Именно покаянием и смирением проникнуто все послание
Владимира Мономаха. Он не осуждает Олега
Святославича, друга юности, в убийстве второго сына
Изяслава во время их военногго столкновения под Муромом,
вотчиной Святославичей. Не случилось бы этого, если бы на
то не была воля Божья: «Суд от Бога ему пришел, а не
от тебя», — замечает Мономах. Но Олег Святославич был
известен своим пристрастием к междоусобным княжеским
распрям (за что удостоен автором «Слова о полку
Игореве» прозвища «Гориславич»), случалось
ему и половцев приводить на Русскую землю, потому и
призывает его Владимир Всеволодович к смирению,
прекращению вражды между князьями и раскаянию в содеянном.
«А мы — что представляем? — рассуждает далее Мономах,
— люди грешные и лукавые! Сегодня живы, поутру мертвы;
сегодня в славе и почете, а завтра в могиле позабыты…
Посмотри, брат, на отцев наших: что они взяли (с собой)
или чем опорочены? Только то или тем, что они сотворили
для души своей.»(с. 158)
Видимый мир тленен и временен, как жизнь. Нажитое
достояние — это благочестие души. О своей душе и душе
брата печется Мономах: «Когда же убили дитя мое и
твое пред тобою, подобало бы тебе, увидев кровь его и тело
увянувшее, как цветок недавно оцветший, как ягненок
закланный, подобало бы сказать, стоя над ним, вникнув в
помыслы души своей: «Увы мне, что сотворил я?!
…Из-за неправды мира сего суетного снискал себе грех, а
отцу и матери — слезы!» И сказал бы (словами) Давида:
«Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо
мною…»( с. 158).
«А ежели начнешь каяться Богу, и ко мне добр сердцем
станешь.., то и наши сердца обратишь к себе, и лучше будем
жить, чем и прежде: я тебе не враг и не мститель. Не хотел
ибо крови твоей видеть.., но не дай мне Бог видеть кровь
ни от руки твоей, ни по повелению твоему, ни кого-нибудь
из братьев. Если же лгу, то Бог мне Судья и крест
честной… Не хочу я лиха, но добра хочу братьям и Русской
земле… Если же кто из вас не хочет добра, ни мира
хрестианам, да не будет и его душе от Бога дано мир
увидеть на том свете.
Не по нужде тебе говорю…, но (потому что) душа мне своя
лучше всего света сего. На Страшном суде без обвинителей
обличаюсь и прочее» (с. 160).
Первой фразой известного уже нам тропаря, напоминающего о
Страшном суде, закончивается в Лаврентьевском летописном
своде «Послание» Владимира Мономаха.
Почему именно ми? Названный Владимиром, а во крещении
Василием, в честь его деда, крестившего в 988 г. Русь,
Владимир Мономах с детства проникся духовной благодатью, а
с юности возымел трепетный страх перед Страшным судом.
Будучи наездом в Киеве еще во время княжения в нем отца
Всеволода Ярославича (1078-1093) или двоюродного брата
Святополка Изяславича (1093-1113), Владимир оставил на
крещатом столбе в Софии Киевской с южной стороны на
предназначавшейся для мужской части княжеской семьи
половине хоров характерную именно для него надпись
крупными буквами: «Господи, помози (помоги) рабу
своему Володимиру на мънога лета и (дай) прощение грехамъ
на Судинь (день)»[8]
Очевидно, что жизнь свою Владимир Мономах строил по
христианским заповедям, помятуя о смерти и Судном дне, на
котором ожидал воздаяния по делам своим. Потому и каялся
он в «Поучении» перед братьями своими и их
призывал к покаянию; потому и внес в «Поучение»
перечень деяний своих: прежде всего, походов на врагов.
И сформировалось его «Поучение» не сразу, а уже
в преклонном возрасте, когда он все больше задумывался над
завершающемся жизненном пути, по его образному выражению,
уже «на санях сидя» (на санях в Древней Руси
отправляли в последний путь покойника).
И в летопись сочинение Мономаха попало не случайно. Писал
он его не для широкой публики. И предназначалось оно не
столько Олегу Святославичу, сколько Высшему Судье на
Страшном суде, пред которым сам без обличителей обличался
Мономах. И перечисляя свои деяния надеялся, что по ним его
и судить будут, или, во всяком случае, и его
оправдательное слово зачтется.
Но и летопись имела направленность на Страшный суд, будучи
«совестной книгой» человеческих деяний. Совпала
конечная цель двух сочинений, поэтому, думается, и было
включено «Поучение» в переработанную в
Выдубицком княжем монастыре «Повесть временных
лет», произошло это, нужно полагать, не без ведома
или даже просьбы самого Владимира Мономаха, поскольку он
являлся ктитором (покровителем) Выдубицкого монастыря,
основанного его отцом Всеволодом Яроославичем.
«Поучение» отдельно не переписывалось и не
читалось. Сохранился его единственный экземпляр в составе
Лаврентьевского летописного свода. Для самообличения и
покаяния пред Высшим Судьею этого было вполне достаточно.
Единожды начертанное Слово бесследно не исчезает.
На что обращали внимание летописи?
(Знамения)
Если окинуть общим взором все летописные своды
XIV-XV вв. (начальной частью которых стабильно выступает
«Повесть временных лет»), то становится заметным
особое внимание летописцев к различным небесным знамениям
— затмениям солнца и луны, «кровавым» звездам и
кометам, и природным катаклизмам — землетрясениям,
засухам, наводнениям и прочим.
Известия о них — это не простая констатация факта, но и
попытка разобраться в их назначении.
«В си же времена бысть знаменье на западе, звезда
превелика, луче имущи акы кровавы, всъходящи свечера по
заходе солнечнемь, и пребысть за 7 дний. Се же проявляше
(предвещало) не на добро, посемь бо быша усобице (вражда)
многы и нашествие поганыхъ на Русьскую землю, си бо звезда
бе акы кровава, проявляющи (предвещала) крови
пролитье», — замечает «Повесть временных
лет» под 1065 г.[9] Стало быть, небесное
знамение, посылаемое Богом людям, является
предзнаменованием какого-то события.
«Знаменья бо в небеси, или звездах, ли солнци, ли
птицами, ли етером чимъ, не на благо бывають, но знаменья
сиця на зло бывають, ли проявленье рати, ли гладу, ли
смерть проявляют»(С.72),- поясняет далее летописец. И
когда в январе-феврале 1102 г. было кряду несколько
знамений: с 29 по 31 января восстала «пожарная заря
от въстока и уга (юга) и запада и севера, и бысть тако
светъ всю нощь, акы от луны полны светящься», а 7
февраля «бысть знаменье в солнци: огородилося бяше
солнце в три дугы, и быша другыя дугы хребты к собе
(хребтами одна к другой)», то наблюдая эти знамения
«благовернии человеци со въздыханьем моляхуся к Богу
и со слезами, дабы Богъ обратил знаменья си на
добро…»(С.117).
Но чаще всего отмечаемые летописцами знамения предвещали
«злые» события: засуху, голод, мор, нашествие
врагов ит.д.
«В си же времена (1092 г. — А.У.) бысть знаменье въ
небеси, яко круг бысть посреде неба превеликъ. В се же
лето ведро (засуха) бяше (была), яко изгараше (горела)
земля, и мнози борове (леса) възгарахуся сами и болота; и
многа знаменья бываху по местомъ; и рать велика бяше от
половець и отвсюду». «В си же времена мнози
человеци умираху различными недугы»(С.91).
В грядущих же во след знамениям событиях летописцы
угадывали Провиденье Господне и пытались объяснить его
смысл: «Се же бысть за грехы наша, яко умножися греси
наши и неправды. Се же наведе на ны (нас) Богъ, веля нам
имети покаяние и всътягнутися от греха, и от зависти и от
прочих злыхъ делъ неприязнинъ»(С.91).
Можно выстроить логическую цепь событий, отмечаемых
летописью: знамение, предвещающее событие, — само событие,
как Божье наказание за «грехи наши» — призыв к
покаянию и искуплению грехов. В этой цепи я бы хотел особо
выделить осуждение «неправды» в людях — Божий
суд, а уж потом — наказание: голод, мор, нашествие врагов.
Особую роль играли затмения солнца в жизни князей. Не
случайно князей и называли в фольклоре и литературе
«солнцами». Например, князь Владимир назван
«красным солнышком» в былинах, Игорь и Всеволод
Святославичи — двумя солнцами в «Слове о полку
Игореве» . В роду последних — черниговских князей
Ольговичей — солнечное затмение имело особую роковую роль.
Исследователь «слова» А.Н. Робинсон подсчитал,
что за одно столетие с 1076 по 1176 гг. двенадцать
солнечных затмений приходились на на года смерти
тринадцати князей этого рода! Причем в восьми случаях
затмения предшествовали смерти князей. Тринадцатое
затмение 1 мая 1185 г. ознаменовало плен Игоря
Святославича во время знаменитого теперь во всем мире его
похода на половцев. Такого унижения русские князья не
испытывали до этого.[10]
«Ни хытру, ни горазду… Суда Божиаго не
минути», — замечает автор «Слова». Игорь
выступил в поход, обуреваемый гордыней: «Преднюю
славу похитимъ, а заднюю си сами поделимъ!»[11] Гордыня первенствует
во грехах.»Я — на тебя, гордыня, говорит
Господь» (Иеремия, 50:31) Греха гордыни боялся
Владимир Мономах, ставя его средь других на первое
место: «О Владычице Богородице! Отъими от убогаго
сердца моего гордость и буесть, да не възношюся суетою
мира сего в пустошнемь семь житьи»[12]
Его слава, добытая в походах на половцев (именно Владимира
Святославича следует понимать под «старым
Владимиром» в «Слове»), не давала покою
Игорю, чье сердце, как раз и было в «буести
закалено»[13]. Гордыня и
«буесть»[5]
двигали его в этот поход и за них был он наказан
пленом.
Было ему знамение: солнце ему тьмой путь заступало,
удерживая от похода, но не внял Игорь Божьему знаку,
ступил из света христианской благодати во тьму страсти:
весь поход князя Игоря, битвы и плен происходят, по
описанию безымянного гения, во тьме! И только после
плача-молитвы Ярославны к трем стихиям — ветру воздуху),
Днепру (воде) и солнцу (свету), олицетворяющим кстати
сказать, в христианстве триединого Бога-Троицу[14]
Убеждение, что знамение — это предупреждение, строилось на
Святом Писании — Библии и, в частности, Евангелиях и
«Апокалипсисе» Иоанна Богослова. В нем семь
ангелов, вострубив, предвещают конец Света, и на
небесах появляются Божьи знамения, а на земле — наказания
людям за их неправедную жизнь и грехи: и град, и огонь, и
болезни, и потопы, и нахождения саранчи и т. д. «Се
оуже наказаеть ны Богъ знаменьи, земли трясениемъ его
повеленьемь: не глаголеть оусты, но делы наказаеть. Всемъ
казнивъ ны, Богъ не отьведеть злаго обычая. Ныне землею
трясеть и колеблеть, безаконья грехи многая отрясти
хощеть, яко лествие от древа», — замечает Серапион,
епископ Владимирский (XIII в.).[15] Поскольку, по
пророчеству, перед концом Света их будет особенно
много, летописцы и фиксировали небесные знамения и
следующие за ними казни Божьи, как бы задаваясь
постоянно терзающим всех вопросом: не настали ли
последние времена? Ведь точное время Страшного суда не
известно: «Несть вам разумети временных лет, яже
Отець Своею властию положи», — говорит
Господь.[16] То есть, знать
продолжительность текущего только до Страшного
суда времени. Но знамения и следующие за ними
явления — есть свидетельства Бога о близости его. И
каждый православный должен в любую минуту быть готовым
предстать перед Высшим Судом. Об этом он обязан
постоянно помнить, как помнил Владимир Мономах, а
забывшим напоминает Серапион Владимирский:
«Слышасте, братье, самого Господа, глаголяща въ
Евангелии: «И въ последняя лета будет знаменья въ
солнци, и в луне, и въ звездахъ, и труси по местомъ, и
глади». Тогда реченное Господомъ нашимъ ныня
збысться — при насъ, при последнихъ людяхъ. Колико
видехомъ солнца погибша и луну померькъшю, и звездное
пременение!» [17]
Предвещание затмением солнца кончины князя — это малое
напоминание о большом. Каждый, будь он даже князь, не
избежит малого суда — смерти, «отдавъ общий долгъ,
егоже несть убежати всякому роженому (отдав общий долг,
который не дано избежать никому из
родившихся)»[18] и предстанет пред
всеобщим — Страшным судом в последние времена.
Можно ли было хотя бы приблизительно предположить, когда
они наступят?
Когда же настанет Суден день?
Человечество всегда отличалось любопытством. В том
первопричина и грехопадения Адама и Евы. Знать о грядущем
Судном дне и не пытаться установить время его — не в
характере людей. По крупицам собирались, сопоставлялись,
анализировались скудные сведения из пророчеств и строились
прогнозы о нем.
Первоначально, как указания на последние времена
воспринимались знамения и прородные явления: засухи,
наводнения, эпидемии. В XIII веке — нашествие
монголо-татар, в которых увидели нечестивое библейское
племя Гога и Магога, заточенное царем Гедеоном в
недоступных горах, и пробившееся попустительством Божием
на свободу перед концом Света: «Того же лета явишася
языци, ихже никтоже добре ясно не весть, кто суть и отколе
изидоша, и что язык ихъ, и которого племени суть, и что
вера ихъ; и зовут я Татары.., о нихъже Мефодий Патарский
епископъ сведетельствует: яко си суть ишли ис пустыня
Етриевьскы, суще межю встокомъ и северомъ; тако бо Мефодий
рече: яко къ скончанью временъ (выделено мной —
А.У.) явитися темъ, яже загна Гедеонъ, и попленять вся
землю отъ встока до Ефранта, и отъ Тигръ до Понетьскаго
(Понтийского) моря…»[19]
Изведены они были Богом в наказание погрязшим в грехах
народам: «…За умноженье безаконий нашихъ попусти
Богъ поганыя, не акы милуя ихъ, но насъ кажа (наказывая),
да быхомъ встягнулися отъ злыхъ делъ. И сими казньми
казнить насъ Богъ, нахоженьемъ поганыхъ, се бо есть батогъ
Его, да негли встягнувшеся… отъ пути своего
злаго…»- замечает Лаврентьевская летопись под 1237
годом о походе Батыя на Русь.[20]
Но и в ХIII веке конец Света не наступил, а ростки
рационализма и прагматизма подтолкнули к более точным
математическим его рассчетам. Господь сотворил видимый мир
за шесть дней, седьмым был день отдыха — Воскресение.
Седмица воспринималась как символ. Если день символизирует
тысячелетие, то, стало быть, мир простоит семь тысячелетий
от своего сотворения, или до 1492 года (7000 — 5508=1492)
от Рождества Христова. До этого срока были рассчитаны
пасхалии — т.е. дни празднования главного христианского
праздника по годам.
В одной из них после указанной даты, т.е. после 7000(1492)
г. имеется очень важное для рассматриваемого нами вопроса
заключение:»Зде страхъ, зде скорбь, аки в распятии
Христове сей кругъ бысть, сие лето и на конецъ явися, въ
неже чаемь и всемирное Твое пришествие.»[21]
Какое отношение имели пасхалии к летописям? Никакого! А
вот летописание к пасхалиям — самое непосредственное.
Исследовавший этот вопрос еще в конце Х1Х в. академик
М.И.Сухомлинов[22] обнаружил, что сам
принцип изложения событий по годам с неукоснительным
перечнем всех лет и краткими погодными записями
восходит к пасхальным таблицам.
В одной из рукописей ХIV в. он обнаружил пасхальную
таблицу с не характерными для пасхальных таблиц, но
близкими к летописям, записями под тем или иным годом.
Выразив буквенные обозначения лет цифрами, он получил
следующий ряд известий:
Въ лето 6805. Въ лето 6806. Дмитрии родися. Въ лето 6807.
Въ лето 6808. Въ лето 6809.6810. Борис преставися князь.
Въ лето 6811. Талая зима.
Въ лето 6812. Андреи князь преставися.
Въ лето 6813. 6814. 6815. 6816. 6817. 6818. 6819.
Въ лето 6820. Тохта умре.
Въ лето 6821. Избякъ седе.
Въ лето 6822.
Въ лето 6823. Торжекъ взятъ. 6824. На Ловоти стояли. 6825.
Кавадеево. Въ лето 6826. Михаило убитъ.
Въ лето 6827. Дорого морь.
Въ лето 6828. 6829. Солнце погибло.
Въ лето 6830. 6831. Дмитрий селъ.
Сходство этих записей с погодными летописными очевидна:
Въ лето 6525. Ярославъ иде къ Берестию; и заложена бысть
Святая София Кыеве.
Въ лето 6526. Въ лето 6527.
Въ лето 6528. Родися Володимиръ сынъ у Ярослава.
Въ лето 6529. Победи Ярославъ Брячислава.
Въ лето 6530. Въ лето 6531. Въ лето 6532. Въ лето 6533. Въ
лето 6534. Въ лето 6535. Въ лето 6536. Знамение змиево на
небеси явися.[23]
Русские летописи, при значительном жанровом и тематическом
отличии от западноевропейских хроник и византийских
хронографов, в мировоззренческой основе своей всеже имели
с некоторыми иэ них общее начало — пасхальные таблицы,
давшие самобытному русскому жанру внешнюю форму:»Все
русские летописи самым названием «летописей»,
«летописцев», «временников»,
«повестей временныхъ летъ» и т.п. изобличают
свою перовначальную форму: ни одно из этих названий не
было бы им прилично, если бы в них не было обозначаемо
время каждого события, если бы лета, годы не занимали в
них такого же важного места, как и самые события. В этом
отношении, как и во многих других, наши летописи сходны не
столько с писателями византийскими, сколько с теми
временниками (annales), которые ведены были издавна, с
VIII века, в монастырях Романской и Германской Европы —
независимо от исторических образцов классической
древности. Первоначальной основой этих анналов были
пасхальные таблицы.»[24]
Таким образом, конструктивно-мировоззренческой основой
летописей становится перечень всех временных лет ,
даже тех, в которые не внесены какие-либо исторические
сведения. По мнению какдемика М.И.Сухомлинова,»одною
из причин, почему событие занесено в летопись, остается
непременно год, в котором оно случилось. Напротив того,
годы внесены совершенно независимо от событий.
Доказательством этому служат сто семь лет, означенных, но
не описанных в древней летописи. Отсюда следует прямое
заключение и об остальных годах: значит, и они выставлены
были прежде, нежели понадобились для определения времени
какого-либо события. Ряд пустых годов был вполне у места
только на пасхальных таблицах, где каждый из них имел
смысл по отношению к кругу церковных праздников. Таким
образом ряд лет является древнейшею и существенною
особенностью летописи, определившею навсегда ее
форму».[25]
Поскольку в ХI в.,когда в Киево-Печерском монастыре
зарождалось русское летописание, пасхалии уже были
рассчитаны до 7000 (1492) года, то был известен и перечень
«временных лет» до 1492 г. То есть,
летопись изначально в хронологической основе своей
имела временной предел — 1492 год. После него, как
и в пасхалиях, мыслился конец света. Потому-то всем
христианским миром конец ХV в. воспринимался как самое
реальное время второго пришествия Христа и
Страшного суда. К нему и готовились.
Достаточно сказать, что во второй половине ХV в.
отмечается небывалый дотоле исход целыми княжескими и
боярскими семьями в монастыри. Уход от соблазнов мира
тленного ради вечного спасения. Среди князей Мономахова
рода такая практика бытовала и ранее, и если не уход в
монастырь как смысл жизни, то хотя бы пострижение в монахи
и принятие схимы пред близкой кончиной. Например, князь
Александр Невский принял пострижение и схиму буквально за
несколько часов до своей кончины 14 ноября 1263 г. Так
поступали и его сыновья, и внуки, и правнуки вплоть до
московского князя Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389),
нарушившего эту традицию.[26] Но, что интересно, ни
один из великих князей Московских и всея Руси после
него не был удостоен святости. Да и сам он причислен к
лику святых только в 1988 г. Хотя, конечно, дело тут не
в принятии или не принятии пострига: не все принявшие
монашество князья становились святыми, и, наоборот,
многие не успевшие принять его были канонизированы,
особенно это касается князей страстотерпцев, как ,
например, Бориса и Глеба, Михаила Черниговского и
дpугих. Вопрос — в отношении ко княжеской власти, как
мирскому служению Богу. И служение это не всегда было
Богоугодным. Но это уже тема отдельного разговора.
Весь ХV век — это время приуготовления к концу Света. И
фактически все глобальные исторические события
воспринимались и трактовались в этом аспекте.
Когда в 1453 г. пал под натиском турок Константинополь,
оплот православия, столица славной былым могуществом
Византии, то о скором конце мира заговорили, как теперь
уже о само собой разумевшемся событии.Правда, в Новгороде,
а затем и в Москве появились сторонники иной точки зрения,
представители «ереси жидовствующих»,
сомневавшихся как в Божественной сути Христа, так и в
верности расчетов его Второго пришествия. О сильном
брожении умов в конце ХV в. писал тогда Иосиф
Волоцкий:»Ныне же и в домехъ, и на путехъ (в дороге),
и на тържищахъ (рынках) иноци и мирьстии (иноки и миряне)
и вси сомняться, вси о вере пытают»[27]
У летописей была своя задача: отнюдь не равнодушно внимая
добру и злу (зло всегда осуждалось!) фиксировать «што
ся здея в лета си»[28] — человеческие деяния.
Не запечатлевать только случившееся по воле Божьей без
человеческого участия, а именно сделанное, совершенное
волею людей. Ибо по поступкам, по осознанным
делам человека, представляющим собой выбор между добром
и злом, будет вершиться Божий суд.
«Сия вся написанная,- замечает летописец ХV века,-
… иже только от случившихся в нашей земле несладостная
нам и неуласканная (неприкрашенная) изглаголавшим, но
изустительная (побуждающее) и к пользе обретающаяся и
восставляющая на благая и незабытная; мы бо не досажающе,
ни поношающе, ни завидяще чти честных (чести почетных лиц)
таковая вчинихом, яко же обретаем начального летословца
Киевского, иже вся временнобытства земская не обинуяся
показуеть, но и прьвии наши властодрьжци без гнева
повелевающе вся добрая и недобрая прилучившаяся
написовати, да и прочии по них образы явлени будут, якоже
при Володимере Мономасе, оного великого Селивестра
Выдобыжского, не украшая пишущего…»[29]
Как в Синодик вписывались все новые и новые имена усопших
христиан для поминовения, так в летопись вписывались все
новые и новые деяния людей, и, прежде всего, наделенных
Богом властью князей:»Богь даеть власть, ему же
хощеть; поставляеть бо … князя Вышний, ему же хощеть,
дасть»,- замечает «Повесть временных лет»
под 1015 г.[30] Потому крайне редко
летописец дает свою оценку деятельности князя,
ибо не он уполномочил его властью, но Бог, и пред Богом
ответствен правитель сам, как и вся земля его (народ):
«Аще бо кая земля управится пред Богомь,
поставляеть ей … князя праведна, любяща судъ и правду
(закон)… Аще бо князи правьдиви бывають в земли, то
многа отдаются согрешенья земли; аще ли зли и лукави
бывають, то болше зло наводить Богъ на землю, понеже то
глава есть земли. Тако бо Исаия (пророк) рече:
«Согрешиша от главы и до ногу, еже есть от цесаря
и до простыхъ людий». «Люте бо граду тому, в
немь же князь унъ», любяй вино пити съ гусльми и
съ младыми светникы. Сяковые бо Богъ даеть за грехы, а
старыя и мудрыя отъиметь…»[31]
Помнил летописец и заповеди Божии, одна из которых гласит:
«Не судите, да не судими будете. Имже бо судомъ
судите, судять вамъ»(Матф. 7;1-2). Грех осуждения и
мнения («Всемъ страстямъ мати — мнение; мнение —
второе падение», — заметил один из учеников Иосифа
Волоцкого[32]) — не для монахов,
чаще всего выступавших в роли летописцев. Отсюда
отсутствие субьективности и собственного мнения в
оценке событий и даже сохранение противоположных своей
точек зрения намногие из них. Например, «Повесть
временных лет» донесла до нас два мнения по поводу
апостольского учения на Руси и ее крещения: по раннему,
сторонником которого был и Нестор, не было апостолов на
Руси («телом апостоли не суть сде были»), а
крещение ее осуществлено кн.Владимиром по воле Божьей.
Согласно другой — апостол Андрей посетил Киевские горы,
благословил их и предсказал, что «на сихъ горахъ
восияеть благодать Божья».[33]
По раннему мнению, князь Владимир Святославич Промыслом
Божиим принял христианство и крестил Русь. Его
придерживались первый митрополит из русских Иларион —
автор знаменитого и не превзойденного «Слова о Законе
и Благодати»[34], и его последователь
Нестор — агиограф и летописец Киево-Печерского
монастыря. По более позднему, сторонником которого был,
по-видимому, игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр, —
благодаря деяниям и пророчеству апостола Андрея,
благословившего Киевские горы.[35]
Из-за благоговейного отношения к Слову как Истине
(«Слово есть Бог»/Иоанн.1;1/, Бог есть Истина,
значит, Слово есть Истина) , благоверный
христианин-летописец сохранял все запечатленные до него в
слове версии, ибо не мнил о них и главную цель своего
труда видел в донесении их на Страшный суд. Истина же
устанавливается Высшим Сутией — Богом, а солгавший понесет
наказание. Именно поэтому в древнерусских сочинениях ХI-ХV
вв. не было вымысла: писать сакральным —
церковнославянским — языком божественной службы можно было
только о правде и Истине.
Поскольку конец мира ожидался в 1492 г., то подавляющее
большинство летописных сводов (то есть содержащие как
более ранние летописи, начиная с «Повести временных
лет», так и ее продолжавшие, иплоть до ХV в.),
заканчивали свое повествование в середине или во второй
половине ХV в. — накануне судьбоносного для мира события.
Например, общерусский летописный свод 1448 г.,
составленный в Москве, лег в основу «Софийской первой
летописи» и «Новгородской четвертой
летописи», написанных в последней четверти века в
Новгороде. Следующий общерусский летописный свод
датируется учеными 1479 годом. Он был доведен до
7000(1492) г. и сохранился в так называемом Уваровском
списке Московского летописного свода ХУ века.
Предположительно около 1493 г. составлена Погодинская
летопись, около 1495 г. — Мазуринская, около 1497 г. —
Прилуцкая и многие другие.
Московский летописный свод конца ХV в. стал основой
царского летописания ХVI в.[36]
Обращает на себя внимание, что летописание ХV в. носит не
местный, а общерусский характер. Судьба всей Русской земли
беспокоит христианина-летописца, а не только отдельно
взятого родного княжества.
Общее испытание, как известно, объединяет.
«Книги Бытия»
Древнерусские летописцы, используя «прием
исторической ретроспективной аналогии»[37], постоянно проводили
параллели между библейскими героями и их деяниями, и
своими князьями и событиями русской истории.
Например, уже в самом начале «Повести временных
лет» (в ее еще не имеющей погодной разбивки, если так
можно выразиться, «доисторической части»)
помещено широко известное предание о хазарской дани.
После смерти братьев Кия, Щека и Хорива нашли полян на
Днепровских кручах хазары и обложили данью.
Посоветовавшись поляне «дали от дыма по мечу», и
отнесли их хазары к своему князю и старейшинам. Увидев
новую дань, «сказали старцы хазарские: «Не
добрая дань эта, княже: мы добыли ее оружием, острым
только с одной стороны, — саблями, а у этих оружие
обоюдоострое — мечи. Им суждено собирать дань и с нас, и с
иных земель». А поскольку предсказание сбылось, то
летописец объясняет тому причину: «Не по своей воле
говорили они, но по Божьему повелению.» И приводит
библейскую аналогию: «Так было и при фараоне, царе
египетском, когда привели к нему Моисея и сказали
старейшины фараона: «Этому суждено унизить землю
Египетскую». Так и случилось: погибли египтяне от
Моисея, а сперва работали на них евреи. Так же и эти:
сперва властвовали, а после над ними самими властвуют; так
и есть: владеют русские князья хазарами и по нынешний
день»(С.148).
Для русского православного мировоззрения ХI — XII вв.
характерен религиозно-символический способ познания мира
[38], и такое сопоставление
позволяло увидеть трансцендентный смысл разделенных
Рождеством Христовым разновременных событий.
Православному сознанию присуще представление о бинарной
«картине мира»: мир делится на сакральный
небесный (как говорили в Древней Руси —
«горний») и материальный «дольний» —
земной. Сакральный мир пребывает в вечности, земной мир —
временный, и его бытие измеряется временем.
Смысл земной (ограниченной во времени) жизни человека — в
приуготовлении души к вечному бытию в небесной обители с
Богом и праведниками.
Линейный временной поток земной истории человечества
(ограниченный началом и концом) делится Рождеством
Христовым на два временных неравноценных отрезка:
Ветхозаветную историю — эпоху Закона (регламентирование
земной жизни десятью заповедями, полученными Моисеем от
Бога) и Новозаветную — эпоху Благодати (христианского
учения о спасении души в будущем веке).
В «Слове о Законе и Благодати» Иларион называет
Ветхий Завет слугой и предтечею Благодати и Истины. Ветхий
Завет только приуготовляет к восприятию Истины, но не
спасает. Истина есть Бог. И спасительное учение приходит с
Сыном Божиим — Христом. Спасение возможно через крещение и
исполнение в дополнение к десяти заповедям еще девяти
«заповедей блаженства», данных Иисусом Христом
своим ученикам.
Своим приходом в сей мир во плоти Иисус Христос соединил
мир горний и дольний: сверху — вниз — вверх. Святые
соединили оба мира (представляющих единое целое) снизу —
вверх: праведной жизнью на земле и пребыванием рядом с
Богом на небесах.
Пребывание праведных отцов, Спасителя и святых в мире
дольнем внесли сакральный смысл в человеческую
истрию: в ней нет ничего случайного (как и в жизни
человека), но все Промыслительно , тем самым обнаружилась
связь двух миров, и история обрела эсхатологический
(спасительный) смысл.
Эта соотнесенность вечного и временного отражена не
только в ежегодно повторяющихся праздниках православного
календаря, но и постоянно ощущается в ходе литургии,
заключающей в себе «символические указания на целую
жизнь Господа Иисуса Христа»[39] в каждом действии
священника.
Христианский праздник не просто воспринимается как память
о каком-то событии священной истории, но само событие
переживается молящимися в момент церковной службы (вот
почему службам присущи глагольные формы настоящего
времени), воспроизводящей его здесь и ныне.[40]
Сакральная же связь двух миров происходит во время
евхаристии — Пресуществлении Святых Даров (преобразовании
вина и просфоры в кровь и тело Христово).
«В событиях священной истории — Ветхого и Нового
Заветов — обнаруживаются непреходящие явления, как бы
живущие вечно, повторяющиеся в ежегодном круговороте не
только праздников, но и всех дней недели, связанных с той
или иной памятью о священных событиях».[41]
Вот почему «ветхозаветные и новозаветные события
занимают совершенно особое место в системе времени
средневекового сознания. Хотя они относятся к прошлому, но
в каком-то отношении они одновременно являются и фактами
настоящего <…>
События священной истории придают смысл событиям,
совершающимся в настоящем, они объясняют состояние
вселенной и положение человечества относительно
Бога».[42]
Сопоставляя современную ему действительность с явлениями
Священной истории древнерусский книжник видел в своем
настоящем соотнесенность с сакральным прошлым — со-Бытие.
Это были отнюдь не случайные, а наделенные определенным
историческим смыслом сопоставления деяний
ветхозаветных героев с поступками князей[43], в то же время
сравнения с новозаветными лицами крайне редки.
Цитаты из Нового Завета использовались в основном в
произведениях, затрагивающих вопросы веры и церковной
жизни: крещение княгини Ольги, диалог Философа и князя
Владимира («Речь Философа»), крещение Руси,
установление церковных праздников Преображения и Успения,
похвалы князю и т.д.
Новозаветные книги, написанные апостолами — учениками
Христа, — христологичны, в них изложены основы
христианства. Поэтому и ссылаются на положения из них в
вопросах веры.
Ветхозаветные книги, написанные пророками, —
историчны, в них изложена история народов (и,
прежде всего, израильского) от сотворения мира до
Рождества Христова.
Ветхозаветные события выступают прообразами
новозаветных и несут в себе пророчества о них.
Библия открывается книгой «Бытие», повествующей
о шести днях творения, грехопадения Адама и Евы, познанием
людьми добра и зла, расселением их по всему лицу земли
после потопа и т.д.
«Повесть временных лет» начинает свое
повествование с рассказа о расселении людей из племени Ноя
после потопа, с целью показать, что от библейского
Иафета , сына Ноя, пошли славяне, а немногим позднее, в
«Речи Философа», кратко излагается и вся земная
история от шести дней творения до Рождества Христова, т.е.
практически содержит сжатую ветхозаветную историю.
Библия завершается «откровением» Иоанна
Богослова о Страшном суде.
«Речь Философа» завершается описанием
«запоны» (видимо, холста) с впечатляющей
картиной Страшного суда и страданием грешников в аду.
Совершенно очевидна соотнесенность повествования
«Повести временных лет» и Библии. Точнее, многих
составляющих ее книг, поскольку полный перевод Библии на
Руси был осуществлен к 1499 г. Древнерусским летописцам
были хорошо известны книги Бытие, Исход, Левит,
Второзаконие, 1-4 книги Царств, Иова, Псалтырь (когда-то
по ней учились читать), Притчи Соломоновы, Екклезиаст,
Песнь песней, Иисус Сирахов, Пророки и т.д. Конечно же,
все четыре Евангелия и, несомненно, Апокалипсис.[44]
Соотнесенность летописей и Библии заключается в
осмыслении исторического процесса. Была мировая
история и история избранного народа. «Повесть
временных лет» включила историю Древней Руси в
мировую, поведала о появлении «новых людей» (так
называли христиан) и о начальной истории православной Руси
в новозаветный период.
Появление «новых людей» — восточных славян — в
христианской семье, по мнению летописцев, не случайно. Об
этом с историко-богословских позиций говорил еще пресвитер
Иларион 25 марта 1038 г. в канун Пасхи в проповеди по
случаю освящения в 50-летний юбилей крещения Руси
новопостроенной церкви Благовещения на Золотых воротах в
Киеве:»Лепо бо бе Благодати и Истине (т.е.
христианству — А.У.) на новы люди въсиати… И събысться о
насъ языцех реченое: «Открыеть Господь мышьцу свою
святую пред всеми языкы и узрять вси конци земля спасение,
еже от Бога нашего».[45]
Промыслом Божьим и свободой выбора веры князем
Владимиром объясняет Иларион приход христианства на Русь.
Монах Киево-Печерского монастыря Нестор разделял эти
взгляды. Он описал испытание вер князем Владимиром
и выбор среди них христианства.
Но если в Ветхом Завете рассматривается постулат
избранничества иудеев, то «Повесть временных
лет» говорит о равенстве всех народов, принявших веру
Христову.
История молодой православной Руси находится уже по эту
сторону границы — Рождества Христова — в новозаветном
периоде. Но если в ветхозаветной истории обнаруживаются
прообразы новозаветной, стало быть они приложимы и к
истории Руси, как части истории новозаветной. Так и
появляются сравнения русских православных князей с
библейскими персонажами. Интересно в этой связи отметить,
что для не крещеных князей летописцы, за редчайшим
исключением, не приводят параллелей из Библии, хотя
ветхозаветные лица в силу объективных причин так же не
были христианами.
Связует ветхозаветную историю и сторию славян
происхождение последних от библейского Иафета (Афета),
сына Ноя, которому достались в удел после потопа и
разделения земель «полунощныя страны и
западные», в том числе и территории по Днепру, Десне,
Припяти, Двине, Волге и т.д. (.С.7-8). «По разрушении
же столпа (Вавилонского -А.У.) и по разделении народов
взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама —
южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны.
От этих же 70 и 2 язык (т.е. народов — А.У.) произошел и
народ славянский, от племени Иафета»(С.144).
Стало быть, нет перерыва в истории, начавшейся в
библейские времена, есть единый временной поток, но в
новозаветный период появился новый народ — христиане.
Киевский (с 980 года) князь Владимир Святославич и
открывает новую — христианскую (т.е. новозаветную) — эпоху
в истории Древней Руси. Смысл его жизни — язычника а потом
христианина — летописец пытается объяснить посредством
ретроспективной аналогии с библейскими героями.
Уже происхождение его от «свободного» отца
(князя Святослава) и «рабыни» матери (его мать
Малуша, как свидетельствует летопись, была ключницей у
книгини Ольги) в исторической ретроспекции
«роднит» с библейским Измаилом, сыном Авраама и
египтянки Агари, служанки Сарры.
Оба оказались притесняемы женщинами: после рождения у
Сарры первенца Исаака сказала она Аврааму: «… Не
наследует сын рабыни сей с сыном моим
Исааком»(Быт.21;10). Предпочтение
«свободному» Ярополку Святославичу отдает и
Полоцкая княжна Рогнеда: «Не хочю розути робичича
(сына рабыни -А.У.), но Ярополка хочю»(С.36).
Не ведала она, как Господь свидетельствовал об Измаиле:
«От сына рабыни Я произведу великий народ»
(Быт.21;13,18). И произошли от него двенадцать князей
племен их: «…вот имена сынов Измаиловых, имена их
по родословию их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар,
Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадар, Фема, Иетур,
Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в
селениях их, в кочевьях их»(Быт.25;13-16).
Не от «свободного» Ярополка, старшего брата
Владимира, убитого в столкновении за Киевское княжение, а
от «робичича» Владимира произошли двенадцать
князей нового народа христианского: «Володимеръ же
просвещенъ (крещением -А.У.) самъ, и сынове его, и земля
его. Бе бо у него сыновъ 12: Вышеславъ, Изяславъ,
Ярославъ, Святополкъ, Всеволодъ, Святославъ, Мьстиславъ,
Борисъ, Глебъ, Станиславъ, Позвиздъ, Судиславъ. И посади
Вышеслава в Новгороде, а Изяслава Полотьске, а Святополка
Турове, а Ярослава Ростове… И нача ставити городы по
Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по
Стугне. И поча нарубати (набирать — А.У.) муже (людей —
А.У.) лучьшие от словень, и от кривичь, и от чюди, и от
вятичь, и от сихъ насели грады»(С.54).
Но, что важно, летописец подчеркивает, что не язычник
Владимир становится родоначальником народа нового , как
Измаил, а уже просвещенный крещением, т.е. отошедший от
греха, правитель: «По изволению Божиему, человеческое
естество совлек тогда государь наш, и с ризами ветхого
человека снял тленное, отряхнул прах неверия, и вошел в
святую купель, и возродился от Духа и воды, во Христа
крестившись, во Христа облачившись. И вышел из купели
очищенным, став сыном нетления, сыном Воскресения, имя
приняв вечное, почитаемое в поколениях и поколениях —
Василий. Им же вписался в Книгу Жизни в Вышнем граде и
нетленном Иерусалиме»[46]
Вот новый аспект в оценке человека: противопоставление
погрязшего в грехах язычника и очистившегося от них
крещением и праведной жизнью христианина. На жизненном
примере князя Владимира летописец указывает путь ко
спасению крещением, недоступном его библейскому прообразу
— царю Соломону.
Объясняя женолюбство Владимира (5 жен и 800 наложниц)
летописец находит «оправдание» ему в подобном
пристрастии к женщинам премудрого Соломона: «бе бо,
рече, у Соломана женъ 700 , а наложниць 300».[47] Но не этим оба
снискали себе славу, а служением Богу. Раскаяние в
грехе прелюбодеяния и крещение приводит к спасению
Владимира , а Соломона не спасает даже строительство
храма во имя Господа. И тут являются куда более
существенные , чем с наложницами , параллели : Соломон
намеревается «построить дом имени Господа, Бога
моего»(3 Цар.5.5), князь Владимир «помысли
создати церковь Пресвятыя Богородица»(С.54). По
окончании работ Соломон «воздвиг руки свои к небу,
и сказал: «Господи, Боже Израилев!… Небо и небо
небес не вмещают тебя, тем менее храм сей , который я
построил имени Твоему. Но призри на молитву раба
Твоего… , услышь молитву , которою будет молиться раб
Твой на месте сем»(3 Цар.7.51; 8.22-30).
Аналогичным образом поступает князь Владимир:
«Володимер видев церковь свершену, вшед в ню и
помолися Богу, глаголя: «Господи, Боже!… Призри на
церковь Твою си, юже создах, недостойный рабъ Твой, въ имя
рожьшая Тя Матере,Приснодевыя Богородица. Аже кто
помолиться въ церкви сей, то услыши молитву его молитвы
ради Пречистыя Богородица»(С.55).
А затем оба устраивают «праздник велик»,
длящийся по восемь дней:
«И сделал Соломон в это время праздник… В восьмый
день Соломон отпустил народ. И благословили царя, …
радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал
Господь»(3 Цар.8.65-66).
«Праздновавъ князь (Владимир — А.У.) дний 8 …
сотворяше праздник великъ, сзывая … множество народа.
Видя же люди хрестьяны суща, радовашеся душею и
телом»(С.56).
Подводя итог жизненному пути князя Владимира летописец
находит еще одну историческую аналогию (но уже из
новозаветного лериода истории) и сравнивает заслуги
киевского князя по крещению Руси с деяниями
равноапостольного византийского императора Константина:
«Се есть новый Костянтинъ великого Рима, иже
крестивъся сам и люди своя: тако и сь (т.е. Владимир
-А.У.) створи подобно ему. Аще бо бе и преже на скверную
похоть желая, но после же прилежа к покаянью, яко же
апостолъ вещаваеть: «Идеже умножиться грехъ, ту
изобильствуеть благодать». Дивно же есть се, колико
добра створилъ Русьстей земли, крестивъ ю …» А
потому и достоен принять «венець с праведными … и
ликъствованье (ликование — А.У.) съ Авраамомь и с прочими
патриархы…»(С.58).
Находится ветхозаветный прообраз и «греховного
плода» князя Владимира — Святополка.
Как бы само собой напрашивается сопоставление братоубийцы
Святополка, прозванного за то «Окаянным», с
первым братоубийцею Каином. Захватив после смерти
Владимира Святославича киевский престол «Святополкъ
… исполнивъся безакония, Каиновъ смыслъ приимъ» —
захотел погубить братьев своих и посылает убийц к Борису и
Глебу. Однако, параллель с Каином не полная: Каин убил
брата Авеля из ревности, что не его жертва была принята
Богом, но не ради престола. И летописец находит в
библейской истории полную аналогию, сравнивая Святополка и
по греху, и по происхождению, ставшему причиной греха, с
Авимелехом: «Сей же Святополкъ, новый Авимелехъ, иже
ся бе родилъ от прелюбодеянья, иже изби братью свою, сыны
Гедеоны; тако и сь бысть»(С.64).
Летописцу важно было указать не просто на братоубийцу, а
на уже имеющийся в ветхозаветной истории прецедент
рождения братоубийцы от «греховного плода»:
«Ламехъ уби два брата Енохова, и поя собе жене
ею»(С.64), от одной из них и родился Авимелех;
Владимир убил своего брата Ярополка, силою взял в жены его
жену — мать Святополка, уже беременную им. Ветхозаветный
Авимелех выступил прообразом новозаветного Святополка.
Изменилось время и исторический быт, но не исчез грех
братоубийства.
И кончина, т.е. наказание за преступление, Святополка
находит библейскую аналогию. Разбитый Ярославом
Владимировичем (Мудрым), вступившемся за своих менших
братьев, Святополк бежал с поля битвы: «И бежащю ему,
нападе на нь бесъ, и раслабеша кости его, не можаше седети
на кони, и несяхуть и на носилехъ … Онъ же глаголаше:
«Побегнете со мною, женуть по насъ». Отроци же
его всылаху противу: «Еда кто женеть по насъ?» И
не бе никого же вследъ гонящаго[48], и бежаху с нимь. Он
же в немощи лежа, и въсхопивъся глаголаше: «Осе
женуть, о женуть, побегнете». Не можаше терпети на
единомь месте, и пробежа Лядьскую землю, гонимъ Божьимъ
гневомъ, прибежа в пустыню межю Ляхы и Чехы, испроверже
зле животъ свой в томъ месте … Суду нашедшю на нь, по
отшествии сего света прияша мукы, оканьнаго (т.е.
Окаянного — А.У.) … и по смерти вечно мучимъ есть
связанъ. Есть же могыла его в пустыни и до сего дне.
Исходить же от нея смрадъ золъ»(С.63-64).
«При ближайшем рассмотрении оказывается, что почти
все эти детали имеются в 28-й и 29-й главах Притчей
Соломоновых и чуть ли не дословно повторяют описание
бегства Антиоха IV Епифана из Персии. Тот «приказал
правящему колесницею погонять и ускорять путешествие,
тогда как небесный суд уже следовал за ним <…> Бог
<…> поразил его неисцельным и невидимым ударом
<…> Тогда случилось, что он упал с колесницы,
которая неслась быстро, и тяжким падением повредил все
члены тела <…> и несен был на носилках, показуя
всем явную силу Божию <…> смрад же зловония от
него невыносим был в целом войске». Описание бегства
Антиоха завершается выводом: «Так этот человекоубийца
и богохульник, претерпев тяжкие страдания, какие причинял
другим, кончил жизнь на чужой стороне в горах самою жалкою
смертью»(2 Макк.9;4,5,8-9,28). Как видим, аналогия
почти полная».[49]
Находится ретроспективная аналогия и победителю Святополка
— Яроставу Владимировичу, который отличался хромотой. В
новгородской версии описания ночной битвы Ярослава со
Святополком на Днепре в 1016 г., Ярослав одерживает победу
еще «до света», что дало И.Н. Данилевскому
«возможность соотнести данное сообщение с рассказом
книги Бытия о поединке, который происходит на берегу реки,
причем один из участников его охромевает. Речь идет о
борьбе праотца Иакова с ангелом в Пенуэле, на восточном
берегу Иордана (Быт. 32;24-32). В этом случае новгородский
летописец, по-видимому, сравнивает Ярослава с
Иаковом».[50] Причем исследователь
приводит и ряд других сопоставлений между Ярославом и
Иаковом: «И того и другого пытался убить старший
брат, но в обоих случаях героя предупреждает близкая
ему женщина: Ярослава — сестра Предслава, а Иакова —
мать Ревекка. От гнева брата оба бегут к родственникам
матери, за пределы страны (Яростав — за море, … а
Иаков — в Месопотамию). Там они женятся на дальних
родственниках матери (Ярослав — на шведской принцессе
Ингигерд, а Иаков — на дочерях Лавана, Лии и Рахили).
<…> Упоминание Ярослава как хромца («Что
придосте с хромьцемь сим? — спрашивает у новгородцев
воевода Святополка) непосредственно перед битвой вполне
может быть понято как намек на то, что Святополк в этом
рассказе идентифицируется с Давидом, Киев — с
Иерусалимом, а сам Ярослав — с хромцом, который не
должен туда попасть».[51]
Второй сын Ярослава Владимировича — Святослав — за
суетность своих устремлений (он изгнал старшего брата
Изяслава из Киева) и хвастовство пред немецкими послами
своим богатством, сравнивается с суетным и хвастливым
иудейским царем Иезекией[52]: «Святославъ же,
величаяся, показа имъ (послам — А.У.) богатьство свое.
Они же видевше бещисленое множьство, злато, и сребро, и
паволокы, и реша: «Се ни въ что же есть, се бо
лежить мертво. Сего суть кметье (воины — А.У.) луче.
Мужи бо ся доищють и больше сего». Сице ся похвали
Иезекий, царь июдейскъ, к посломъ царя асурийска, его
же вся взята быша в Вавилонъ: тако и по сего (т.е.
Святослава — А.У.) смерти все именье расыпася
разно»(С.85). Владения Святослава Ярославича —
Киев, Чернигов, Муром и др.-разобрали братья и
племянники, а детям его места не оказалось в Русской
земле, и Олегу Святославичу пришлось силой добывать
отчий престол.
Бегство Игоря Святославича (внука упомянутого выше Олега
Святославича) из половецкого плена в 1185 г. обусловлено
заступничеством Божиим после его раскаяния[53]: «Не оставить бо
Господь праведнаго в руку грешничю, очи бо Господни на
боящаяся Его, а уши Его в молитву ихъ. Гониша бо по нем
и не обретом его, якоже и Саоулъ гони Давида но Богъ
избави и. Тако и сего Богъ избави из руку
поганыхъ»[54]
Таких соотнесений новозаветной русской истории (то
есть, находящейся уже во временном отрезке от Рождества
Христова до Страшного суда) с ветхозаветной
иудейской в «Повести временных лет» достаточное
количество.[55] Летописцы как бы
(или на самом деле) подводят читателей «преизлиха
наполненных книжною мудростью»(Иларион) к простому
выводу: нет ничего нового (в морально-этическом
плане) в новой истории, чего прежде бы не было в
ветхозаветной. И, как оценены деяния и поступки
библейских персонажей, так будут оценены деяния и
поступки современных летописцу князей. И, наконец,
главное: любое волеизъявление человека (выбор между
добром и злом) может быть оценено (и оценивается!)
через Святое Писание, ибо такая оценка уже была дана
ветхозаветным лицам и будет дана — на Страшном суде
новозаветным, о чем и свидетельствует
«Откровение» Иоанна Богослова. Об этом и
стремились постоянно напоминать русские летописцы.
Стало быть, русские летописи ХII- ХV вв. — это
своеобразные «Книги Бытия» и
«княжений», сопоставимые с библейскими
историческими книгами «Бытие»,
«Исход», «Царствований» и т.д., но
повествующие уже о событиях более близких к концу Света,
расположенных уже по эту сторону границы спасения —
Рождества Христова. Это книги иного временного уровня, но
единого временного потока.[56]
Верхней границей Ветхого Завета было Рождество Христово,
ознаменовавшее новую эру в земной истории человечества;
летописей — Страшный суд, после которого наступит новая,
вневременная эра небесного бытия — вечность, «будущий
век — жизнь нетленная».
О летах временных и временных — исчисляемых
и проходящих, оставшихся до Судного дня, и повествует
лето-писание.
«Временных» или
«временных» ?
Как в свете всего изложенного следует понимать само
название начальной русской летописи: » Се повести
времяньных лет … (вариант: «Повесть
временных лет …»), описывающей «вся
временнобытства земская»?
Традиционно ударение ставится на последнем слоге; к этому
мнению склоняются большинство лингвистов[57], но не
все[58]. Какой же смысл при
этом вкладывается в определение «временные
лета»?
В комментарии к первому изданию «Повести временных
лет» в серии «Литературные памятники»
(дословно повторенном и во втором издании 1996 г.)
академик Д.С.Лихачев писал:»»Времяньных»
значит «минувших», «прошедших». Именно
в таком значении это слово неоднократно употребляется в
переводе Хроники Георгия Амартола. Ср.: «Начало
временьныхъ царствъ» (в названии одного из разделов).
Учитывая значение греческого текста, который лежит в
основе этого места, выражение это следует перевести —
«Начало прошлых царств»… Так же точно понял
значение слова «временьных» в ХVI в. и
составитель так называемого Тверского сборника, переведший
название «Повести временных лет» следующим
образом: «Повести д р е в н и х лет». Название
«Се повести времяньных лет» дал своему труду
летописец, перерабатывавший собранный им исторический
материал за п р о ш л ы е годы. Составитель «Повести
временных лет» неоднократно подчеркивает и в самом
тексте своего труда, что он пишет о п р о ш л о
м.[59][Разрядка
Д.С.Лихачева — А.У.].
Следуя традии и сам Д.С.Лихачев переводит название
летописи «Вот повести минувших лет…»[60] Ему вторит
О.В.Творогов в последнем издании «Повести
временных лет» по Ипатьевскому списку:
«Повесть о минувших годах …»[61], то есть, основной
смысловой упор в переводе словосочетания
«временных лет» делается на значение
«находящихся в прошлом», уже «прошедших
летах».
И.Н.Данилевский усматривает в названии летописи
дополнительный эсхатологический смысл: «… в
названии «Повести временных лет» речь идет не
только о прошедших и преходящих годах, но и о конечной
цели повествования, которое, как становится ясно, должно
было быть доведено до наступления «Царства
славы», до последнего дня «мира сего»
(временного)». Вместе с тем — это и та идея, которая
могла бы объединить и, видимо, объединяет всю
«Повесть», придавая ей единство, цельность,
законченность. Повествование может быть завершено в любой
момент, как только появятся знамения наступающего конца
мира, но до этого оно будет представлять собой «вечно
продолжающийся итог»». А потому, применив не
традиционное деление названия «Повести» на слова
(«Се по вести времяньных лет …»), дает им
следующий перевод: «Вот [повествование] — от начала
Русской земли до знамения конца времен …»[62]
В целом, как мне кажется, идея соотнесенности названия
летописи с концом света верна[63], но перевод названия
требует уточнения, ведь речь в «Повести временных
лет» ведется не от начала Русской земли, а от
расселения сыновей Ноя после потопа по частям света, то
есть, с мировой истории. Если учесть, что в начальную
часть летописи под 986 г. включена «Речь
философа», кратко повествующая о мировой истории с
первых дней творения, то, очевидно, предлагаемый
перевод названия не отражает ее особый смысл, присущий
оригиналу.
Не случайно камнем преткновения стало определение
«времяньных». Отмечая приводимые словарями его
значения — «временный, непостоянный,
преходящий»; «временной, определяемый
временем»[64](этот смысл угадывается
при ударении на последнем слоге —
«временных»); «не всегда, не
вечно существующий; земной, преходящий; все земное, не
вечное»[65]; и, наконец, земное
(«временьная») как противоположность
небесному[66], — толкователи
названия летописи не акцентируют внимания на о с н о в
н о м з н а ч е н и и слова
«временный» (с ударением на
первом слоге) — » не вечно существующий» ,
т.е. ограниченный рамками начала и конца, присущий, в
бинарной картине мира, миру дольнему, профанному,
временно существующему, находящемуся в оппозиции к
вечному — сакральному, пребывающему в мире горнем:
«видимая бо временьна, невидимая же вечна»;
«земная и временьная възлюбивъ вечныхъ лишенъ
быхъ»; «возлюбивъ нетленная паче тленьных, и
небесная паче временьных» и т.д.[67]
Еще более ощутима обмирщенность (приземленность) этого
понятия в выражении «временьныи сии
светъ»[68], т.е. мир видимый как
противоположность миру невидимому, сакральному,
вечному.
Исходя из этого понимания определения
«времяньных», т.е. представляющих собой
ограниченный временной отрезок от сотворения мира и до
Страшного суда, имеющий, как полагали в раннем
средневековье, протяженность в 7000 лет и заканчивающийся,
по пасхальным таблицам, 1492 годом от Рождества Христоава,
и следует понимать (и переводить) название «Се
повести времяньных лет …» как «Вот
(это) повести временных лет …»[69] Думаю, чтение названия
из Лаврентьевской летописи, где употребляется
множественное число «повсети», а не
«повесть», как в Ипатьевском списке, по с м ы
с л у более правильно. Ибо повестей летопись вобрала в
себя много — под каждым годом. Расположить события от
сотворения мира и до современного летописцу времени —
значит включить их в мировой исторический процесс.
* * *
Христиане Западной Европы в ХII-ХIII вв. также остро
ощущали «тень будущего». Западные хронисты
начинали изложение истории с пересказа книги
«Бытие» и включали повествование о своем времени
в мировую историю. Но чтобы смысл истории был однозначно
понятен, они не ограничивали свое изложение описанием
современных им событий и завершали картиной Страшного
суда. Так поступали Оттон Фрейзингенский в середине ХII
в., а спустя столетие Винцент из Бове в «Зерцале
истории».[70] Пророчества
воспринимались как реальность. Между настоящим и
будущим существует не только прямая связь, но и прямая
зависимость. Острее всего эту связь ощущали люди
средневековья.
Русским летописцам не нужно было лишний раз напоминать о
Страшном суде его описанием в конце своего труда. Картину
его, находящуюся на западной стене, против алтаря, над
дверями, видел каждый благочестивый христианин, выходя
после богослужения из храма …
«Несть вамъ разоумевати времяныхъ летъ
…»
Во многом пониманию смысла выражения «времяньныхъ
лет» способствует установление источника, откуда это
выражение было заимствовано. Оно восходит к тексту
«Деяний святых апостолов» (1.7), традиционно
читаемых на Пасху. На вопрос учеников, «не в сие ли
время, Господи , возстановляешь Ты царство Израилю?»,
Иисус Христос ответил: «Не ваше дело знать времена
или сроки, которые Отецъ положил в Своей власти».
Этот текст вошел в рукописный Апостол 1307 года и другие
богослужебные книги. В них интересующая нас фраза выглядит
следующим образом: «Несть вамъ разоумевати
времяныхъ летъ яже Отць положи своею
областию».[71] Т.е. выражение
«времяныхъ летъ» совпадает с аналогичным в
заголовке летописи. Весь же смысл фразы из апостольских
деяний сводится к утверждению, что людям не дано знать
никаких сроков во временном этом житии…
Наступил и прошел «роковой» 1492 г., но
ожидаемый конец Света не настал. Нужно было найти
объяснения этому обстоятельству, и они нашлись. Не на семь
тысячелетий бытия мира, прообразом которых были семь дней
творения, следовало ориентироваться. В пророчествах и
объясняющей их святоотеческой литератруре говорилось о
предшествующих всеобщему концу трех христианских царствах,
последовательно сменяющих друг друга.
Первым царством было Римское. В нем родился Христос, в нем
зародилось и крепло христианство, в нем при Константине
Великом (306-337) стало государственной религией. Но при
Юлиане Отступнике (361-363) христианство вновь оказалось в
гонении.
По смерти Константина Великого Римская империя разделилась
на две: Восточную и Западную. Столицей Восточной империи —
Византии — становится Константинополь. На проходившем в
нем в 381 году Втором вселенском соборе Константинополь
был провозглашен «новым Римом». Так возникло
второе царство, куда перешла Божья благодать. Особенно
возрасла его роль после разделения в 1054 г. христианства
на западное — католическое и восточное — православное.
Местом пребывания патриарха был Константинополь.
Однако, в 1437-1439 гг. на Ферраро-Флорентийском соборе
была предпринята попытка унией вновь воссоединить две
церкви. Русские восприняли согласие Константинополя как
его отпад от истинной веры. Впервые великий князь
Московский Василий Васильевич употребил свою сакральную
(от Бога) власть, назвал еритиком и низложил русского
митрополита из греков Исидора, принимавшего участие в
Флорентийском соборе и подписавшего, вопреки мнению
московских людей, его решение. Русская митрополия добилась
автокефалии и права самим избирать себе митрополита, а не
принимать назначенного Константинополем.
Падение в 1453 г. при последнем византийском императоре
Константине ХI Палеологе (1449-1453) Константинополя было
воспринято русскими как наказание Божье грекам за
отступничество от истины, Так погибло второе христианское
царство.
В 1480 г. Российское государство освободилось без военного
разбирательства от двухсотлетнего монголо-татарского ига.
Событие было воспринято как знамение Божье. На
историческую арену выходило новое православное
государство. Вскоре появилась на Руси и новая теория:
«Москва — Третий Рим».
Впервые «новым градом Константина» назвал Москву
митрополит Зосима при новом рассчете в 1492 г. на
ближайшие двадцать лет пасхалий в «Изложении
пасхалий», а Ивана III — «новым
Константином», тем самым как бы узаконив переход
мирового значения «второго Рима» —
Константинополя на Москву. Практическую реализацию эта
идея получила уже в 1498 г., в акте торжественного в е н ч
а н и я н а ц а р с т в о внука Ивана III Дмитрия и в
использовании на российском гербе двуглавого византийского
орла. А литературное ее отражение сказалось в
«Повести о новгородском белом клобуке» (правда,
в ней пока отводится значительная роль Новгороду, а не
Москве) о переходе православной святыни — белого головного
убора святителя — из «ветхого» Рима . отпавшего
«от веры Христовы гордостию и своею волею» в
«латинскую прелесть», новый (второй) Рим —
Константинград. Когда же «насилием агарянскимъ (в
нем) тако же христианская вера» погибла, клобук
изнесен был в третий Рим, «еже есть на Руской
земли», и в котором «благодать святаго духа
восия».[72]
В начале ХVI века появляются сочинения, в которых
выводится родословная русских царей от основателя Римской
империи — Августа кесаря, во времена которого родился
Иисус Христос («Послание о Мономаховом венце
Спиридона-Саввы» и «Сказание о князьях
Владимирских»). Из чисто эсхатологической идея
«Москва — третий Рим» превращается в
идеологическую, обосновывающую новую с а м о д е р ж а в н
у ю форму правления на Руси. Но ее первоначальный
религиозный смысл не утрачмвается при этом.
«Блюди и внемли, — писал старец Филофей Василию III в
начале ХIV века, — благочестивый царю, яко вся
християнская царства снидошася в твое едино, яко два
Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Уже
твое християнское царство инем не останется.»[73]
В мировой практике и, прежде всего, византийской, история
царствований излагалась в хронографах, а не летописях.
Идея «трех царств» и иное бытие власти
(царствований) потребовали для своего отражения иной
исторический жанр — хронографы. Русские историографы
воспользовались давно им известным жанром, и уже в 1512 г.
появился Русский хронограф, а за ним последовали и другие.
Всплеск летописания произошел во времена Ивана Грозного,
ожидавшего Второго пришествия Спасителя в годы своего
правления. Но Страшный суд и тогда не наступил.[74]
Летописи стали сходить со своей центральной сцены на
переферийную, но не утратили своего основного значения, о
чем свидетельствуют их еще длительное бытование в
старообрядческой среде.
* Конечно же в
XV в., летописание не исчезло вообще, оно еще велось на
окраинах Русского государства, но в монастырях, где
возникло в XI-XII вв. прекратилось совсем (и для нас этот
факт весьма знаменателен), а в центре, в Москве, стало
мирским (т.е. светским).
[1]Корень «весть»
сохранился в своем первоначальном смысле и в ныне
употребляемых словах «вести»,
«известия», «ведущий»,
«ведающий» и даже «совесть»,
которое обреате значение «согласно пониманию,
знанию».
[2]Вопрос о месте и времени
включения «Поучения» в «Повесть
временных лет», написанную монахом
Киево-Печерского монастыря Нестором около 1113 г., до
сих пор остаестя нерешенным. «Поучение» дошло
до нас в составе «Лаврентьевского летописного
свода» (1377 г.); который сохранил, по мнению А.А.
Шахматова, поддержанному с некоторыми уточнениями
большинством ученых. вторую редакцию «ПВЛ»,
составленную около 1116 г. игуменом Выдубицкого
монастыря Сильвестром. Третья редакция, завершенная
около 1118 г. опять в Киево-Печерском монастыре,
сохранилась в «Ипатьевском летописном своде»
(начало XV в.).(См.: Шахматов А.А. Повесть временных
лет.-С.1-ХХ.) До сих пор остается непонятным, как
«Поучение», написанное, как полагают, в 1117
г., попало во вторую редакцию «ПВЛ»,
составленную в 1116 г., причем помещено под 1096 г.,
т.е. отнесено ко времени написания самого
«Письма» Олегу Святославичу.
[3]«Брат» в
приведенном контексте олицетворяет духовное родство.
Православные христиане обращаются друг к другу словами
«братья и сестры». Но в словах Мономаха
появляется и иной, конкретный смысл, поскольку Олег
Святославич приходится ему и двоюродным братом, и
кумом, крестившим в 1076 г. первенца Владимира Мономаха
— Мстислава.
[4]Это лейтмотив и
древнерусских летописей: «О взълюблении князи
русски, не прельщаитесь пустошною и прелестною славою
света сего, еже хужьши паучины есть и яко стень мимо
идет; не принесосте бо на свет сей ничто же, ниже
отнести можете»(Симеоновская летопись под 6778
г.:Полное собрание русских летописей
[далее-ПСРЛ].Т.ХVIII.СПб.,1913.-С.73.). Вот как описаны
в Волынской летописи последние минуты жизни князя
Владимира Васильковича:»И бысть в Четверг на ночь,
поча изнемогати, … и позна в себе духъ изнемогающ ко
исходу души, и возревъ на небо и воздавъ хвалу Богу,
глаголя:»Бесмертный Боже, хвалю Тебе о всемь! Царь
бо еси всим. Ты единъ во истину подая всей твари (всему
живому) всебогатьствомь наслаждение.Ты бо створивъ мира
сего, ты соблюдаешь, ожидая душа, яже помла, да добру
жизнь жившимь почтеши, яко Богъ, а еже не покорившуся
Твоимъ заповедемь, предаси суду.Всь бо суд праведный от
Тебе, и бес конца жизнь от Тебе, благодатью своею вся
милуешь притекающая к тебе».(ПЛДР.ХIII век.С.406)
[5]«Буесть» — это не
только отвага, но и запальчивость, заносчивость,
дерзость, необузданность: «Иже не хранитъ…
заповедей, но буестию и гордостию ино нечто паче
заповеданныхъ творити дерзнетъ, и чести… да
извержется…»(Словарь русского языка XI-XVII
веков.Вып.1.-М.,1975.-С.349).
[6]Ср. из «Беседы трех
святителей»: Вопрос. «Что высота небесная и
широта земная и глубина морская? Тол. Отец и Сынъ и
Святый Духъ».(Памятники отреченной русской
литературы, собраны и изданы
Н.Тихонравовым.Т.2.-М.,1864.-С.436).
НАЧАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРВОГО ПЕРИОДА НАШЕЙ ИСТОРИИ. ЛЕТОПИСНОЕ ДЕЛО В ДРЕВНЕЙ РУСИ; ПЕРВИЧНЫЕ ЛЕТОПИСИ И ЛЕТОПИСНЫЕ СВОДЫ. ДРЕВНЕЙШИЕ СПИСКИ НАЧАЛЬНОЙ ЛЕТОПИСИ. СЛЕДЫ ДРЕВНЕГО КИЕВСКОГО ЛЕТОПИСЦА В НАЧАЛЬНОМ ЛЕТОПИСНОМ СВОДЕ. КТО ЭТОТ ЛЕТОПИСЕЦ? ГЛАВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НАЧАЛЬНОЙ ЛЕТОПИСИ. КАК ОНИ СОЕДИНЕНЫ В ЦЕЛЬНЫЙ СВОД. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН СВОДА. НЕСТОР И СИЛЬВЕСТР.
НАЧАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
Обращаясь к изучению первого периода нашей истории, нельзя не исполнить ещё одного подготовительного дела: необходимо рассмотреть состав и характер Начальной летописи, основного источника наших сведений об этом периоде. Мы имеем довольно разнообразные и разносторонние сведения о первых веках нашей истории. Таковы особенно иноземные известия патриарха Фотия IX в., императора Константина Багрянородного и Льва Диакона Х в., сказания скандинавских саг и целого ряда арабских писателей тех же веков, Ибн-Хордадбе, Ибн-Фадлана, Ибн-Дасты, Масуди и других. Не говорим о туземных памятниках письменных, которые тянутся всё расширяющейся цепью с XI в., и памятниках вещественных, об уцелевших от тех времён храмах, монетах и других вещах. Всё это – отдельные подробности, не складывающиеся ни во что цельное, рассеянные, иногда яркие точки, не освещающие всего пространства. Начальная летопись даёт возможность объединить и объяснить эти отдельные данные. Она представляет сначала прерывистый, но, чем далее, тем всё более последовательный рассказ о первых двух с половиной веках нашей истории, и не простой рассказ, а освещенный цельным, тщательно выработанным взглядом составителя на начало отечественной истории.
ЛЕТОПИСНОЕ ДЕЛО В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Летописание было любимым занятием наших древних книжников. Начав послушным подражанием внешним приёмам византийской хронографии, они скоро усвоили её дух и понятия, с течением времени выработали некоторые особенности летописного изложения, свой стиль, твёрдое и цельное историческое миросозерцание с однообразной оценкой исторических событий и иногда достигали замечательного искусства в своём деле. Летописание считалось богоугодным, душеполезным делом. Потому не только частные лица записывали для себя на память, иногда в виде отрывочных заметок на рукописях, отдельные события, совершавшиеся в отечестве, но и при отдельных учреждениях, церквах и особенно монастырях велись на общую пользу погодные записи достопамятных происшествий. Сверх таких частных и церковных записок велись при княжеских дворах и летописи официальные. Из сохранившейся в Волынской летописи грамоты волынского князя Мстислава, относящейся к 1289 г., видно, что при дворе этого князя велась такая официальная летопись, имевшая какое-то политическое назначение. Наказав жителей Берестья за крамолу, Мстислав прибавляет в грамоте: «а вопсал есмь в летописец коромолу их». С образованием Московского государства официальная летопись при государевом дворе получает особенно широкое развитие. Летописи велись преимущественно духовными лицами, епископами, простыми монахами, священниками, официальную московскую летопись вели приказные дьяки. Рядом с событиями, важными для всей земли, летописцы заносили в свои записи преимущественно дела своего края. С течением времени под руками древнерусских книжников накоплялся значительный запас частных и официальных местных записей. Бытописатели, следовавшие за первоначальными местными летописцами, собирали эти записи, сводили их в цельный сплошной погодный рассказ о всей земле, к которому и со своей стороны прибавляли описание нескольких дальнейших лет. Так слагались вторичные летописи или общерусские летописные своды, составленные последующими летописцами из записей древних, первичных. При дальнейшей переписке эти сводные летописи сокращались или расширялись, пополняясь новыми известиями и вставками целых сказаний об отдельных событиях, житий святых и других статей, и тогда летопись получала вид систематического летописного сборника разнообразного материала. Путём переписывания, сокращений, дополнений и вставок накопилось труднообозримое количество списков, доселе ещё не вполне приведённых в известность и содержащих в себе летописи в разных составах и редакциях, с разнообразными вариантами в тексте родственных по составу летописей. Таков в общих и потому не совсем точных чертах ход русского летописного дела. Разобраться в этом довольно хаотическом запасе русского летописания, группировать и классифицировать списки и редакции, выяснить их источники, состав и взаимное отношение и свести их к основным летописным типам – такова предварительная сложная критическая работа над русским летописанием, давно начатая, деятельно и успешно продолжаемая целым рядом исследователей и еще не законченная. Первичные записи, ведённые в разных местах нашего отечества, почти все погибли; но уцелели составленные из них летописные своды. Эти своды составлялись также в разные времена и в разных местах. Если соединить их в один цельный общий свод, то получим почти непрерывный погодный рассказ о событиях в нашем отечестве за восемь столетий, рассказ не везде одинаково полный и подробный, но отличающийся одинаковым духом и направлением, с однообразными приёмами и одинаковым взглядом на исторические события. И делались опыты такого полного свода, в которых рассказ начинается почти с половины IX в. и тянется неровной, изредка прерывающейся нитью через целые столетия, останавливаясь в древнейших сводах на конце XIII или начале XIV в., а в сводах позднейших теряясь в конце XVI столетия и порой забегая в XVII, даже в XVIII в. Археографическая комиссия, особое учёное учреждение, возникшее в 1834 г. с целью издания письменных памятников древней русской истории, с 1841 г. начала издавать Полное собрание русских летописей и издала 12 томов этого сборника.
ДРЕВНЕЙШИЕ СПИСКИ НАЧАЛЬНОЙ ЛЕТОПИСИ
В таком же составном, сводном изложении дошло до нас и древнейшее повествование о том, что случилось в нашей земле в IX, X, XI и в начале XII в. по 1110 г. включительно. Рассказ о событиях этого времени. сохранившийся в старинных летописных сводах, прежде было принято называть Летописью Нестора, а теперь чаще называют Начальной летописью. В библиотеках не спрашивайте Начальной летописи – вас, пожалуй, не поймут и переспросят: «Какой список летописи нужен вам?» Тогда вы в свою очередь придёте в недоумение. До сих пор не найдено ни одной рукописи, в которой Начальная летопись была бы помещена отдельно в том виде, как она вышла из-под пера древнего составителя. Во всех известных списках она сливается с рассказом её продолжателей, который в позднейших сводах доходит обыкновенно до конца XVI в. Если хотите читать Начальную летопись в наиболее древнем её составе, возьмите Лаврентьевский или Ипатьевский её список. Лаврентьевский список – самый древний из сохранившихся списков общерусской летописи. Он писан в 1377 г. «худым, недостойным и многогрешным рабом божиим мнихом Лаврентием» для князя суздальского Димитрия Константиновича, тестя Димитрия Донского, и хранился потом в Рождественском монастыре в городе Владимире на Клязьме. В этом списке за Начальной летописью следуют известия о южной. Киевской и о северной. Суздальской Руси, прерывающиеся на 1305 г. Другой список, Ипатьевский, писан в конце XIV или в начале XV столетия и найден в костромском Ипатьевском монастыре, от чего и получил своё название. Здесь за Начальной летописью следует подробный и превосходный по простоте, живости и драматичности рассказ о событиях в Русской земле, преимущественно в южной. Киевской Руси XII в., а с 1201 по 1292 г. идёт столь же превосходный и часто поэтический рассказ Волынской летописи о событиях в двух смежных княжествах – Галицком и Волынском. Рассказ с половины IX столетия до 1110 г. включительно по этим двум спискам и есть древнейший вид, в каком дошла до нас Начальная летопись. Прежде, до половины прошлого столетия, критика этого капитального памятника исходила из предположения, что весь он – цельное произведение одного писателя, и потому сосредоточивала своё внимание на личности летописца и на восстановлении подлинного текста его труда Но, всматриваясь в памятник ближе, заметили, что он не есть подлинная древняя киевская летопись, а представляет такой же летописный свод, каковы и другие позднейшие, а древняя киевская летопись есть только одна из составных частей этого свода.
СЛЕДЫ ДРЕВНЕГО ЛЕТОПИСЦА
До половины XI в. в Начальной летописи не встречаем следов этого древнего киевского летописца; но во второй половине века он несколько раз выдаёт себя. Так, под 1065 годом, рассказывая о ребёнке-уроде, вытащенном рыбаками из речки Сетомли близ Киева, летописец говорит: «…его же позоровахом до вечера». Был ли он тогда уже иноком Печерского монастыря или бегал мальчиком смотреть на диковину, сказать трудно. Но в конце XI в. он жил в Печерском монастыре: рассказывая под 1096 годом о набеге половцев на Печерский монастырь, он говорит: «…и придоша на монастырь Печерский, нам сущим по кельям почивающим по заутрени». Далее узнаем, что летописец был ещё жив в 1106 г.: в этом году, пишет он, скончался старец добрый Ян, живший 90 лет, в старости маститой, жил он по закону божию, не хуже был первых праведников, «от него же и аз многа словеса слышах, еже и вписах в летописаньи сем». На основании этого можно составить некоторое понятие о начальном киевском летописце. В молодости он жил уже в Киеве, в конце XI и в начале XII в. был, наверное, иноком Печерского монастыря и вёл летопись. С половины XI в., даже несколько раньше, и летописный рассказ становится подробнее и теряет легендарный отпечаток, какой лежит на известиях летописи до этого времени.
КТО ОН БЫЛ? Кто был этот летописец? Уже в начале XIII столетия существовало предание в Киево-Печерском монастыре, что это был инок того же монастыря Нестор
Об этом Несторе, «иже написа летописец», упоминает в своём послании к архимандриту Акиндину (1224 – 1231) монах того же монастыря Поликарп, писавший в начале XIII столетия. Историограф Татищев откуда-то знал, что Нестор родился на Белоозере. Нестор известен в нашей древней письменности, как автор двух повествований, жития преподобного Феодосия и сказания о святых князьях Борисе и Глебе. Сличая эти памятники с соответствующими местами известной нам Начальной летописи, нашли непримиримые противоречия. Например, в летописи есть сказание об основании Печерского монастыря, где повествователь говорит о себе, что его принял в монастырь сам преподобный, а в житии Феодосия биограф замечает, что он, «грешный Нестор», был принят в монастырь уже преемником Феодосия, игуменом Стефаном. Эти противоречия между летописью и названными памятниками объясняются тем, что читаемые в летописи сказания о Борисе и Глебе, о Печерском монастыре и преподобном Феодосии не принадлежат летописцу, вставлены в летопись составителем свода и писаны другими авторами, первое монахом XI в. Иаковом, а два последние, помещенные в летописи под 1051 и 1074 гг., вместе с третьим рассказом под 1091 г. о перенесении мощей преподобного Феодосия представляют разорванные части одной цельной повести, написанной постриженником и учеником Феодосиевым, который, как очевидец, знал Феодосии и о монастыре его времени больше Нестора, писавшего по рассказам старших братий обители. Однако эти разноречия подали повод некоторым учёным сомневаться в принадлежности Начальной летописи Нестору, тем более что за рассказом о событиях 1110 г. в Лаврентьевском списке следует такая неожиданная приписка: «Игумен Силивестр святого Михаила написах книгы си летописец, надеяся от Богамилость прияти, при князи Володимере, княжащю ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святого Михаила, в 6624». Сомневаясь в принадлежности древней киевской летописи Нестору, некоторые исследователи останавливаются на этой приписке как на доказательстве, что начальным киевским летописателем был игумен Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве Сильвестр, прежде живший иноком в Печерском монастыре. Но и это предположение сомнительно. Если древняя киевская летопись оканчивалась 1110 г., а Сильвестр сделал приписку в 1116 г., то почему он пропустил промежуточные годы, не записавши совершившихся в них событий, или почему сделал приписку не одновременно с окончанием летописи, а пять-шесть лет спустя? С другой стороны, в XIV – XV вв. в нашей письменности, по-видимому, отличали начального киевского летописателя от Сильвестра, как его продолжателя. В одном из поздних сводов, Никоновском, после сенсационного рассказа о несчастном для русских нашествии ордынского князя Эдигея в 1409 г., современник-летописец делает такое замечание: «Я написал это не в досаду кому-нибудь, а по примеру начального летословца киевского, который, не обинуясь, рассказывает «вся временна бытства земская» (все события, совершившиеся в нашей земле); да и наши первые властодержцы без гнева позволяли описывать всё доброе и недоброе, случавшееся на Руси, как при Владимире Мономахе, не украшая, описывал оный великий Сильвестр Выдубицкий». Значит, Сильвестр не считался в начале XV в. начальным летословцем киевским. Разбирая состав Начальной летописи, мы, кажется, можем угадать отношение к ней этого Сильвестра. Эта летопись есть сборник очень разнообразного исторического материала, нечто вроде исторической хрестоматии. В ней соединены и отдельные краткие погодные записи, и пространные рассказы об отдельных событиях, писанные разными авторами, и дипломатические документы, например договоры Руси с греками Х в. или послание Мономаха к Олегу черниговскому 1098 г., спутанное с его же Поучением к детям (под 1096 г.), и даже произведения духовныхпастырей, например поучение Феодосия Печерского. В основание свода легли как главные его составные части три особые цельные повествования. Мы разберем их по порядку в своде.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЛЕТОПИСИ
1. Повесть временных лет. Читая первые листы летописного свода, замечаем, что это связная и цельная повесть, лишённая летописных приёмов. Она рассказывает о разделении земли после потопа между сыновьями Ноя с перечнем стран, доставшихся каждому, о расселении народов после столпотворения, о поселении славян на Дунае и расселении их оттуда, о славянах восточных и их расселении в пределах России, о хождении апостола Андрея на Русь, об основании Киева с новым очерком расселения восточных славян и соседних с ними финских племён, о нашествии разных народов на славян с третьим очерком расселения славян восточных и с описанием их нравов, о нашествии на них хозар, о дани, которую одни из них платили варягам, а другие хозарам, об изгнании первых, о призвании Рюрика с братьями из-за моря, об Аскольде и Дире и об утверждении Олега в Киеве в 882 г. Повесть составлена по образцу византийских хронографов, обыкновенно начинающих свой рассказ ветхозаветной историей. Один из этих хронографов – Георгий Амартола (IX в. с продолжением до 948 г.) стал рано известен на Руси в славянском, именно в болгарском, переводе. Его даже прямо называет Повесть как один из своих источников; отсюда, между прочим, заимствован рассказ о походе Аскольда и Дира на греков под 866 г. Но вместе с выдержками из Георгия она передает о восточных славянах ряд преданий, в которых, несмотря на прозаическое изложение, уцелели еще черты исторической народной песни, например предание о нашествии аваров на славян-дулебов. В начале Повесть представляет сплошной рассказ без хронологических пометок. Хронологические указания являются только с 852 г. но не потому, что Повесть имеет что-нибудь сказать о славянах под этим годом: она не помнит ни одного события, касавшегося славян в этом году, и мы увидим, что вся статья под этим годом вставлена в Повесть позднее чужой рукой. Далее, первое русское известие, помеченное в Повести годом, таково, что его нельзя приурочить к какому-либо одному году: именно под 859 г. Повесть рассказывает о том, что варяги брали дань с северных племен, а хозары с южных. Когда началась та и другая дань, когда и как варяги покорили северные племена, о чём здесь узнаём впервые, – об этом Повесть ничего не помнит. Еще более неловко поставлен 862 г. Под этим годом мы читаем длинный ряд известий: об изгнании варягов и усобице между славянскими родами, о призвании князей из-за моря, о прибытии Рюрика с братьями и о смерти последних, об уходе двух бояр Рюрика, Аскольда и Дира, в Киев из Новгорода. Здесь под одним годом, очевидно, соединены события нескольких лет: сама Повесть оговаривается, что братья Рюриковы умерли спустя два года после их прихода. Рассказ о 862 г. кончается такими словами: «Рюрику же княжащу в Новегороде, – в лето 6371, 6372, 6373, 6374 – иде Аскольд и Дир на греки», т. е. вставка пустых годов оторвала главное предложение от придаточного. Очевидно, хронологические пометки, встречающиеся в Повести при событиях IX в „не принадлежат автору рассказа, а механически вставлены позднейшею рукой. В этой Повести находим указание на время, когда она была составлена. Рассказывая, как Олег утвердился в Киеве и начал устанавливать дани с подвластных племен, повествователь добавляет, что и на новгородцев была наложена дань в пользу варягов по триста гривен в год, «еже до смерти Ярославле даяше варягом». Так написано в Лаврентьевском списке; но в одном из позднейших сводов, Никоновском, встречаем это известие в другом изложении: Олег указал Новгороду давать дань варягам, «еже и ныне дают». Очевидно, это первоначальная, подлинная форма известия. Следовательно, Повесть составлена до смерти Ярослава, т. е. раньше 1054 г. Если это так, то автором ее не мог быть начальный киевский летописец. Трудно сказать, чем оканчивалась эта Повесть, на каком событии прерывался ее рассказ. Пересчитывая народы, нападавшие на славян, повествователь говорит, что после страшных обров, так мучивших славянское племя дулебов, пришли печенеги, а потом, уже при Олеге, прошли мимо Киева угры. Действительно, в самом рассказе Повести это событие отнесено ко времени Олега и поставлено под 898 г. Итак, печенеги по Повести предшествовали венграм. Но далее в своде мы читаем, что только при Игоре в 915 г., т. е. после прохода угров мимо Киева, печенеги впервые пришли на Русскую землю. Итак, повествователь о временах Игоря имел несколько иные исторические представления, чем повествователь о временах, предшествовавших княжению Игоря, т. е. события 915 г. и следующих лет описаны уже не автором Повести. Эта Повесть носит в своде такое заглавие: «Се повести временных лет, откуду есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду Русская земля стала есть». Итак, автор обещает рассказать, как началась Русская земля. Рассказывая об утверждении Олега в Киеве в 882 г., повествователь замечает: «…беша у него варязи и словени и прочи, прозвашася Русью». Вот и начало Руси, Русской земли – исполнение обещания, данного повествователем. Итак, Повесть временных лет есть заглавие, относящееся не к целому своду, а только к рассказу, составляющему его начало и прерывавшемуся, по-видимому, на княжении Олега. Эта Повесть составлена не позже смерти Ярослава; призвание князей и утверждение Олега в Киеве – ее главные моменты.
II. Сказание о крещении Руси при Владимире. Оно разбито на три года: 986, 987 и 988. Но это также не летописный рассказ: он лишен летописных приемов, отличается полемической окраской, желанием охулить все веры, кроме православной. И это сказание, очевидно, не принадлежит начальному летописцу, а вставлено в свод его составителем. В нем уцелел намек на время его составления. Когда ко Владимиру пришли евреи с предложением своей веры, князь спросил их: «Где земля ваша?» Миссионеры отвечали: «В Иерусалиме». – «Полно, так ли?» – переспросил их князь. Тогда миссионеры сказали напрямки: «Разгневался Бог на отцов наших и расточил нас по странам грехов ради наших, и предана была земля наша христианам». Если бы повествователь разумел первых, кто покорил землю евреев, он должен был бы назвать язычников римлян; если бы он разумел властителей Иерусалима, современных Владимиру, то он должен был бы назвать магометан; если же он говорит о христианах, ясно, что он писал после завоевания Иерусалима крестоносцами, т. е. в начале XII столетия (после 1099 г.). Основным источником Сказания о крещении Руси и о христианской деятельности князя Владимира служило рядом с не успевшим еще завянуть народным преданием древнее житие святого князя, написанное неизвестно кем немного лет спустя после его смерти, судя по выражению жития о времени его княжения: «Сице убо бысть малым прежде сих лет». Это житие – один из самых ранних памятников русской литературы, если только оно написано русским, а не греком, жившим в России.
III. Киево-Печерская летопись. Ее писал в конце XI и в начале XII в. монах Печерского монастыря Нестор, как гласит раннее монастырское предание, отвергать которое нет достаточных оснований. Летопись прервалась на 1110 г. Но каким годом она начиналась? Можно только догадываться, что летописец повел свою повесть с событий, совершившихся задолго до его вступления в монастырь, куда он поступил не ранее 1074 г. Так, ему, по-видимому, принадлежит помещенный в своде рассказ о событиях 1044 г. Говоря о вступлении князя Всеслава полоцкого на отцовский стол, летописец упоминает о повязке, которой этот князь прикрывал язву на своей голове. Об этой повязке летописец замечает: «…еже носит Всеслав и до сего дне на собе», – а он умер в 1101 г. Если так, то можно предполагать, что летопись Нестора начиналась временами Ярослава 1. С большей уверенностью можно думать, что летопись прервалась именно на 1110 г. и что заключительная приписка Сильвестра не случайно помещена под этим годом. На это указывает самое описание 1110 г. в Лаврентьевском списке, сохранившем Сильвестрову приписку. Потому ли, что весть о случившемся не всегда скоро доходила до летописца, или по другим причинам, ему иногда приходилось записывать события известного года уже в следующем году, когда становились известны их следствия или дальнейшее развитие, о чем он и предуведомлял при описании предыдущего года как будто ante factum. Он, впрочем, иногда оговаривался, что это не предвидение, а только опоздание записи: «еже и бысть, якоже скажем после в пришедшее лето», т. е. когда будем описывать наступивший год. То же случилось и с 1110 г. Над Печерским монастырем явилось знамение, столп огненный, который «весь мир виде». Печерский летописец истолковал явление так: огненный столп – это вид ангела, посылаемого волею Божией вести людей путями промысла, как во дни Моисея огненный столп ночью вел Израиля. Так и это явление, заключает летописец, предзнаменовало, «ему же бе быти», чему предстояло сбыться и что сбылось: на следующее лето не этот ли ангел был (нашим) вождем на иноплеменников и супостатов? Летописец писал это уже в 1111 г., после страшного мартовского поражения, нанесенного русскими половцам, и слышал рассказ победителей об ангелах, видимо помогавших им в бою, но почему-то, вероятно за смертию, не успел описать этих событий 1111 г., на которые намекал в описании 1110 г. В Ипатьевском списке то же знамение изображено, как в Лаврентьевском, лишь с некоторыми отступлениями в изложении. Но под 1111 г. в рассказе о чудесной победе русских то же знамение описано вторично и иначе, другими словами и с новыми подробностями, хотя и со ссылкой на описание предыдущего года, и притом приурочено к лицу Владимира Мономаха, являющегося главным деятелем подвига, в котором участвовало 9 князей. Этот 1111 г. описан, очевидно, другим летописцем и, может быть, уже по смерти Святополка, когда великим князем стал Мономах. Итак, летопись Нестора была дописана в 1111 г. и кончалась 1110 г. Как мог летописец вести свою летопись? Так же, как он писал житие преподобного Феодосия, которого не знал при его жизни, – по рассказам знающих людей, очевидцев и участников событий. Печерский монастырь был средоточием, куда притекало все властное и влиятельное в тогдашнем русском обществе, все, что делало тогда историю Русской земли: князья, бояре, епископы, съезжавшиеся на собор к киевскому митрополиту, купцы, ежегодно проходившие по Днепру мимо Киева в Грецию и обратно. Ян, боярин, бывший киевским тысяцким, друг и чтитель преподобного Феодосия и добрый знакомый летописца, сын Вышаты, которому Ярослав I поручал большие дела, – один этот Ян Вышатич, умерший в 1106 г. 90 лет от роду, был для летописца живой столетней летописью, от которой он слышал «многа словеса», записанные им в своей летописи. Все эти люди приходили в монастырь преподобного Феодосия за благословением перед началом дела, для благодарственной молитвы по окончании, молились, просили иноческих молитв, жертвовали «от имений своих на утешение братии и на строение монастырю», рассказывали, размышляли вслух, исповедуя игумену и братии свои помыслы. Печерский монастырь был собирательным фокусом, объединявшим рассеянные лучи русской жизни, и при этом сосредоточенном освещении наблюдательный инок мог видеть тогдашний русский мир многостороннее, чем кто-либо из мирян.
СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ ЛЕТОПИСИ В СВОД
Таковы три основные части, из которых составлен начальный летописный свод: 1) Повесть временных лет, прерывающаяся на княжении Олега и составленная до 1054 г.; 2) Сказание о крещении Руси, помещенное в своде под годами 986 – 988 и составленное в начале XII в., и 3) Киево-Печерская летопись, в которой описаны события XI и XII вв. до 1110 г. включительно. Вы видите, что между этими составными частями свода остаются обширные хронологические промежутки. Чтобы видеть, как пополнялись эти промежутки, рассмотрим княжение Игоря, составляющее часть 73-летнего промежутка, отделяющего княжение Олега от момента, которым начинается Сказание о крещении Руси (913 – 985). Наиболее важные для Руси события рассказаны под годами: 941, к которому отнесен первый поход Игоря на греков, изложенный по хронографу Амартола и частью по греческому житию Василия Нового, под 944 – годом второго похода, в описании которого очевидно участие народного сказания, и под 945, где помещен текст Игорева договора с греками и потом рассказано также по народному киевскому преданию о последнем древлянском хождении Игоря за данью, о смерти князя и о первых актах Ольгиной мести. Под восемью другими годами помещены не касающиеся Руси известия о византийских, болгарских и угорских отношениях, взятые из того же хронографа Амартола, и между ними четыре краткие заметки об отношениях Игоря к древлянам и печенегам, что могло удержаться в памяти киевского общества. Ряд этих 11 описанных лет в нескольких местах прерывается большим или меньшим количеством годов пустых, хотя и проставленных по порядку в виде табличек: для этих годов, которых в 33-летнее княжение Игоря оказалось 22, составитель свода не мог найти в своих источниках никакого подходящего материала. Подобным образом восполнена и другая половина этого промежутка, как и промежуток между сказанием о крещении Руси и предполагаемым началом Печерской летописи. Источниками при этом служили кроме греческих переводных и южно-славянских произведений, обращавшихся на Руси, еще договоры с греками, первые опыты русской повествовательной письменности, а также народное предание, иногда развивавшееся в целое поэтическое сказание, в историческую сагу, например об Ольгиной мести. Эта народная киевская сага проходит яркой нитью, как один из основных источников свода, по IX и всему Х в.; следы ее заметны даже в начале XI столетия, именно в рассказе о борьбе Владимира с печенегами. По этим уцелевшим в своде обломкам киевской былины можно заключать, что в половине XI в. уже сложился в Киевской Руси целый цикл историко-поэтических преданий, главное содержание которых составляли походы Руси на Византию; другой, позднейший цикл богатырских былин, воспевающий борьбу богатырей Владимира со степными кочевниками, также образовался в Киевской Руси и до сих пор кой-где еще держится в народе, между тем как обломки первого уцелели только в летописном своде и изредка встречаются в старинных рукописных сборниках.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН СВОДА
Ряды пустых годов наглядно обнаруживают способ составления свода по перечисленным источникам. В расположении собранного летописного материала составитель руководился хронологическим планом, положенным в основу всего свода. Для постройки этого плана составитель располагал, с одной стороны, указаниями византийских хронографов и датами русских договоров с греками, а с другой – числом лет киевских княжений, хранившимся в памяти киевского общества. В Повести о начале Русской земли вслед за преданием о нашествии хозар на полян встречаем такую вставку под 852 г.: сказав, что при императоре Михаиле III «нача ся прозывати Русская земля», потому что тогда Русь напала на Царьград, как повествуется о том в греческом летописании, автор вставки продолжает: «тем же отселе почнем и числа положим». Эта вставка, очевидно, сделана составителем свода. Хронологию свою он ведет от потопа, указывая, сколько лет прошло от потопа до Авраама, от Авраама до исхода евреев из Египта и т. д. Высчитывая различные хронологические периоды, составитель свода доходит до того времени, когда (в 882 г.) Олег утвердился в Киеве: «от первого лета Михайлова до первого лета Олгова, русского князя, лет 29, а от первого лета Олгова, понелиже седе в Киеве, до первого лета Игорева лет 31» и т. д. Пересчитывая лета по княжениям, составитель свода доходит до смерти великого князя киевского Святополка: «а от смерти Ярославли до смерти Святополчи лет 60». Смерть Святополка, случившаяся в 1113 г., служит пределом хронологического расчета, на котором построен свод. Итак, свод составлен уже при преемнике Святополка Владимире Мономахе, не раньше 1113 г. Но мы видели, что Киево-Печерская летопись прерывается еще при Святополке, 1110 годом; следовательно, хронологический расчет свода не принадлежит начальному киевскому летописцу, не дожившему до смерти Святополка или, по крайней мере, раньше ее кончившему свою летопись, а сделан рукою, писавшею в княжение Святополкова преемника Владимира Мономаха, т. е. между 1113 и 1125 гг. На это именно время и падает приведенная мною Сильвестрова приписка 1116 г. Этого Сильвестра я и считаю составителем свода.
НЕСТОР И СИЛЬВЕСТР
Теперь можно объяснить отношение этого Сильвестра и к Начальной летописи и к летописцу Нестору. Так называемая Начальная летопись, читаемая нами по Лаврентьевскому и родственным ему спискам, есть летописный свод, а не подлинная летопись киево-печерского инока. Эта Киево-Печерская летопись не дошла до нас в подлинном виде, а, частью сокращенная, частью дополненная вставками, вошла в начальный летописный свод как его последняя и главная часть. Значит, нельзя сказать ни того, что Сильвестр был начальным киевским летописцем, ни того, что Нестор составил читаемую нами древнейшую летопись, т. е. начальный летописный свод: Нестор был составителем древнейшей киевской летописи, не дошедшей до нас в подлинном виде, а Сильвестр – составителем начального летописного свода, который не есть древнейшая киевская летопись; он был и редактором вошедших в состав свода устных народных преданий и письменных повествований, в том числе и самой Нестеровой летописи.
Летописями называют рукописные исторические сочинения, создававшиеся в Средние века и Новое время (до XVIII в.), повествование в которых велось по годам («летам»). В Средневековой Руси (как и в странах Центральной и Западной Европы) летописи создавались при дворах правителей (князей), церковных иерархов, а также в монастырях. Помимо расположенных в хронологическом порядке записей о происходивших событиях, летописи могли содержать описания жизни и деяний князей и святых, тексты договоров, отдельные рассказы о значимых событиях (например, о военных походах). Центральное место в русских летописях, как правило, занимает описание деятельности князей и военных конфликтов с их участием. Летописи являются бесценным историческим источником, из которого можно почерпнуть сведения не только о политической, но и о церковной, социально-экономической и культурной жизни Средневековой Руси и русских земель.
Согласно мнению большинства исследователей, русское летописание начинается в середине XI в. (хотя древнейшие сохранившиеся пергаментные списки (т.е. уникальные рукописные экземпляры) относятся к XIII в. Наиболее ранние летописные своды не сохранились, и об их содержании можно судить лишь по боле поздним текстам. Крупнейшими центрами летописания были Киев и Новгород (с XI в.), а также Переяславль, Владимир (с XII в.), а с конца XIV в. – Москва. Летописи классифицируются по редакциям и изводам (вариант текста, отличающийся особенностями языка и орфографии). Также они получили в историографии условные названия по месту происхождения, хранения или по фамилии хранителей).
Серийная публикация русских летописей началась только в XIX в. С 1841 г. по 1918 г. (с перерывами) вышло многотомное Полное собрание русских летописей (ПСРЛ).
Важнейшие летописные своды
Никоновская летопись
Была создана 1520-х – 1530-х гг. в Москве при митрополичьей кафедре. В первоначальной редакции описание событий доведено до 1520 г. Летопись представляет собой один из крупнейших памятников позднего русского летописания, включает материалы из ряда более ранних летописей (Симеоновской, Иоасафовской, Новгородоской пятой), а также материалы «Хронографа 1512 г.», церковного сборника, жития святых, сказания. Ряд сообщений Никоновской летописи по ранней истории Руси содержится только в этой летописи и не подтверждается другими источниками.
Новгородская первая летопись (НПЛ)
Важнейший источник по истории Новгородской земли, представляет собой группу летописных текстов, составлявшихся с XII по XV вв. при кафедре Новгородских епископов и архиепископов. Старший из двух изводов (редакций) сохранился в единственном списке XIII-XIV вв., младший представлен несколькими более поздними списками. Новгородская первая летопись содержит огромный массив сведений об истории Новгорода, жизни и деятельности его князей, архиепископов и выборных должностных лиц (посадников, тысяцких), о важнейших событиях внутренней и внешней политики, а также о происходящем в ряде других русских земель. Особенно подробно в летописи отражены события XIII в., включая отношения Руси и Орды и противостояние Новгорода экспансии Ливонского ордена.
Радзивиловская летопись
Сохранилась в уникальной рукописи XV в., содержащей более 600 миниатюр. Текст летописи близок к по содержанию к Лаврентьевской летописи и ряду других летописных сводов, писание событий доведено до 1205 г. В XVII в. рукопись принадлежала представителям литовского аристократичесгого рода Радзивиллов (что и дало ей название), затем хранилась в дворцовой библиотеке Кенигсберга (Пруссия), где с ней ознакомился Петр I во время Великого посольства. В середине XVIII в. рукопись Радзивиловской летописи была привезена из Кенигсберга в Москву для публикации по предложению М. В. Ломоносва и осталась в России в связи с началом Семилетней войны. Огромную ценность представляют содержащиеся в летописи многочисленные миниатюры, выполненные, вероятно, несколькими мастерами и иллюстрирующие описываемые события. Они, в частности, дают представления о средневековых русских костюмах, вооружении и архитектуре.
Ипатьевская летопись
Древнейший из дошедших до наших дней общерусский летописный свод в редакции конца XIII-начала XIV вв. Старейший сохранившийся список (первой четверти XV в.) был обнаружен Н. М. Карамзиным в Ипатьевском монастыре (в Костроме), что дало летописи ее название. Ипатьевская летопись содержит тексты «Повести временных лет» (второй по древности список после Лаврентьевской летописи), Киевского летописного свода 1198 г., а также Галицко-Волынскую летопись – уникальный источник, дающий сведения о Галицкой и Владимиро-Волынской землях.
Лаврентьевская летопись
Древнейший летописный свод, дошедший до нашего времени. Сохранилась в единственном пергаментном списке XIV в. (1377 г.) на основе более ранней рукописи. Названа по имени переписчика монаха Лаврентия (который переписал большую часть текста). До начала XVIII в. летопись хранилась в Рождественском монастыре во Владимире. В 1791 г. владельцем рукописи стал граф А. И. Мусин-Пушкин, который в начале XIX в. передал ее в дар императору Александру I.
Изложение событий в летописи доведено до 1304 г. Рукопись содержит текст «Повести временных лет» — крупнейшего исторического памятника Средневековой Руси, созданного в 1110-х гг., а также отражает владимирское и тверское летописание. Лаврентьевская летопись оказала большое влияние на ряд более поздних летописных сводов.
Каталог летописей