— А правда, что вам за каждую строчку платят рубль?
В зале раздался гомерический хохот.
Маяковский серьезно ответил:
— Правда. К сожалению, всего рубль.
— Ну, тогда понятно, почему вы делите строчку на части, иногда даже на три, — задорно выкрикивал с балкона студент при общем хохоте.
— Мне приятно это слышать, — иронически ответил Маяковский, — вижу, что вас кое-чему научили в институте, вы уже понимаете, что три больше одного.
Тут же поднялся такой хохот, что несколько минут публика не могла успокоиться.
— Поговорим серьезно, — сказал Маяковский. — Не судите о работе поэта по-обывательски, мещански. Это пошлость. Говорят, мои стихи малопонятны, трудны. Одно из двух: либо я плохой поэт, либо вы плохие читатели. А так как я поэт хороший, то выходит, что вы плохие читатели…
— Что такое? — взвыли в публике.
— Вы читаете только глазами, а надо уметь читать и ушами.
— Мы не ослы! — закричал кто-то.
— В самом деле? — с улыбкой осведомился Маяковский. — Вот вы слышали сегодня мои стихи, были они непонятны?
— Нет, эти понятны, — раздалось со всех сторон.
— А вот эти-то стихи и считают обыкновенно непонятными.
— В вашем чтении они понятны.
— Ну так читайте как я. Вот и всё. Я дроблю строчку вот почему.
Лев Коган. «Дневник», 1924 год
Жизнь похоже на море – периоды затишья сменяются штормами и бурями, сметающими всё на своём пути. Хотя, иногда, бури желанны для общества, жаждущего перемен. В каком стиле писал Маяковский – поэт, живший в очень непростое, бурное время? И почему он пришёлся по вкусу культурной публике той эпохи?
Каким стилем писал Маяковский
Давайте обратимся к истории. Начало двадцатого века было в России бурным и тяжёлым: войны, нищета, нежелание государства прислушиваться к отчаянью измученных людей привели к тому, что большая и серьёзная революция стала неизбежностью. Мысли о том, что революция – это не только долгожданные перемены, но и страшное кровавое событие, тогда народ не особо волновали. Хотелось перемен, и перемены шли по всем направлениям, в том числе и в области культуры. В творчестве появлялись новые, порой странные и пугающие, направления, которые отходили от канонов, но были так же желанны, как и перемены в социальной и политической жизни.
В каком стиле писал Маяковский, поэт, которого прекрасно знал каждый советский школьник? Владимир Маяковский не особо стремился стать поэтом, зато, как и многие другие представители молодёжи тех времён, он хотел совершить нечто невероятное, что покачнуло бы устои. Свою роль сыграла его бурная натура (первые стихотворные строки были написаны поэтом, когда он сидел в камере за беспорядки). Кроме того, в становлении поэзии помогло и то, что Владимир Маяковский уже в юности познакомился с творческими авангардистами и проникся их идеями. Итак, каким стилем писал Маяковский? Излюбленный стиль писателя – футуризм.
Футуризм начала двадцатого века
Если мы начнём подробно разбираться в том, что такое футуризм, то вряд ли этот стиль придётся кому-то по душе, хотя его появление в то время и было оправдано. Зародился этот стиль в Италии в 1909 году, и лишь потом пришёл в дореволюционную Россию, где и так уже было всё на грани революции. Чем именно отличался этот стиль? К постоянному движению в социуме, переменам во всех областях жизни, начиная с политического, к насилию во имя смены всех существующих канонов, к разрушению всех без исключения культурных учреждений: музеев, библиотек, сжиганию и преданию забвению книг, уничтожению музыкальных произведений, картин, скульптур. К созданию в результате принципиально нового, революционного. Футуристы считали, что всё старое, основанное на канонах, должно быть безжалостно забыто или уничтожено. Такие идеи поддерживал и Маяковский. В каком стиле писал стихи автор, может ответить само время. Хотя, конечно, надо отдать должное – поэт прекрасно отточил своё стихотворное искусство и добился больших высот в области культуры заслуженно. Кроме того, постепенно он отошёл от идей разрушения, призывая к постройке нового мира по-своему, и хотя бы не такими варварскими методами, которые так привлекали радикальных футуристов. А романтические произведения Маяковского имеют своё, неповторимое, и ни на что не похожее очарование. В них есть и сила, и нежность, свойственные только его поэзии.
Пишем в стиле Маяковского
У творчества Маяковского есть множество поклонников и в наше время. Кроме того, его собственный стиль всегда угадывается – настолько он необычен. Для почитателей творчества этого автора получить в подарок именные уникальные стихи, написанные в стиле Маяковского, будет отличным и желанным подарком. Заказать стихи вы сможете у автора Татьяны Агаповой. Кроме того, поэтесса напишет для вас стихотворные строки в стиле любого известного автора – по вашему желанию. Порадуйте родных и близких необычным и приятным подарком!
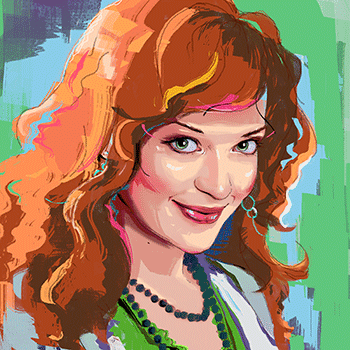
-
Новаторство стиха в.В. Маяковского.
Начало XX века – расцвет русской поэзии.
В этот период появляются новые поэтические
формы, по-другому начинают звучать
традиционные темы; возникает необычный
поэтический язык. В.В. Маяковского
считают новатором в области стихосложения.
Его особый стиль, внимание к ритму
стихотворения, нетрадиционные рифмовки,
использование новых слов – все это
отличает поэзию В.В. Маяковского от
традиционной лирики. Творчество поэта
вызывало и до сих пор вызывает дискуссии.
В поэтической системе Маяковского
особенно важны рифмы, усеченные строки,
разноударные стихи. Поэт использует
свой стиль написания стихотворения,
таким образом, В.В. Маяковский выделяет
паузами значимые смысловые строки. Вот
как происходит нагнетание тягостной
атмосферы безысходности в стихотворении
«Хорошее отношение к лошадям»:
Лошадь на круп [пауза]
грохнулась [пауза – читатель заостряет
свое внимание],
и сразу [пауза]
за зевакой зевака [пауза],
штаны пришедшие Кузнецким клешить
[пауза],
сгрудились…
Такая нетрадиционная разбивка
стихотворения на строки помогает поэту
привлечь внимание читателя к самому
главному, ощущение безысходности
передано не только лексически, но и
синтаксически, через особую разбивку
строки.
В. Маяковский повышенное внимание уделял
слову, поэтому в его произведениях
встречаем множество авторских неологизмов
– слов, придуманных самим поэтом, они
наиболее полно раскрывают суть
поэтического замысла, передают оттенки
авторской речи. В стихотворении «Необычное
приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче» много авторских
неологизмов: «златолобо», «ясь»,
«трезвонится», «вспоем». Поэт играет
со словами и рифмами, поэтому, например,
в данном стихотворении есть омонимы:
«Гоню обратно я огни впервые с сотворенья.
Ты звал меня? Чаи гони, гони, поэт,
варенье!», синонимы: «солнце», «златолобо»,
«светило». Поэтическая лексика В.В.
Маяковского всегда необычна, и читатель
открывает новые значения традиционных
слов и форм.
Поэт в своей лирике использует такой
поэтический прием как звукопись. Таким
образом, читатель не только представляет
себе изображенную поэтом картину
(большинство стихотворений Маяковского
сюжетны), но и слышит то, что происходит.
В стихотворении «Хорошее отношение к
лошадям» стук копыт умирающей лошади
передан следующим образом:
Били копыта,
Пели будто:
– Гриб.
– Грабь.
– Гроб.
– Груб.
Здесь важно не значения слов, а сочетание
звуков. По-новому звучат в поэзии В.В.
Маяковского традиционные темы. Например,
в стихотворении «Прозаседавшиеся» тема
бюрократизма раскрывается поэтом через
смешение фантастики и реальности,
создание гротескных ситуаций, когда
люди
«…на двух заседаниях сразу.
В день
Заседаний на двадцать
Надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться.
До пояса здесь,
А остальное
Там».
В этом же стихотворении используется
и еще один новаторский прием В. Маяковского:
смешение лексических стилей. В рамках
одного произведения есть слова и
выражения, тесно связанные с реалиями
современного поэту мира, а с другой
стороны – встречаются устаревшие формы
и слова. Например, по соседству находятся
такие слова и выражения: Тео, Гукон
(абравиатуры начала ХХ века) и старинная
форма глагола орать – оря; неологизм
того времени – аудиенция и архаизм –
со времени она.
Таким образом, В.В. Маяковский выступил
в поэзии начала ХХ века новатором в
области стихосложения. Его поэтическая
манера привлекла внимание читателя, а
талант поставил в один ряд с выдающимися
поэтами начала ХХ века.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Уже в корзине
Добавить еще
В корзину
Просмотр
Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа. Не свои – наши мысли заставляет поэт петь внутри нас.
Анатоль Франс
Поэзия – особый вид литературы, который представляет собой описание самых возвышенных чувств и мыслей человека, выраженных в стихотворной форме. Стихотворная речь отличается от прозаической. Чем? Особое звучание стихотворной речи придают ритм и рифма (хотя есть и безрифменные стихотворения и даже стихотворения в прозе).
Как появляются на свет стихи? Поэзия тоже имеет свои законы. Существует особое силлабо-тоническое стихосложение – система, в основе которой лежит выравненность числа слогов, количества и места распределения ударений в стихотворных строках.
Чем же еще, помимо рифмы и ритма, отличается одно стихотворение от другого? Это отличие проявляется в метре (поэтическом размере). Их пять: хорей и ямб относятся к двусложным (два слога в стопе); амфибрахий, анапест и дактиль – к трехсложным размерам.
Стопа – это группа слов, состоящая из одного ударного и одного или нескольких безударных, повторение которых определяет размер стиха.
Как определить тип стопы и размер стихотворения?
1. Двусложный размер с ударением на первом слоге в стопе называется хореем.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя…
(А. С. Пушкин)
2. Двусложный размер с ударением на втором слоге в стопе называется ямбом.
Зима. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь.
(А. С. Пушкин)
3. Амфибрахий – стихотворный размер, образуемый трехсложными стопами с сильным местом (ударением) на втором слоге.
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи…
(Н. А. Некрасов)
4. Анапест – стихотворный размер, стопа которого состоит из двух безударных и одного ударного слога.
О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
(А. Блок)
5. Дактиль – это стопа из одного ударного слога и двух безударных за ним.
Тучки небесные, вечные странники
(М. Ю. Лермонтов)
Жанры и формы: у каждого свои
У каждого народа есть свои поэты и даже свои жанры и формы поэзии. Хотелось бы привести несколько примеров.
Встретив этого немолодого уже человека, бредущего куда-то в одиночестве по запыленной дороге, многие его соотечественники были убеждены, что видят перед собой обычного бродягу. Вот он сошел с узкой горной тропки, чтобы отдохнуть и перекусить, но он не спешит отправиться в путь. Из его сумы появляется тушечница и бумага, на которой странник оставляет несколько иероглифов:
Парящих жаворонков выше,
Я в небе отдохнуть присел, –
На самом гребне перевала.
(Перевод В. Марковой)
Эти слова, принадлежащие японскому поэту Басё – трехстрочные поэтические миниатюры, состоящие всего из семнадцати слогов, – хокку (иначе хайку), жанр и форма японской поэзии.
Хайку – не просто стихи, а образ жизни, часть философского восприятия мира: понимание очарования простых вещей, сочетание легкости, простоты и прозрачности с глубиной мысли и чувств.
Совсем иначе создавал свои стихи Владимир Маяковский. Вот что он пишет: «Поэт должен развивать в себе именно чувство ритма и не заучивать чужие размерчики».
Он берет картины, сюжеты из жизни в их неповторимом естестве, с точным, только им присущим ритмом.
Светить всегда,
Светить везде,
До дней последних донца,
Светить –
И никаких гвоздей!
Вот лозунг мой –
И солнца!
(В. Маяковский)
Еще одна форма поэзии – это сонет. Он состоит из четырнадцати строк: как правило, двух четверостиший и двух трехстиший или трех четверостиший и одного двустишия. Сонет всегда иносказателен. Его темы – это прежде всего жизнь и смерть, истинная и ложная красота, любовь, творчество.
Имя какого поэта вспоминается сразу при упоминании слова «сонет»? Это Уильям Шекспир.
Его сонеты удивительны по содержанию, совершенны и просты по форме.
102
Тебя встречал я песней, как приветом,
Когда любовь нова была для нас.
Так соловей гремит в полночный час
Весной, но флейту забывает летом.
Христианские стихотворения
Мир поэзии не только прекрасен, но и многогранен. Особое место в нем занимают христианские стихотворения. В них воспеваются любовь и благодать Христа, мир природы, созданной Творцом.
Когда в годину испытаний
Померкнет свет, затмится высь,
Твоя симфония страданий
Неповторимая, как жизнь,
Достигнет самой горькой ноты, –
Душой усталою всмотрись
В бессилие распятой плоти
И трепет разделенных риз.
(Наталья Щеглова)
Автор этих стихов – Наталья Щеглова проникновенно пишет о своих личных переживаниях.
Отвечая на вопрос о том, как рождаются ее стихи, другая христианская поэтесса – Татьяна Хлопкова пишет, что ее творчество неразрывно связано с ее верой в Бога, и они неразделимы.
В Твоей любви, как в колыбели,
Покоюсь в самый трудный час.
Хоть злые ветры и метели
Стучали в сердце мне не раз.
(Татьяна Хлопкова)
Мир красоты, сотворенный
Для любви и добра.
Тысячи лет как рожденный,
А кажется, только вчера.
Я, взглядом объемля, в волненье
Родник постигаю живой…
Мой Бог! Восхищаюсь твореньем,
Склоняюсь я перед Тобой!
(Анжелина Мальцева)
Это стихотворение взято из поэтического сборника «И повсюду с нами Бог», выпущенного издательством «Источник жизни». В него вошло более 500 стихотворений современных христианских авторов. Из восхищения, благодарности и ответной любви, щедро явленной повсюду, рождаются стихи – радостные гимны, тихие молитвы, слезы покаяния, свидетельства веры и надежды.
Наверное, у нас есть столько способов выразить себя, чтобы мы могли рассказать о каждой мысли, каждой эмоции и переживании, которые иначе остались бы невысказанными навсегда.
Автор: Наталья Скороход.
Фото: Kelly Sikkema on Unsplash, Anastasia Dulgier on Unsplash
«Художественные особенности поэзии Владимира Маяковского»
Маяковский пристально вслушивался в пульс своего времени и постоянно искал новые поэтические решения, которые бы соответствовали духу эпохи великих перемен. Его излюбленный приём — метафора, особенно гиперболическая, построенная на преувеличении. Например, в поэме «Облако в штанах» читаем: «И вот громадный, / горблюсь в окне, / плавлю лбом стекло окошечное». Поэт обыгрывает свой незаурядный рост, силу чувств передаёт с помощью гиперболы: стекло плавится под горячим от любовного жара лбом героя. Нередко Маяковский использовал так называемую футуристическую метафору, которая устанавливает связи между самыми отдалёнными вещами и предметами. Вспомните стихотворение «А вы могли бы?», в котором читателей поражает метафорический образ «флейты водосточных труб».
Присущ Маяковскому и футуристический эпатаж — шокирование «добропорядочной публики», когда поэт употребляет грубые, вызывающие, подчёркнуто неэстетские образы или высказывания, как, например, в стихотворении «Нате!»: «я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам…».
Часты у Маяковского и эллипсы — пропуски значимых слов, что характерно для разговорной, эмоциональной речи (сравните название стихотворения «Скрипка и немножко нервно», которое, видимо, должно выглядеть как «Скрипка [звучала грустно] и немножко нервно»). Подобные нарушения объясняют негативной программой футуристов: для них характерен декларативный отказ от норм существующего языка. Но разрушение для художников-авангардистов было всегда актом творческим, для которого грамматические неправильности — не самоцель, а способ рождения новых смыслов.
Своеобразен и лексический состав поэзии Маяковского. Его произведения насыщены разговорной лексикой, неправильными и просторечными формами («нате», «хочете»). Особенностью художественного мира поэта является и частое употребление неологизмов («небоскрёбы», «аэроплан», «автомобили»). Он и сам любил придумывать новые слова (громадьё, медногорлый, бесконечночасый, стихачество, пианинить, легендарь, бродвеище и многие другие).Маяковского по праву считают мастером рифмовки. Преодолевая сложившиеся в поэзии традиции, он стремился использовать различные виды рифм:
усечённые («мозгу — лоскут», «тона — в штанах»); неточные («безумий — Везувий», «кофту — эшафоту»); составные («нежности нет в ней — двадцатидвухлетний») и другие.
Почти все его рифмы отличаются экзотичностью, то есть они не знакомы читателю, не всегда даже узнаваемы в качестве рифмы. Так, в стихотворении «Послушайте!» не сразу видна достаточно последовательная перекрёстная рифмовка, поскольку это немаленькое стихотворение состоит всего из четырёх четверостиший, каждая строка разбита на сегменты за счёт написания их «лесенкой».
Следует о — это новаторство Маяковского. Оно выражалось в том, что поэт разбивал стихотворные строки, каждое отдельное слово становилось как бы ступенькой (отсюда и название — лесенка), подсказывающей читателю остановку, как бы паузу для выделения смысла слова. Обычные знаки препинания казались поэту недостаточными. Это новшество осталось непривычным до сих пор, но оно оправдано, поскольку Маяковский считал, что стихи предназначены не только для чтения глазами, но и для произнесения вслух. «Лесенка» — это своеобразная подсказка исполнителю о темпе чтения, характере интонации, месте пауз.
Установкой автора на произнесение стихов объясняется и большое количество в них обращений, восклицаний и риторических вопросов («А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!»).
Преодоление традиций проявляется и в отбрасывании Маяковским старых законов мелодичности стихотворной речи. Он не стремится к милозвучности, как это делали поэты ХІХ в., а наоборот — создаёт стихи так, что они скрежещут, режут слух. Поэт как будто специально подбирает неблагозвучные слова: «Крепился долго, кургузый, шершавый…» («Мама и убитый немцами вечер»). Такая грубость поэтического материала обладает повышенной экспрессивностью и способствует созданию особого образа лирического герояпоэта, вождя уличных толп, певца городских низов.
Стихотворение в стиле Маяковского: реально ли это?
Автор: Валерий Градович ([email protected]) Дата публикации: 07/07/2002 Категория: Автор — Автору Комментировать Отправить статью по e-mail Версия для печати
Попробуем сочинить стихотворение в стиле В.В.Маяковского. Для этого обратим внимание на основные черты его стиля, благо, нет на земле ничего более индивидуального, чем «лесенка» Маяковского.
Первое, что необходимо обозначить — это лексический ряд поэта. Во-первых, он чрезвычайно широк, то есть использование редких слов, профессионализмов, неологизмов только приветствуется. Обязательно наличие сленга, но с соблюдением рамок приличия, ограничиваемого выражениями типа «сволочь», «проститутка», «хам». Обязательно присутствие таких свойственных элементов стиля «модерн»: лексический контраст, диссонанс, оксюморон, то есть нужно стремиться ставить рядом совершенно разнородные слова, чтобы получить наиболее необычные сочетания (как раз в этом, я считаю, заключается главный козырь творчества Маяковского).
Обратите внимание на смещение ударений в некоторых «трудных» словах. Оно делается не столько для сохранения ритмического рисунка, сколько для стилистической окраски (Маяковский сказал бы «для подкраски»): мол, пролетарию некогда вникать в эти буржуазные формальности с ударением.
Еще один момент, характерный для Маяковского — использование «импортных» выражений типа «гау ду ю ду», «бонжуры», «фатерлянд» или «Boulevard Raspail». Природа этого приема та же. В словах умышленно делаются ошибки (например, «менАджер»), чем выражается отвращение к заграничному языку и культуре, как к «несоветской», буржуазной.
Аллитерация у Маяковского встречается ярко выраженными фрагментами: если он задумал сыграть на звуке[р]
, то он играет на нем так, что стоит сплошной рокот. То же касается и звука
[с]
, и других «художественных» звуков.
Образование новых слов также поощряется (агитнуть, испешеходить, прозаседавшиеся, выкипячивать, народина, вызванивать). Делается это тогда, когда новосоставленное слово более четко передает смысл фразы.
Теперь переходим к «лесенке». Хотя на первый взгляд найти систему ее построения кажется трудной задачей, на самом деле все очень просто; даже проще, чем у «нормальных» поэтов: каждая ступенька у Маяковского предназначена для одного удара (шага). Поэтому каждый раз, когда вам необходимо совершить звонкий и/или гулкий шаг и приземлиться ступней своей ноги на то или иное слово — просто перенесите эту строку на новую ступеньку. Если же шага нет, а лишь перенесение центра тяжести — оставайтесь на этой ступеньке.
Еще. Постарайтесь добиться неравномерного, но четкого ритма: представьте, что вы шагаете по лестнице не равномерно, а беспорядочно, то есть иногда перешагивая через ступеньку, а иногда и через две.
Вот, в общем, и все основные правила сочинения стихов по-маяковски. Можно приступать к их написанию. Правда, здесь возникает вопрос, как начать стихотворение. Придерживайтесь правила: начать нужно как можно более неожиданно и резко. Чем более нестандартно вы начнете, тем лучше.
В итоге, если вы будете соблюдать вышеперечисленные правила, вы получите что-то вроде такого стихотворения:
Едва рассеется печали падаль, Прокашлявшись, Стальная ключица вспотеет вся И призадумается: «А надо ль?» В сутках токаря испаряется Перекуренная работа На план не смотрит даже, А вокруг все нахально насмехаются: «То-то!» -Не внимают Высшей фигуре пилотажа. Укорачивать переyчетом полдень будний, Как рулетку съеживать змеей Растащенный утехами промямлил нудно: «Дело головы не твоёй». Как высвистишь что больше Тому пролетарию — Нарисуется вдруг картина: С одной стороны, души в нем не чаю, А на реверсе все одно — скотина.
Ссылки по теме:
Набор сатирических средств
Сатира в творчестве Маяковского — один из популярных и распространенных приемов. Работая с ним, поэт использует широкий набор разнообразных средств. Любимейшим грозным оружием сатиру Маяковский сам называл неоднократно. У него была собственная кавалерия острот, героические рейды которой отразить не мог практически никто.
Одним из самых любимых приемов поэта был крайний гиперболизм. Гиперболизируя все вокруг себя, Маяковский создавал в своих стихах поистине фантастические явления. Этими гротескными приемами он пользовался еще в своих ранних творениях, которые называются «Гимны».
Еще он очень любил литературный шарж. В нем он сатирически подчеркивал недостатки описываемого субъекта, сгущал обличаемые им черты. Примером использования такой сатиры в стихах Маяковского являются «Монахини».
Был Маяковский не только поэтом. Сами сейчас убедитесь вы в этом!
19 июля исполнится 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Мы знаем его в первую очередь как автора хлестких, остроумных стихов. А ведь он был и на редкость одаренным художником!
Талант живописца у Маяковского проявился еще в семилетнем возрасте, во время учебы в кутаисской гимназии. Когда семья переехала в столицу, он поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. В 1911 — 1915 годах создал много работ — от смешных рисунков и шаржей до вполне профессиональных портретов. Писал пастелью, маслом, тушью, акварелью, углем, карандашом.
В годы войн и революций Маяковский рисовал плакаты, снабжая их стихотворными строками, — сначала для издательства «Сегодняшний лубок», а потом для «Окон РОСТА». Количество рисунков Маяковского исчисляется тысячами. А в послевоенное время он создал огромное число рекламных плакатов, этикеток и т. д.
С некоторыми работами юбиляра мы вас сейчас и познакомим.
Портрет-шарж «Репин И. Е.» 1915 год
В 1915 году стихи Маяковского произвели большое впечатление на живописца Илью Репина.
— Я напишу ваш портрет! — сказал великий художник, для любого это была большая честь.
— А я — ваш! — ответил Маяковский и быстро тут же, в мастерской, сделал с Репина несколько карикатур, которые вызвали большое одобрение художника.
— Какое сходство! И какой — не сердитесь на меня — реализм! — заключил Репин.
«Четыре рисунка-кадра»
«Окна РОСТА». 1921 год
Приемы народного лубка Маяковский стал использовать и в «Окнах РОСТА» — многокадровых рукописных плакатах, которые выпускало Российское телеграфное агентство (РОСТА). Они вывешивались на вокзалах или в окнах пустовавших в те годы магазинов.
За плакаты он получал 10 рублей в месяц. Этой суммы вполне хватало на такой рацион: 3 миски пшенной каши, 8 копченых угрей и порция конины для собаки.
Лубок
«Эх ты немец» 1914 год
В начале Первой мировой войны Маяковский сотрудничал с издательством «Сегодняшний лубок», которое выпускало лубки-плакаты и лубочные открытки, снабженные стихотворными подписями. Поэт не только рисовал плакаты и открытки, но и сочинял к ним тексты.
«Сидящая натурщица» 1911 год
На экзаменах в училище живописи обычно рисовали обнаженную фигуру и гипсовую голову. Давали по три часа на каждую работу. Экзамены продолжались шесть дней. Маяковский, придя с испытаний, сказал своему учителю Петру Калнину:
— Петр Иванович, ваша правда! Помните, как вы учили делать обнаженную натуру? Я начал от пальца ноги и весь силуэт фигуры очертил одной линией.
«Жираф на приеме у зубного врача» 1912 — 1913 годы
К жирафам у поэта была особая любовь. В начале XX века целый ряд его рисунков получил название «Жирафья серия». Жираф — образ и самого Маяковского, так его называли друзья. А как иначе, если двухметровый поэт частенько появлялся на публике в желтой кофте с черными манжетами и воротником? Рисунки отражали реалии его жизни: у Маяковского болели зубы, поэтому на одной из иллюстраций и появился «рвач» (так он сам называл зубных врачей), удаляющий жирафу зуб.
Только у нас!
Дочь великого поэта:
Мой отец не совершал самоубийства!
Неизвестные потомки Маяковского живут в Нью-Йорке.
Эллен Патрисия Томпсон просит называть ее Еленой Владимировной Маяковской. В Нью-Йорке ее мать, эмигрантка из России Елизавета Зиберт, была гидом и переводчиком Маяковского, приехавшего в 1925 году в США в командировку. Годом позже родилась Эллен. Кто ее настоящий папа, девочка узнала в 6-летнем возрасте и молчала об этом более полувека. Говорит, что мать до самой смерти просила ее не являть миру главную семейную тайну: «Она избегала всяких разговоров по поводу романа с Маяковским. Плюс я не хотела предательства по отношению к отчиму, который был замечательным человеком».
— Моего отца знают, помнят и любят не только в России. Вот пришло письмо из Буэнос-Айреса, в Аргентине, оказывается, тоже есть его почитатели.
— Почему его помнят?
— Быть может, не в последнюю очередь потому, что он был красивым мужчиной. Ну и, конечно, стихи. Ни до, ни после него никто так не писал.
— Почему он не остался в Америке с вашей матерью?
— Изъяви он желание остаться, его бы ликвидировал НКВД.
— Но, может быть, он так стремился в Россию из-за своей музы — Лили Брик?
— У меня сложное отношение к Лиле. Она была очень опытной женщиной и просто манипулировала моим отцом.
— Вы пытались установить контакты с Лилей или ее пасынком — исследователем творчества Маяковского Василием Катаняном?
— Как-то не сложилось. Говорят, что Лиля пыталась найти нас, но тщетно — отчим дал мне свою фамилию. Да я бы и не взяла у нее ни копейки. Все, чего я добилась в жизни, — я добилась сама. Даже без помощи своей великой фамилии. У меня замечательный сын, замечательный внук.
Но у меня есть миссия — это оправдание отца. Я хочу, чтобы все знали главное — Владимир Маяковский не совершал самоубийства! Он знал, что у него есть дочь, он стремился жить, жить ради меня и говорил своим друзьям, показывая на мою фотографию: «Это мое будущее!» Когда он понял, что его мечта об идеальном обществе неосуществима, то стал об этом говорить, перестал писать, и его ликвидировали.
Алексей ОСИПОВ (Наш соб. корр.) Нью-Йорк.
xHTML-код
19 июля исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского.Маяковский вошел в историю не только как великий поэт, но и как талантливый драматург, режиссер, киносценарист, актер, художник и рекламист
Особенности сатирического творчества Маяковского
Говоря о сатире Маяковского, многие сравнивают ее с издевательским свифтовским смехом. Также шокировал своих современников этот английских писатель в едких памфлетах.
Многими исследователями давно замечено, что чем чище и выше поэту представлялся идеал нового советского человека, о котором так мечтали власти, тем безжалостнее он обрушивался со всей силой на окружающую его пошлость и безвкусие. А также низменное хищничество и жадность.
Критики тех лет утверждали, что мещанство встретило в лице поэта Маяковского слишком сильного и кусачего врага. Сатира в произведениях Маяковского также часто обрушивается на неповоротливых и вороватых чиновников, на всеобщее хамство и подхалимство. Поэт категорически не переносил душевную заскорузлость в человеке, ее он называл «мыслительным лежанием на печи».
«О дряни»
Говоря о сатире Маяковского, можно привести в качестве яркого примера стихотворение «О дряни». В нем автор описывает классического мещанина, который как будто высовывается из-за спины РСФСР. Неподражаемый и запоминающийся образ товарища Нади.
Ее Маяковский описывает как женщину, у которой на платье эмблемы, а без серпа и молота нельзя показаться в свете.
Неприятие Маяковским мещанства похоже на то, как относится к этому классу Горький. Он его также ненавидит и высмеивает, разоблачает по любому поводу. Это происходит и в быту, и в искусстве, а также среди большого количества современной ему молодежи.
Подобные темы можно встретить в стихотворениях Маяковского «Даешь изящную жизнь», «Любовь», «Маруся отравилась», «Пиво и социализм», «Письмо к любимой Молчанова».
Ненависть к религиозному ханжеству
Маяковский как никто другой поднимал на смех религиозное ханжество. Также важную роль в его творчестве играли всевозможные литературные пародии. Например, в поэме «Хорошо!» он блестяще спародировал текст самого Пушкина.
Остроумная пародия, которую представляет на наш суд Маяковский, многократно усиливает эффект сатирического разоблачения, которого он добивается всеми способами. Сатира поэта всегда остра, она безупречно жалит и всегда остается оригинальной и неповторимой.
Присыпкин в будущем
Присыпкин тщательно готовится к предстоящему бракосочетанию. Для этого он покупает красную ветчину и красноголовые бутылки, ведь предстоит красное бракосочетание. Далее происходит целый перечень фантастических и невероятных событий, в результате которых Присыпкину удается дожить в замороженном виде до светлого будущего коммунистического общества.
Люди, которые встречают его в будущем, размораживают героя и с удивлением рассматривают человеческое существо, которое питается водкой, как отмечают они. Вокруг себя Присыпкин начинает распространять зловонные бациллы алкоголизма, начинает заражать всех окружающих худшими человеческими качествами, которые были присущи многим его современникам. Так, в сатирической форме Маяковский высмеивает подхалимство, а также излишнюю чувствительность, которую автор называет «гитарно-романсовой».
В этом обществе будущего Присыпкин становится уникальным экземпляром, для которого самое место в зоологическом саду. Его туда помещают вместе с клопом, который все это время был его неизменным спутником. Теперь он экспонат, на который специально ходят поглазеть.
В далеком 1926 году Владимир Маяковский написал большую статью «Как делать стихи?». На самом деле стихи можно заменить на что угодно и смысл останется таким же. Творчество — это не витание в облаках, а методический подход к использованию природного дара.
Выдержки из статьи (полный вариант — здесь)
Я хочу написать о своем деле не как начетчик, а как практик. Я не даю никаких правил для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила.
В сотый раз привожу мой надоевший пример-аналогию.
Математик — это человек, который создает, дополняет, развивает математические правила, человек, который вносит новое в математическое знание. Человек, впервые формулировавший, что два и два четыре, — великий математик, если даже он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом, — все эти люди — не математики.
80% рифмованного вздора печатается нашими редакциями только потому, что редактора или не имеют никакого представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия нужна. Редактора знают только — мне нравится или не нравится, забывая, что и вкус можно и надо развивать. Почти все редактора жаловались мне, что они не умеют возвращать рукописи, не знают, что сказать при этом.
Грамотный редактор должен был бы сказать поэту: Ваши стихи очень правильны, они составлены по третьему изданию руководства к стихосложению М.Бродовского (Шенгели, Греча и т.д.), все ваши рифмы — испытанные рифмы, давно имеющиеся в полном словаре русских рифм Н.Абрамова. Так как хороших новых стихов у меня сейчас нет, я охотно возьму ваши, оплатив их, как труд квалифицированного переписчика, по три рубля за лист, при условии предоставления трех копий.
Поэту нечем будет крыть. Поэт или бросит писать, или подойдет к стихам как к делу, требующему большого труда.
Новизна, конечно, не предполагает постоянного изречения небывалых истин. Ямб, свободный стих, аллитерация, ассонанс создаются не каждый день. Можно работать и над их продолжением, внедрением, распространением. Дважды два четыре само по себе не живет и жить не может. Надо уметь применять эту истину. Надо сделать эту истину запоминаемой, надо показать ее непоколебимость на ряде фактов. Поэзия начинается там, где есть тенденция.
По-моему, стихи «Выхожу один я на дорогу…» — это агитация за то, чтобы девушки гуляли с поэтами. Одному, видите ли, скучно. Эх, дать бы такой силы стих, зовущий объединяться в кооперативы!
Говорю честно. Я не знаю ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело. А если отрывки таковых метров и встречались, то это просто записанное по слуху, так как эти надоевшие мотивы чересчур часто встречаются — вроде: Вниз по матушке по Волге.
Я много раз брался за это изучение, понимал эту механику, а потом забывал опять. Эти вещи, занимающие в поэтических учебниках 90%, в практической работе моей не встречаются и в трех.
В поэтической работе есть только несколько общих правил для начала поэтической работы. И то эти правила — чистая условность. Как в шахматах. Первые ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать новую атаку. Самый гениальный ход не может быть повторен при данной ситуации в следующей партии. Сбивает противника только неожиданность хода. Совсем как неожиданные рифмы в стихе.
Какие же данные необходимы для начала поэтической работы?
Первое. Наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением. Социальный заказ.
Второе. Точное знание, или, вернее, ощущение желаний вашего класса (или группы, которую вы представляете) в этом вопросе, т.е. целевая установка.
Третье. Материал. Слова. Постоянное пополнение хранилищ, сараев вашего черепа, нужными, выразительными, редкими, изобретенными, обновленными, произведенными и всякими другими словами.
Четвертое. Оборудование предприятия и орудия производства. Перо, карандаш, пишущая машинка, телефон, костюм для посещения ночлежки, велосипед для езды в редакции, сорганизованный стол, зонтик для писания под дождем, жилплощадь определенного количества шагов, которые нужно сделать для работы, связь с бюро вырезок для пересылки материала по вопросам, волнующим провинции, и т.д. и т.п., и даже трубка и папиросы.
Пятое. Навыки и приемы обработки слов, бесконечно индивидуальные, приходящие лишь с годами ежедневной работы: рифмы, размер, аллитерации, образы, снижения стиля, пафос, концовка, заглавие, начертание и т.д. и т.д.
Например:
Социальное задание — дать слова для песен идущим на питерский фронт красноармейцам. Целевая установка — разбить Юденича. Материал — слова солдатского лексикона. Орудия производства — огрызок карандаша. Прием – рифмованная частушка.
Результат:
Милкой мне в подарок бурка
и носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга,
как наскипидаренный.
Новизна четверостишия, оправдывающая производство этой частушки, — в рифме носки подарены и наскипидаренный. Эта новизна делает вещь нужной, поэтической, типовой. Для действия частушки необходим прием неожиданной рифмовки при полном несоответствии первого двухстрочья со вторым. Причем первое двухстрочье может быть названо вспомогательным.
Как же делается стих?
Работа начинается задолго до получения, до осознания социального заказа. Предшествующая поэтическая работа ведется непрерывно. Хорошую поэтическую вещь можно сделать к сроку, только имея большой запас предварительных поэтических заготовок.
Например, сейчас (пишу только о том, что моментально пришло в голову) мне сверлит мозг хорошая фамилия господин Глицерон, пришедшая случайно при каком-то перевранном разговоре о глицерине. Есть и хорошие рифмы:
(И в небе цвета) крем
(вставал суровый) Кремль.
(В Рим ступайте, к французам) к немцам (там ищите приют для) богемца.
(Под лошадиный) фырк
(когда-нибудь я добреду до) Уфы.
Уфа
глуха.
Или:
(Окрашенные) нагусто
(и дни и ночи) августа
и т.д. и т.д.
Есть нравящийся мне размер какой-то американской песенки, еще требующей изменения и русифицирования:
Хат Харден Хена
Ди вемп оф совена
Ди вемп оф совена
Джи-эй.
Есть крепко скроенные аллитерации по поводу увиденной афиши с фамилией Нита Жо:
Где живет Нита Жо?
Нита ниже этажом.
Или по поводу красильни Ляминой:
Краска – дело мамино.
Моя мама Лямина.
Есть темы разной ясности и мутности:
1) Дождь в Нью-Йорке.
2) Проститутка на бульваре Капуцинов в Париже. Проститутка, любить которую считается особенно шикарным потому, что она одноногая, — другая нога отрезана, кажется, трамваем.
3) Старик при уборной в огромном геслеровском ресторане в Берлине.
4) Огромная тема об Октябре, которую не доделать, не пожив в деревне, и т.д. и т.д.
Все эти заготовки сложены в голове, особенно трудные — записаны. Способ грядущего их применения мне неведом, но я знаю, что применено будет все.
На эти заготовки у меня уходит все мое время. Я трачу на них от 10 до 18 часов в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточением на этом объясняется пресловутая поэтическая рассеянность. Работа над этими заготовками проходит у меня с таким напряжением, что я в девяноста из ста случаев знаю даже место, где на протяжении моей пятнадцатилетней работы пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, аллитерации, образы и т.д.
Записная книжка — одно из главных условий для делания настоящей вещи. Об этой книжке пишут обычно только после писательской смерти, она годами валяется в мусоре, она печатается посмертно и после законченных вещей, но для писателя эта книга — все.
У начинающих поэтов эта книжка, естественно, отсутствует, отсутствует практика и опыт. Сделанные строки редки, и поэтому вся поэма водяниста, длинна. Начинающий ни при каких способностях не напишет сразу крепкой вещи; с другой стороны, первая работа всегда свежее, так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни.
Только присутствие тщательно обдуманных заготовок дает мне возможность поспевать с вещью, так как норма моей выработки при настоящей работе это — 6-10 строк в день.
Поэт каждую встречу, каждую вывеску, каждое событие при всех условиях расценивает только как материал для словесного оформления. Раньше я так влезал в эту работу, что даже боялся высказать слова и выражения, казавшиеся мне нужными для будущих стихов, — становился мрачным, скучным и неразговорчивым.
Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности, сказал ей, что я не мужчина, а облако в штанах. Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, а вдруг это разойдется изустно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный, я полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха. Через два года облако в штанах понадобилось мне для названия целой поэмы.
С легкой руки Шангели у нас стали относиться к поэтической работе как к легкому пустяку. Есть даже молодцы, превзошедшие профессора. Вот, например, из объявления харьковского Пролетария (№ 256): Как стать писателем. Подробности за 50 коп. марками. Ст.Славянск, Донецкой железной дороги, почтовый ящик № 11. Не угодно ли?! Впрочем, это продукт дореволюционный. Уже приложением к журналу Развлечение рассылалась книжица «Как в 5 уроков стать поэтом».
Я думаю, что даже мои небольшие примеры ставят поэзию в ряд труднейших дел, каковым она и является в действительности.
Для делания поэтической вещи необходима перемена места или времени.
Точно так, например, в живописи, зарисовывая какой-нибудь предмет, вы должны отойти на расстояние, равное тройной величине предмета. Не выполнив этого, вы просто не будете видеть изображаемой вещи. Чем вещь или событие больше, тем и расстояние, на которое надо отойти, будет больше. Слабосильные топчутся на месте и ждут, пока событие пройдет, чтоб его отразить, мощные забегают вперед, чтоб тащить понятое время.
Перемена плоскости, в которой совершился тот или иной факт, расстояние — обязательно. Это не значит, конечно, что поэт должен сидеть у моря и ждать погоды, пока пройдет мимо время. Он должен подгонять время. Медленный ход времени заменить переменой места, в день, проходящий фактически, пропускать столетие в фантазии. Для легких, для мелких вещей такое перемещение можно и надо делать (да оно так и само делается) искусственно.
Хорошо начинать писать стих о первом мае этак в ноябре и в декабре, когда этого мая действительно до зарезу хочется. Чтобы написать о тихой любви, поезжайте в автобусе № 7 от Лубянской площади до площади Ногина. Эта отвратительная тряска лучше всего оттенит вам прелесть другой жизни. Тряска необходима для сравнения.
Время нужно и для выдержки уже написанной вещи. Все стихи, которые я писал на заданную тему при самом большом душевном подъеме, нравившиеся самому при выполнении, через день казались мне мелкими, недоделанными, однобокими. Всегда что-нибудь ужасно хочется переделать. Поэтому, закончив какую-нибудь вещь, я запираю ее в стол на несколько дней, через несколько вынимаю и сразу вижу раньше исчезавшие недостатки.
Это опять-таки не значит, что надо вещи делать только несвоевременные. Нет. Именно своевременные. Я только останавливаю внимание поэтов на том, что считающиеся легкими агитки на самом деле требуют самого напряженного труда и различнейших ухищрений, возмещающих недостаток времени.
Даже готовя спешную агитвещь, надо ее, например, переписывать с черновика вечером, а не утром. Даже пробежав раз глазами вечером, видишь много легко исправляемого. Если перепишите утром — большинство скверного там и останется. Умение создавать расстояния и организовывать время (а не ямбы и хореи) должно быть внесено как основное правило всякого производственного поэтического учебника.
Про ритм и слова
Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам. Так оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи, приходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова.
Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда, другие задерживаются, переворачиваются и выворачиваются по нескольку десятков раз, пока не чувствуешь, что слово стало на место (это чувство, развиваемое вместе с опытом, и называется талантом). Первым чаще всего выявляется главное слово — главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, подлежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного. Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется — не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до исступления. Как будто сто раз примеряется на зуб не садящаяся коронка, и наконец, после сотни примерок, ее нажали, и она села. Сходство для меня усугубляется еще и тем, что когда наконец эта коронка села, у меня аж слезы из глаз (буквально) — от боли и от облегчения.
Откуда приходит этот основной гул-ритм — неизвестно. Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорее всего — во мне. Ритм — основная сила, основная энергия стиха. Объяснить это нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество — это виды энергии. Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма и не заучивать чужие размерчики; ямб, хорей, даже канонизированный свободный стих — это ритм, приспособленный для какого-нибудь конкретного случая и именно только для этого конкретного случая годящийся.
Размер получается у меня в результате покрытия ритмического гула словами, словами, выдвигаемыми целевой установкой (все время спрашиваешь себя: а то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймется? и т.д.), словами, контролируемыми высшим тактом, способностями, талантом.
Сначала стих Есенину просто мычался приблизительно так:
та-ра-ра’/ра-ра’/ра, ра, ра, ра’,/ра-ра/
ра-ра-ри/ра ра ра/ра ра/ра ра ра ра/
ра-ра-ра/ра-ра ра ра ра ра ри/
ра-ра-ра/ра ра-ра/ра ра/ра/ра ра.
Потом выясняются слова:
Вы ушли ра ра ра ра ра в мир иной.
Может быть, летите ра ра ра ра ра ра.
Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной.
Ра ра ра/ра ра ра ра/ трезвость.
Десятки раз повторяю, прислушиваюсь к первой строке:
Вы ушли ра ра ра в мир иной, и т.д.
Что же это за ра ра ра проклятая и что же вместо нее вставить? Может быть, оставить без всякой рарары?
Вы ушли в мир иной.
Нет! Сразу вспоминается какой-то слышанный стих: Бедный конь в поле пал. Какой же тут конь! Тут не лошадь, а Есенин. Да и без этих слов какой-то оперный галоп получается, а эта ра ра ра куда возвышеннее. Ра ра ра выкидывать никак нельзя – ритм правильный. Начинаю подбирать слова.
Вы ушли, Сережа, в мир иной…
Вы ушли бесповоротно в мир иной.
Вы ушли, Есенин, в мир иной.
Какая из этих строчек лучше? Все дрянь! Почему?
Первая строка фальшива из-за слова Сережа. Я никогда так амикошонски не обращался к Есенину, и это слово недопустимо и сейчас, так как оно поведет за собой массу других фальшивых, не свойственных мне и нашим отношениям словечек: ты, милый, брат и т.д.
Вторая строка плоха потому, что слово бесповоротно в ней необязательно, случайно, вставлено только для размера: оно не только не помогает, ничего не объясняет, оно просто мешает. Действительно, что это за бесповоротно? Разве кто-нибудь умирал поворотно? Разве есть смерть со срочным возвратом?
Третья строка не годится своей полной серьезностью (целевая установка постепенно вбивает в голову, что это недостаток все трех строк). Почему эта серьезность недопустима? Потому, что она дает повод приписать мне веру в существование загробной жизни в евангельских тонах, чего у меня нет, — это раз, а во-вторых, эта серьезность делает стих просто погребальным, а не тенденциозным — затемняет целевую установку. Поэтому я ввожу слова как говорится.
Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Строка сделана — как говорится, не будучи прямой насмешкой, тонко снижает патетику стиха и одновременно устраняет всяческие подозрения по поводу веры автора во все загробные ахинеи. Строка сделана и сразу становится основной, определяющей все четверостишие, — его нужно сделать двойственным, не приплясывать по поводу горя, а с другой стороны, не распускать слезоточивой нуди. Надо сразу четверостишие прервать пополам: две торжественные строки, две бытовые, контрастом оттеняющие друг друга. Поэтому сразу, согласно с моим убеждением, что для строк повеселей надо пообрезать слога, я взялся за конец четверостишия.
Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной,
ра ра ра’ ра ра ра’ ра ра’ трезвость.
Что с этими строками делать? Как их урезать? Урезать надо ни бабы. Почему? Потому что эти бабы живы. Называть их так, когда с большой нежностью им посвящено большинство есенинской лирики — бестактно. Поэтому и фальшиво, потому и не звучит. Осталось:
Ни аванса вам, ни пивной.
Пробую пробормотать про себя — не получается. Эти строки до того отличны от первых, что ритм не меняется, а просто ломается, рвется. Перерезал, что же делать? Недостает какого-то сложка. Эта строка, выбившись из ритма, стала фальшивой и с другой стороны — со смысловой. Она недостаточно контрастна и затем взваливает все авансы и пивные на одного Есенина, в то время как они одинаково относятся ко всем нам. Как же сделать эти строки еще более контрастными и вместе с тем обобщенными? Беру самое простонародное:
нет тебе ни дна, ни покрышки,
нет тебе ни аванса, ни пивной.
В самой разговорной, в самой вульгарной форме говорится:
ни тебе дна, ни покрышки,
ни тебе аванса, ни пивной.
Строка стала на место и размером и смыслом. Ни тебе еще больше законтрастировало с первыми строками, а обращение в первой строке вы ушли, а в третьей ни тебе — сразу показало, что авансы и пивные вставлены не для унижения есенинской памяти, а как общее явление. Эта строка явилась хорошим разбегом для того, чтобы выкинуть все слога перед трезвость, и эта трезвость явилась как бы решением задачи. Поэтому четверостишие располагает к себе даже ярых приверженцев Есенина, оставаясь по существу почти издевательским. Четверостишие в основном готово, остается только одна строка, не заполненная рифмой.
Вы ушли, как говорится, в мир иной,
может быть, летите ра-ра-ра’-ра.
Ни тебе аванса, ни пивной –
Трезвость.
Может быть, можно оставить незарифмованной? Нельзя. Почему? Потому что без рифмы (понимаю рифму широко) стих рассыплется. Рифма возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держать вместе.
Обыкновенно рифмой называют созвучие последних слов в двух строках, когда один и тот же ударный гласный и следующие за ним звуки приблизительно совпадают. Так говорят все, и тем не менее это ерунда. Концевое созвучие, рифма — это только один из бесконечных способов связывать строки, кстати сказать, самый простой и грубый. Можно рифмовать и начала строк. Можно рифмовать конец строки с началом следующей. Можно рифмовать конец первой строки и конец второй одновременно с последним словом третьей или четвертой строки, и т.д. и т.д. до бесконечности.
В моем стихе необходимо зарифмовать слово трезвость. Первыми пришедшими в голову будут слова вроде резвость, например:
Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Может быть, летите… знаю вашу резвость!
Ни тебе аванса, ни пивной –
Трезвость.
Можно эту рифму оставить? Нет. Почему? Во-первых, потому, что эта рифма чересчур полная, чересчур прозрачная. Когда вы говорите резвость, то рифма трезвостьнапрашивается сама собою и, будучи произнесенной, не удивляет, не останавливает вашего внимания. Такова судьба почти всех однородных слов, если рифмуется глагол с глаголом, существительное с существительным, при одинаковых корнях или падежах и т.д. Слово резвость плохо еще и тем, что оно вносит элемент насмешки уже в первые строки, ослабляя, таким образом, всю дальнейшую контрастность. Может быть, можно облегчить себе работу, заменив слово трезвость каким-нибудь легче рифмуемым или не ставить трезвость в конце строки, а дополнить строку несколькими слогами, например: трезвость, тишь?.. По-моему, этого делать нельзя, — я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти всегда необычайна и, уж во всяком случае, до меня не употреблялась, и в словаре рифм ее нет.
Рифма связывает строки, поэтому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки. Взяв самые характерные звуки рифмуемого слово резв, повторяю множество раз про себя, прислушиваюсь ко всем ассоциациям: рез, резв, резерв, влез, врез, врезв, врезываясь. Счастливая рифма найдена. Глагол — да еще торжественный!
Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Пустота, — летите, в звезды врезываясь…
Ни тебе аванса, ни пивной —
Трезвость.
Разумеется, я чересчур упрощаю, схематизирую и подчиняю мозговому отбору поэтическую работу. Конечно, процесс писания окольнее, интуитивней. Но в основе работа все-таки ведется по такой схеме.
Первое четверостишие определяет весь дальнейший стих. Имея в руках такое четверостишие, я уже прикидываю, сколько таких нужно по данной теме и как их распределить для наилучшего эффекта (архитектоника стиха). Тема большая и сложная, придется потратить на нее таких четверостиший, шестистиший да двухстиший-кирпичиков штук 20-30. Наработав приблизительно почти все эти кирпичики, я начинаю их примерять, ставя то на одно, то на другое место, прислушиваюсь, как они звучат, и стараясь представить себе производимое впечатление. Имея основные глыбы четверостиший и составив общий архитектурный план, можно считать основную творческую работу выполненной.
Далее идет сравнительно легкая техническая обработка поэтической вещи. Надо довести до предела выразительность стиха. Одно из больших средств выразительности — образ. Не основной образ-видение, который возникает в начале работы как первый туманный еще ответ на социальный заказ. Нет, я говорю о вспомогательных образах, помогающих вырастать этому главному. Способы выделки образа бесконечны.
Затем идет работа над отбором словесного материала. Надо точно учитывать среду, в которой развивается поэтическое произведение, чтобы чуждое этой среде слово не попало случайно. Без всяких комментариев приведу постепенную обработку слов в одной строке:
1) наши дни к веселью мало оборудованы;
2) наши дни под радость мало оборудованы;
3) наши дни под счастье мало оборудованы;
4) наша жизнь к веселью мало оборудована;
5) наша жизнь под радость мало оборудована;
6) наша жизнь под счастье мало оборудована;
7) для веселий планета наша мало оборудована;

9) не особенно планета наша для веселий оборудована;
10) не особенно планета наша для веселья оборудована;
11) планетишка наша к удовольствиям не очень оборудована;
и, наконец, последняя, 12-я —
12) для веселия планета наша мало оборудована.
Я мог бы произнести целую защитительную речь в пользу последней из строк, но сейчас удовлетворюсь простым списыванием этих строк с черновика для демонстрирования, сколько надо работы класть на выделку нескольких слов.
Помните всегда, что режим экономии в искусстве – всегдашнее важнейшее правило каждого производства эстетических ценностей. Поэтому, сделав основную работу, многие эстетические места и вычурности надо сознательно притушевывать для блеска в других местах. Можно, например, полурифмовать строки, связать не лезущий в ухо глагол с другим глаголом, чтобы подвести к блестящей громкогромыхающей рифме.
К технической работе относится и интонационная сторона поэтической работы. Нельзя делать вещь для функционирования в безвоздушном пространстве или, как это часто бывает с поэзией, в чересчур воздушном. Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой этот стих обращен. В особенности важно это сейчас, когда главный способ общения с массой – это эстрада, голос, непосредственная речь. Надо в зависимости от аудитории брать интонацию убеждающую или просительную, приказывающую или вопрошающую.
Итог
Талмудисты поэзии, должно быть, поморщатся от этой моей книги, они любят давать готовые поэтические рецепты. Взять такое-то содержание, облечь его в поэтическую форму, ямб или хорей, зарифмовать кончики, подпустить аллитерацию, начинить образом – и стих готов.
Но это простое рукоделие кидают, будут кидать (и хорошо делают, что кидают) во все сорные корзины всех редакций. Человеку, который в первый раз взял в руки перо и хочет через неделю писать стихи, такому моя книга не нужна.
Моя книга нужна человеку, который хочет, несмотря ни на какие препятствия, быть поэтом, человеку, который, зная, что поэзия – одно из труднейших производств, хочет осознать для себя и для передачи некоторые кажущиеся таинственными способы этого производства.
Поэзия – производство. Труднейшее, сложнейшее, но производство.
Поделиться









