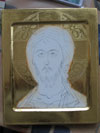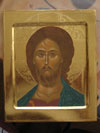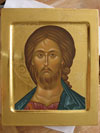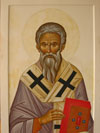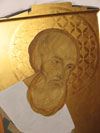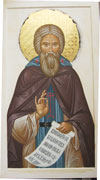Слайд 1
















Презентацию на тему «Православные иконы»
можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: МХК. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию.
Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад — нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 17 слайд(ов).
Слайды презентации
Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Люблю высокие соборы, Душой смиряясь, посещать, Входить на сумрачные хоры, В толпе поющих исчезать. Боюсь души моей двуликой И осторожно хороню Свой образ дьявольский и дикий В сию священную броню. В своей молитве суеверной Ищу защиты у Христа, Но из-под маски лицемерной Смеются лживые уста. И тихо, с неизменным ликом, В мерцанье мертвенном свечей, Бужу я память о двуликом В сердцах молящихся людей. Вот – содрогнулись, смолкли хоры, В смятенье бросились бежать… Люблю высокие соборы, Душой смиряясь посещать. Александр Блок
Слайд 5
Каждому христианину Бог дает Ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов, оберегает в час смерти. Ангел-хранитель – скорый помощник в любой нужде и болезни.
Ангел-хранитель
«Преуспевай в добродетелях, чтобы стать ближе в Ангелам»
Слайд 6
Николай Чудотворец – самый почитаемый и любимый святой на Руси. В III веке он был архиепископом города Миры в Ликии и ревностно защищал православную веру. Его доброта, милосердие, бескорыстие настолько твердо отпечатались в памяти людей, что он прославился по всему христианскому миру спустя сотни лет после своей жизни. Ему молятся о путешествующих, плавающих и пленных, просят о мире в семье, молятся в бедности и нужде. По молитвам этого святого воистину свершается невозможное.
Святитель Николай Чудотворец
Слайд 7
Святая блаженная Ксения Петербургская еще при жизни почиталась скорой помощницей и чудотворицей. Своим великим смирением, подвигом духовной и телесной нищеты, любви к ближним и молитвою получила Ксения благодатный дар прозорливости. Ей молятся в самых разных тяжелых житейских обстоятельствах.
Святая блаженная Ксения Петербургская
Слайд 8
На протяжении многих лет образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша», находящийся в Высоцком монастыре, достойно почитается православным народом как чудотворный. Перед этой иконой молятся об исцелении в основном от алкоголизма и наркомании.
Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
Слайд 9
На этой иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами, от чего икона получила название свое – «Семистрельная». Семь мечей, символизируют полноту печали и сердечной боли, которые были перенесены на земле Пресвятой Девой Марией. Икона почитается чудотворной. Ей молятся об умягчении сердец тех, кто приближается к вам со злыми, завистливыми помыслами, о защите от врагов и недоброжелателей. Когда молятся пред нею за врагов, то смягчают их враждебные отношения, уступая чувству милосердия.
Икона Божией Матери «Семистрельная»
Слайд 10
Это чудотворное явление Матери Божией произошло в Х веке в Константинополе. Когда храм был наполнен молящимися, святой блаженный Андрей и святой Епифаний, подняв глаза к небу увидели Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и святыми. Пречистая Матерь Божия со слезами молилась за христиан. Когда она закончила молиться, то сняла со Своей головы покрывало и распростерлп его над молящимися, защищая их от врагов видимых и невидимых.
Покров Пресвятой Богородицы
Слайд 11
Эта икона одна из самых почитаемых в России. Не раз она спасала от нашествия врагов. Народная молва приписывает ей благодать исцеления от слепоты и болезней глаз. Ею благословляют при вступлении в брак
Казанская икона Божией Матери
Слайд 12
Когда преподобный Иоанн Дамаскин, которому по клевете врагов отсекли руку, слезно молился перед иконою Божией Матери, отсеченная рука его срослась. В благодарность за исцеление Иоанн привесил к иконе серебрянное изображение руки, отчего она и получила свое название. К этой иконе молятся при болезнях рук, ног, душевном спокойствии, в тех случаях, когда в буквальном смысле не хватает рук.
Икона Божией Матери «Троеручица»
Слайд 13
Икона связана с историей о чудесном прощении грешника. Богородица заговорила с ним с иконы во время молитвы, и грешник уверовал в свое спасение, хотя грехи эти были слишком велики. К этой иконе обращаются даже тогда, когда уже не надеются ни на чью помощь. А также для исцеления недугов глухоты телесной и духовной.
Икона Божией Матери «Нечаянная радость»
Слайд 14
Один из самых известных и любимых русских святых. Великими подвигами благочестия он обрел дар прорицания и исцеления. Его мощи обитают в Дивеевском монастыре, куда беспрерывно проистекает поток страждущих и молящихся. К преподобному Серафиму прибегают с просьбой о стяжании любви к ближним, о даровании непрестанной молитвы, об исцелении от всяких болезней. Скоропослушник, истинная радость для христиан.
Святой преподобный Серафим Саровский чудотворец
Слайд 15
Святого целителя и великомученика Пантелеимона еще при жизни признавали великим целителем. Святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждующим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. К нему и по сей день обращаются с молитвами при разных болезнях.
Святой великомученик Пантелеимон целитель
Слайд 16
По преданию, написана евангелистом Лукой. В XIV веке икона таинственным образом исчезла из храма в Константинополе и явилась в России над водами Ладожского озера под Тихвином, где и сейчас находится. К этой иконе обращаются с молитвой об избавлении от нашествия врагов, молятся о прозрении слепых, исцелении бесноватых.
Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com
Подписи к слайдам:
Урок 15 Икона
Слово «икона» в переводе с греческого языка означает «образ». Библия говорит, что каждый человек – это образ Божий.
Икона заметно отличается от картины. Это потому, что задача иконы показать сокровенный мир души святого человека.
В Евангелии Свет – одно из имен Бога и одно из Его проявлений. Поэтому свет главное в иконе. Ни один предмет на иконе не отбрасывает тени.
Если иконописец хочет дать понять, что действие происходит внутри помещения, он все равно рисует это здание снаружи. Но поверх него или между зданиями набрасывает как бы занавес – велум (по латыни «парус»).
Золотой фон иконы иконописцы называют светом. Это символ бесконечного божественного Света.
Голову святого окружает золотой круг – нимб – знак Божьей благодати, которая пронизывает жизнь и мысли святого.
Нимб часто выходит за края иконного пространства. Это означает, что свет иконы струится в наш мир.
На иконе нет беспорядка. Даже складки одежды переданы прямыми и гармоничными линиями. Иконописец внутреннюю гармонию передает через гармонию внешнюю.
На иконе, в отличие от картины, нет заднего плана и горизонта. Икона, как яркий источник света, светит в мир, и в этом свете всякая земная даль становится невидимой.
Самое поразительное, что есть в иконе это лица (лики) и глаза. В ликах проступает мудрость и любовь. Глаза выражают радостопечалие.
Cлайд 1
Cлайд 2

Cлайд 3

Cлайд 4

Cлайд 5

Cлайд 6

Cлайд 7

Cлайд 8

Cлайд 9

Cлайд 10

Cлайд 11

Cлайд 12

Cлайд 13

Cлайд 14

Cлайд 15

«Икона Божьей Матери» — Презентацию подготовила: ученица 8 класса Артишевская Анастасия. православный праздник иконы Казанской Божьей Матери. Возвращение иконы в Россию. Местонахождение. Чудотворная икона Казанской Божьей Матери. История появления иконы. Последствия кражи.
«Сюжетные картины» — А. Иванов Явление Христа народу. Религиозно – мифологический жанр. 7 класс Учитель ИЗО: Тураева С. Ю. Исторический жанр. Родоначальниками жанровой живописи в России являются А. Г. Веницианов и И. П. Федотов. Пименов. Альтман. В. Верещагин «Апофеоз войны». Иван-царевич на сером Волке. Иван Билибин. В. Г. Перов Проводы покойника 1865 г.
«Натюрморт урок» — Натюрморт. Выполнения натюрморта. К. Петров – Водкин. Используем: Цветовой спектр. Ренуар «Розы и жасмин в дельфтской вазе». Машков, К. Петров – Водкин … Натюрморт лучше смотрится по возрастающей слева направо – как мы привыкли читать. Передача объема предметов. К. Моне. Составление натюрморта – акт творческий, в нем проявляются вкусы и склонности художника.
«Жанр натюрморт» — Композиция- в постановке натюрморта. Расположение предметов в натюрморте. Изображение предметного мира – натюрморт. Живопись. Древний Египет. Виллем-Клас Хеда А. ван Бейерен Завтрак с крабом Натюрморт с омаром. Натюрморт в теплой и холодной гамме. Натюрморт в видах изобразительного искусства. Дпи. Древний Рим.
«Искусство натюрморта» — Дерево, масло. 1631. Сарьян, А.Осмеркин, А.Герасимов. Дерево, масло. Э.Мане. Фрукты. Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Старая пинакотека. Т. Салахов Натюрморт с венским стулом. Виллем Клас Хеда. 1594 — между 1680 и 1682. П. Г. Богомолов (художник первой половины 18 века) Книги Холст, масло. 1737.
«Иконы» — Как создавались иконы в Древней Руси? После просушки левкас тщательно шлифовали, высушенным хвощем до мраморного блеску. Материалы. V Компьютер, мультимедиапроектор, слайды. Казанская Божия Матерь. Технология. Что такое икона? Андрей Рублев. Оборудование. «Нерушимая стена». Задачи: IV Плакат с планом конференции.
Всего в теме
6 презентаций
Слово «икона» греческого происхождения и означает – «образ», «портрет».
- В период формирования христианского искусства в Византии этим словом обозначалось всякое изображение Спасителя, Богоматери, святого, ангела или события в Священной Истории, независимо от того, было ли это изображение скульптурным, монументальной живописью или станковой, и независимо от того, какой техникой оно было исполнено.
Теперь слово «икона» применяется по преимуществу к моленной иконе, писанной красками, резаной, мозаической и т.п.
- Теперь слово «икона» применяется по преимуществу к моленной иконе, писанной красками, резаной, мозаической и т.п.
Православная Церковь постоянно уточняла свое искусство как в содержании так и в форме. При помощи красок, форм и линий нам раскрывается духовный мир человека. Красота здесь – красота внутренняя, духовная.
- Православная Церковь постоянно уточняла свое искусство как в содержании так и в форме. При помощи красок, форм и линий нам раскрывается духовный мир человека. Красота здесь – красота внутренняя, духовная.
Не все изображения изображение Спасителя, Богоматери, святого, ангела или события в Священной Истории можно назвать иконой.
- Не все изображения изображение Спасителя, Богоматери, святого, ангела или события в Священной Истории можно назвать иконой.
- Протоирей Сергий Булгаков так описал свое впечатление о «Сикстинской Мадонне Рафаэля: «Здесь — красота, лишь дивная человеческая красота, с ее религиозной двусмысленностью, но… безблагодатность. Молиться перед этим изображением: — это хула и невозможность! Красота Ренессанса не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, которое прикрывает пустоту, и улыбка его играет на устах леонардовских героев».
Икона – сама молитва. Она наглядно и непосредственно открывает нам ту бесстрастность (свободу от страстей), учит нас «поститься глазами». И действительно, «поститься глазами» невозможно ни перед каким другим образом, будь он беспредметным (абстрактым) или обычным
- Икона – сама молитва. Она наглядно и непосредственно открывает нам ту бесстрастность (свободу от страстей), учит нас «поститься глазами». И действительно, «поститься глазами» невозможно ни перед каким другим образом, будь он беспредметным (абстрактым) или обычным
Цель иконы – не в том, чтобы возбудить или усилить в нас то или иное естественное человеческое чувство. Икона не «трогательна», не чувствительна.
Цель её – направить наши чувства, ум и всю нашу человеческую природу на путь преображения, очищения нас от всякой экзальтации.
- Цель иконы – не в том, чтобы возбудить или усилить в нас то или иное естественное человеческое чувство. Икона не «трогательна», не чувствительна.
Цель её – направить наши чувства, ум и всю нашу человеческую природу на путь преображения, очищения нас от всякой экзальтации.
- Основные образа, занимающие центральное положение в богослужении: образ Спасителя Бога и образ Пресвятой Богородицы. Поэтому и первые иконы, появившиеся одновременно с христианством, суть иконы Христа и Богоматери.
Первые иконы Спасителя и Божией Матери
- Церковное Предание утверждает существование иконы Спасителя еще при Его жизни – это образ, который мы знаем под названием Нерукотворный Спас.
История этого образа сводится к следующему: Эдесский царь Авгарь. Больной проказой, послал ко Христу своего архивария-художника, прося Христа прийти в Эдессу и исцелить его. Христос, видя, что архиварий хочет написать Его портрет, умылся, вытер свой лик платком, и на этом платке отпечатался Его образ. Получив плат, Авгарь исцелился. Это сильно подействовало на распространение христианства среди жителей Эдессы. - Плат долго хранился в Эдессе как драгоценное сокровище города.
В 944 году византийские императоры выкупили Нерукотворный Образ у Эдессы. После разгрома Константинополя крестоносцами в 1204г. следы плата теряются.
Первые иконы Спасителя и Божией Матери
- Первые иконы Божией Матери церковное Предание приписывает святому Евангелисту Луке, который после Пятидесятницы написал их три
Первые иконы Спасителя и Божией Матери
- По церковному преданию, икону написал евангелист Лука на доске стола, за которым трапезничал Христос с Марией и Иосифом. Это тип иконы называется «Елеуса» («Умиление»). Здесь подчеркивается естественное человеческое чувство, материнская любовь и нежность. Это образ матери, глубоко скорбящей о предстоящих страданиях сына и в молчании переживающей их неизбежность.
- Владимирская икона Божией Матери
Первые иконы Спасителя и и Божией Матери
- Другой образ относится к типу «Одигрия» («Путеводительница»).
- Икона выражает уже не безграничную любовь, здесь центром композиции является Христос, обращённый к предстоящему (зрителю), Богородица же, также изображённая фронтально (или с небольшим наклоном головы), указывает рукой на Иисуса.
Авторство святого Евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее списками со списков) с икон, писанных когда-то Евангелистом
- Авторство святого Евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее списками со списков) с икон, писанных когда-то Евангелистом
- Тихвинская икона Божией Матери
- Казанская икона Божией Матери
- Троеручица (Трихейруса)
Первые иконы Спасителя и Божией Матери
- И, наконец, третья икона, по-видимому, изображала Богоматерь без Младенца. Четких данных об этой иконе нет. Вероятнее всего, это была икона типа «Оранта» («Молящаяся»). Изображение Богородицы в полный рост, с молитвенно воздетыми вверх руками. Богородица молится за весь род человеческий, и воздетые руки Оранты стали символом этой вечной, неостановимой, несущей миру надежду и защиту молитвы. На Руси такие изображения получили имя «Нерушимая стена».
Посредством иконной живописи (преп. Иоанн Дамаскин)
- Посредством иконной живописи «…мы созерцаем изображение телесного Его вида и чудес, и страданий Его, освящаемся и вполне удовлетворяемся, и радуемся, и считаем себя счастливыми (…)».
(преп. Иоанн Дамаскин)
- КОНЕЦ
Пытаясь наиболее ясно представить себе, что стоит за такими древнерусскими терминами, как мастер, писец, образописец, иконописец, более того, что вообще представляет собой понятие “творческая личность” в эпоху развитого Средневековья на Руси, мы прежде всего должны иметь в виду одну основополагающую для эстетики того времени идею. Она заключается в том, что в кругу понятий средневековой культуры о собственных своих истоках место ее зачинателя и главы безусловно принадлежало Самому Богу-Творцу, “Поэту Неба и земли”, как можно перевести Его имя в Никео-Константинопольском Символе веры, или “Началохудожнику”, “Первохудожнику” всего бытия, как называют Его некоторые древнерусские тексты, посвященные иконописанию. Поскольку же, утверждается в последних, Он Сам сотворил человека “по Своему образу и подобию” — как некую икону (греч. e„kиn ‘образ’), то Его как “образотворца” и следует считать первооткрывателем и изобретателем “иконной хитрости” (от хитрец ‘искусник, искусный мастер’), то есть искусства изображения, иконописи. Отсюда и в Византии, и в следовавшей византийской традиции Древней Руси всякий творческий акт, всякая художественная деятельность носили последовательно сакрализованный характер и были, по сути, священнодействием, а сами художники-иконописцы пользовались, почти наравне с клириками, особо подчеркнутым социальным пиететом.
Это прекрасно выражено в таком своего рода итоговом документе, связанном с оценкой роли иконописи в России, как известная “Грамота трех Патриархов” 1.
В “Грамоте”, в частности, утверждается, что искусство иконописи превосходит честью все другие искусства, как солнце превосходит планеты, как огонь — прочие стихии, а весна — другие времена года, как орел — всех птиц, а лев — всех зверей. Поэтому необходимо и естественно почитать искуснейших иконописцев особой честью и воздавать им по достоинству их, так как “иконный писатель” есть служитель Церкви и повествователь всяких священных и мирских историй и дел, превосходящий обычного писателя, пользующегося словом. Отсюда — практические следствия: запрещалось “укорять” художников в их деятельности, привлекать их, наравне с другими, к несению гражданских повинностей или же понуждать писать “простые вещи”, то есть выполнять художественные заказы на “мирские”, светские темы. Любые нарушения этих запретов были чреваты для виновных церковным и царским проклятием.
Главным основанием для столь подчеркнуто уважительного отношения к иконописцам и здесь являлось все то же уподобление их творчества “творчеству” Бога: честь, воздаваемая таким образом искуснейшим художникам, переходит на Творца, украсившего небо изображениями зверей (то есть знаками зодиака), покрывшего землю светлым одеянием, расцвеченным цветами, и создавшего “душу словесную” — человека как “великого мира малое изображение”.
Особое значение придавало искусству иконописи (а соответственно, и иконописцам) восприятие самого творческого акта как укорененного в древнем святоотеческом Предании Церкви, этого “Неба на земле”, и одновременно как чудесно являющего собой “нисхождение” этого же Неба на грешную землю. Первое подтверждалось тем, что “начальным” христианским художником всегда почитался сам святой апостол Лука, создавший образцовые изображения Богоматери (прямо “с натуры”); второе — тем, что в православной культурной традиции само творческое вдохновение осознавалось как помощь свыше. Недаром, как свидетельствует ряд агиографических текстов, и песнописцам и иконописцам в их трудах нередко помогали небесные силы — Ангелы и Архангелы. Иногда прекраснейшие песнопения Церкви так и воспринимались — как подаренные нам самим Небом. Вспомним здесь хотя бы историю песни в честь Богородицы — “Достойно есть”, когда, по преданию, афонскому иноку явился небожитель — сам архангел Гавриил — и после пения перед келейной иконой (в будущем — прославленного образа Божией Матери “Достойно есть”) чудесных слов этого гимна начертал их за неимением хартии и чернил перстом на камне!
То, что и на Руси чудесная сила и церковного слова, и православного образа в известной мере ощущалась как запечатленная Божественной Истиной и как дар свыше, нашло ясное выражение уже в памятниках литературы Древнего Киева — и в проповедях святителя Кирилла Туровского, и на многих страницах известного Киево-Печерского Патерика. В Патерике, в частности, имеется небольшой рассказ о помощи прославленному печерскому иноку-иконописцу преподобному Алипию Ангела в написании им уже перед самой смертью местной чудотворной иконы Успения Божией Матери, “сияющей светлее солнца”. Заболев, Алипий не мог в срок закончить икону; заказчик же “стал докучать блаженному”. И вот, повествуется в Патерике, “явился некий юноша светлый” и, взяв кисть, начал писать икону. Алипий подумал, что заказчик иконы разгневался на него — замешкавшегося по болезни инока — и вот теперь прислал другого иконописца (потому что тот выглядел как обычный человек), и лишь быстрота, с какой он работал, показала, что он бесплотен. “То он золотом покрывал икону, то на камне краски растирал и писал ими, и за три часа написал он икону и сказал: «О калугер 2! Не хватает ли чего-нибудь или в чем-нибудь я ошибся?». Преподобный же сказал: «Ты хорошо поработал. Бог помог тебе столь искусно написать эту икону, и через тебя создал ее». Настал вечер, и юноша стал невидим…”. На следующий день “боголюбец”-заказчик, обнаружив новонаписанный образ в храме, пришел вместе с печерским игуменом к уже умиравшему Алипию, и “спросил его игумен: «Отче, как и кем написана была икона?». Он же рассказал им все, что видел, говоря: «Ангел написал ее, и вот он стоит возле меня и хочет меня взять с собою». И сказав это, испустил дух” 3.
Подобные исторические предания подчеркнуто символического характера были тем более естественны для культурного контекста Руси, что для нее всегда само собой разумелось: иконы создаются при самой непосредственной и обязательной Божественной помощи. Недаром или Сама София-Премудрость Божия или же Ее посланник-Ангел бывают зачастую представлены на иконах и книжных миниатюрах, изображающих момент боговдохновенного творчества святых Евангелистов, записывающих новозаветные тексты, или святого апостола Луки, пищущего икону Богоматери.
Православная идея о “соработничестве”, сотрудничестве небожителей, более того, благодати Самого Святого Духа с мастерами есть творческая истина Церкви; не потому ли и ощущается нами в древних иконах не только их “внешняя”, земная красота, но и красота “внутренняя”, “небесная”, вся их необычайная духовная мощь? Не потому ли и те Божественные энергии, о которых учит святитель Григорий Палама, так часто, судя по летописям и другим историческим свидетельствам, проявлялись через иконы то в актах экзорцизма — изгнания бесов, то в поистине чудесных случаях помощи больным и страждущим?
Именно как то место, где Небо встречается с землей, как неиссякаемый источник Божественной благодати и воспринимали икону на Руси. И потому неудивительно, что в некоторых древнерусских сказаниях даже сама кисть иконописца порой обретала целительные свойства, а художник оказывался вдруг наделенным талантом врача. Так, в том же “Киево-Печерском Патерике” имеется еще один рассказ о преподобном Алипии — как раз на эту тему. Некий богатый житель Киева заболел проказой “за неверие свое”. И вот, образумившись, он пришел с покаянием к Алипию, который, “много поучив его о спасении души, взял <…> кисть и разноцветными красками, коими писал иконы, раскрасил лицо больного <…> придав прокаженному прежний вид и благообразие. Потом привел его в Божественную церковь Печерскую, дал ему причаститься Святых Таин и велел ему умыться водой, которой умываются священники, и тотчас спали с него струпья, и он исцелился. Смотри, каков разум блаженного <…> не только очистил его от телесной, но и от душевной проказы” 4. За этим весьма живописным рассказом без труда усматривается характернейшая черта отношения древнерусского общества к иконописцу как к исполненному Божественной благодати (хотя бы в идеале!) духовному врачу, исцеляющему своей кистью (а тем более своими, освященными Церковью, иконами) уязвленную, искаженную грехом человеческую душу, как бы возвращая ей ее изначальный Божественный — а отсюда и человеческий — образ.
На Руси иконописец — это “философ”, мудрец, “неусыпный” ученый, духовный целитель, “вития”-проповедник, проповедующий “писанием” (то есть живописью) иконным. Потому-то иконы здесь порой создавались даже представителями епископата. Среди них — такие известные церковно-культурные деятели, как Митрополиты Московские: святитель Петр (XIV в.), святитель Макарий и святитель Афанасий (XVI в.), которые “многие святые иконы писали чудотворные” (“Сказание о святых иконописцах” 5; иконописцем был и святитель Феодор, архиепископ Ростовский, племянник преподобного Сергия Радонежского, чью икону, как известно, он написал. Неудивительно поэтому, что та же “Грамота трех Патриархов” приравнивает достоинство иконописца к достоинству царскому, задавая такой риторический вопрос: почему не привести в пример царей и первейших князей, не гнушавшихся искусством как делом неприличным своему достоинству, но почитавших за величайшую честь для себя держать в правой руке не только скипетр, но и кисть живописца, напоенную различными красками? Наконец, там же утверждается, что художник может стяжать “похвалу иконною кистию” не меньшую, чем “прочие мечем и копием острым” 6. Всё это приводило к тому, что наиболее прославленные иконописцы пользовались на Руси немалым общественным весом и достаточно независимым материальным положением, а их согласия на выполнение творческих заказов добивались — нередко не без труда — даже удельные князья и местные епископы. Разумеется, обладание и пользование такими высокими правами накладывало на самих средневековых иконописцев определенные, и притом весьма жесткие, ограничения как духовно-нравственных, личностных, так и собственно художнических, творческих обязанностей.
В некоторых древних текстах, включавшихся иногда в так называемые “иконописные подлинники” 7, иконописец порой сравнивается со священником; так, в одном из “подлинников” присутствует следующее весьма примечательное высказывание: “как священник, служа, составляет Божественными словесами Плоть (то есть евхаристическое Тело Христово — Ю. М.), Которой мы причащаемся во оставление грехов”, так и “иконописец вместо словес начертывает и изображает плоть и оживляет” ее, воплощая в иконе те образы, “которым мы покланяемся из любви” к “первообразам” 8. Иначе говоря, в идеале иконописец есть почти подобный священнику творец образно-символической “художественной плоти”, в которую и облекает он являемую им Богочеловеческую плоть, то есть воплощенную Ипостась, или Личность, Богочеловека Иисуса Христа. Ведь за богоподобным художественным образом всегда стоит его Божественный Первообраз, Которому мы и причащаемся через наше зрение — равным образом физическое и духовное.
Однако передать средствами искусства любой священный “первообраз” без особых искажений может лишь нравственно чистая и ответственная, но в то же время независимая, внутренне свободная личность. Поэтому иконописцу, — поучает тот же “подлинник”, — подобает быть “чистым или жениться и по закону жить”, подобает быть, как и священнику, “свободным, а не работным (не являться чьим-либо рабом, или «крепостным», равно как и не заниматься каким-нибудь посторонним ремеслом — Ю. М.) <…> и жить добродетельно”, а если иконописец будет “не художно” создавать образы, то взять с него обещание впредь не писать икон “и учиться иному рукоделию” 9.
Но как за священником всегда наблюдал местный епископ, точно так же и иконописец был обязан пребывать под началом и трудиться под бдительным присмотром епископа. Именно епископа и должен был признавать мастер духовным возглавителем своего творчества, так что без его благословения и постоянного надзора он вовсе не мог заниматься художеством.
Подобный надзор со стороны церковной власти имел двоякую цель. С одной стороны, он в известной мере способствовал нравственной чистоте и духовному росту православных художников, что обеспечивало и необходимую долю религиозно-творческой состоятельности иконописцев. С другой, он исключал всякие излишества творческого индивидуализма, несовместимого со строго каноничной регламентированностью единой (образно-символической и формально-художественной) системы иконописи. Такой епископский надзор, пусть и достаточно жесткий, обеспечивал как неизменность самой структуры художественных канонов, так и незыблемость догматических основ церковного искусства в целом.
Определенно подчиненное (с учетом иерархии общецерковных духовных ценностей) положение художника в системе православной культуры было ясно выражено в постановлениях VII Вселенского собора, где сказано, что “иконы создаются не изобретением живописца, но в силу ненарушимого закона и Предания Вселенской Церкви” и что “сочинять и предписывать есть дело не живописца, но Святых Отцов” — им “принадлежит право композиции икон, а живописцу — одно только их исполнение” (как часть техническая, то есть рисунок, колорит, внешняя, почти “механическая” работа). По сути, именно вследствие подобной весьма ригористично выраженной позиции епископата (хотя реальная жизнь отстояла от нее довольно далеко) и существовали сборники графических прорисей-“переводов” в виде иконописных “подлинников” с почти стандартными композициями на любые христианские темы. При таком ортодоксальном фундаментализме средневекового религиозного искусства любой иконописец — от ремесленника до гения — неизменно сознавал себя прежде всего послушным орудием в руке Божией, смиренным служителем Божиим, выразителем не столько личной художественнной идеи, сколько святоотеческого, соборного разума Вселенской Церкви. Этим восприятие художником самого себя как творческой личности кардинально отличалось от подчеркнуто автономной, сугубо авторской художнической позиции, присущей западно-европейским мастерам культуры, в особенности периода развитого и позднего Средневековья. Напротив, на христианском Востоке сама Церковь являлась субъектом православного искусства (оставаясь одновременно и его объектом!), в силу чего она оказывалась залогом и хранительницей внутренней подлинности любого творческого акта, совершаемого в ее недрах (даже самого вдохновения как такового), духовной незамутненности творчества “стихиями мира сего”. Недаром святитель Симеон Солунский (XV в.) писал в своем “Диалоге против ересей”: “Изображай красками согласно Преданию; это есть живопись истинная, как писание в книгах, и благодать Божия покоится на ней, потому что изображаемое свято” 10.
Для древнерусского иконописца известные индивидуалистические понятия: “я так вижу”, “я так чувствую и понимаю” — были полностью исключены. Творческая свобода художника осознавалась не как беспрепятственное выражение его личности, его Я, а как освобождение от мирских страстей, иначе говоря, это была та свобода, о которой говорил еще святой апостол Павел: “Где Дух Господень, там свобода” (2 Кор 3:17). Иконописный канон и являлся на пути к ней единственным руководящим началом.
Канон “есть та форма, в которую Церковь облекает подчинение воли человеческой воле Божией, их сочетание, и эта форма дает личности фактическую возможность не быть в подчинении у своей греховной природы (Причем эта же характеристика последней с православной точки зрения покрывает собой и природу художественную, творческую. — Ю. М.), а овладеть ею, подчинить ее себе, быть «господином своих действий и свободным» (преподобный Иоанн Дамаскин) <…> Этим путем максимально осуществляется свободное творчество человека, источником питания которого становится благодать Духа Святого. Поэтому только церковное творчество есть прямое участие в Божественном акте, действие в полной мере литургическое, а потому наиболее свободное.
Степень литургического качества искусства пропорциональна степени духовной свободы художника” 11.
Непременное и непрекращающееся из века в век следование иконописцев Священному Преданию, каноническим правилам, естественно, создавало совсем особое искусство, которое, отнюдь не будучи полностью имперсональным и тем более сколь-нибудь безликим (любая икона в художественном смысле всегда индивидуальна), стремилось, однако, к сознательной анонимности как к знаку “творческого смирения”. Отсюда — почти полная безымянность древнерусской иконописи, по крайней мере, до конца XVI в. (мастера, как правило, не подписывали своих имен на иконах).
В таком каноничном, соборном искусстве личность художника могла раскрыться, в основном, лишь за счет нюансировки и акцентрирования им отдельных элементов общепринятой эстетической системы, в которой был абсолютно недопустим произвольный полет фантазии. Индивидуализировать это искусство было чрезвычайно трудно, и тем не менее, как показало многовековое развитие древнерусской живописи, истинному таланту, истинному художественному творчеству иконописный канон отнюдь не служил помехой в раскрытии личной творческой индивидуальности. Как метко подметил один из первых исследователей духовного смысла иконописи отец Павел Флоренский, “трудные канонические формы во всех областях искусства всегда были оселком, на котором ломались ничтожества и заострялись настоящие дарования” 12. Истинному художнику было достаточно сделать ряд сознательных, пусть и небольших, отступлений от традиционного образца, чтобы тот получил в новом произведении на ту же привычную тему совершенно новое звучание, а порой и значительно обогащенное внутреннее содержание, как бы повернутое к зрителю неведомыми до того гранями. Живое, самое непосредственное человеческое чувство всегда проступает в иконе сквозь жесткий канон; любая переданная в ней сцена, любой иконописный образ неизбежно окрашены личным мироощущением художника — тем особым глубоким чувством, издревле присущим русскому человеку, которое Н. Гоголь некогда определил как “необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума” 13.
Но не только живое чувство и живая вера являлись исходными составляющими всякого произведения иконописи; и в иконе, и в стенных росписях, и в книжных миниатюрах наряду с устойчивой “евангельской” иконографией нередко отражались и отдельные элементы окружавшей художника исторической действительности. Мы встречаем порой в древнерусских памятниках и изображения реального быта (в житийных сценах), и архитектурные сооружения того времени, и даже сцены христиански осмысляемой иконописцем российской истории — как церковной, так и светской.
Хотя Церковь запрещала творить художникам “от самомышления” (то есть по собственному воображению) и писать образы Христа, Богоматери и святых, используя “натурные модели”, как это было характерно для западно-европейского искусства, все же и на Руси порой проявлялось (ради желания исторической точности) стремление к созданию икон местных святых с использованием или натуры, или хотя бы описаний внешности, даваемых знавшими их лицами. На протяжении XIV–XVI столетий известно несколько случаев создания “портретных” икон (и “по памяти” очевидцев, и “с натуры”), например, таких прославленных подвижников, как преподобные Сергий Радонежский, Пахомий Нерехтский, Кирилл Белозерский (его “еще живу сущу” написал преподобный Дионисий Глушицкий; ныне эта икона хранится в Третьяковской галерее), Нил Сорский. Иногда художники даже создавали иконы после обретения нетленных мощей святых: так, в житии святого XV в. преподобного Георгия Шенкурского сообщается, что представитель царя Ивана III Михаил Хворостинин “раскопал и невридимыми обрел” мощи Георгия и повелел, “на него смотря, написать образ святого” 14. Некоторые иконы святых писались после явления последних художнику в “сонном видении” — так был написан в начале XVI в. образ преподобного Евфросина Псковского, причем истинность новонаписанной иконы была подтверждена совпадением изображенного на ней лика с обнаруженным вскоре же прижизненным портретом подвижника, сделанным “на хартии” неким местным иконописцем Игнатием 15.
То, что каноничность художественных форм иконописи отнюдь не мешала проявлению в ней творческой личности любого истинно талантливого художника, подтверждают многие страницы культурной летописи Древней Руси. Вспомним хотя бы таких прославленных мастеров XIV–XV вв., как Феофан Грек, преподобный Андрей Рублев или же мастер рубежа XV–XVI столетий Дионисий с сыновьями Феодосием и Владимиром. Все они не только с необычайной яркостью и полнотой отразили в своих творческих биографиях основные духовно-религиозные и эстетические тенденции древнерусской живописи, но и воплотили в себе самые характерные типы православного иконописца вообще. В этом смысле весьма показательны письменные свидетельства о них современников и тех церковных писателей, которые пытались дать им оценку позже — в назидание всем художникам Древней Руси.
Так, тип мастера страстного (при всем прокламируемом им духовном бесстрастии изображаемых святых), мастера импульсивного, энергичного являет нам великий Феофан Грек (втор. пол. XIV– нач. XV в.).
Динамичный, непривычно экспрессивный для северян характер Феофана (обрусевшего грека), гениальная спонтанность его творчества, внутренняя свобода его личности — притом полностью воцерковленной — настолько, по-видимому, поражали современников, что известный писатель начала XV в. Епифаний Премудрый даже счел необходимым особо рассказать о встречах с ним в послании к некоему Кириллу Тверскому. Епифаний с восторгом пишет о Феофане: “Когда я был в Москве, жил там и преславный мудрец, философ очень искусный, Феофан Грек, книг изограф (художник, миниатюрист — Ю. М.) опытный и среди иконописцев превосходный живописец <…> когда он <…> рисовал или писал, никто не видел, чтобы он когда-либо смотрел на образцы, как делают это некоторые наши иконописцы, которые от непонятливости постоянно в них всматриваются, переводя взгляд оттуда-сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на образцы. Он же, кажется, руками пишет изображение, а сам на ногах, в движении, беседует с приходящими, а умом обдумывает высокое и мудрое, острыми же очами разумными разумную видит доброту (то есть красоту — Ю. М.) <…> дивный и знаменитый человек” 16.
Другой тип художника, исполненного истинно монашеского духа смирения и внутренней гармонии, представляет преподобный Андрей Рублев (ок. 1360 — ок. 1427), который вместе со своим учителем и другом Даниилом Черным находил источник творческого вдохновения в углубленной созерцательной молитве, в постоянной беседе с Богом.
Как пишет о нем преподобный Иосиф Волоцкий в известном “Сказании о Святых Отцах” (1-я глава из “Устава Иосифова монастыря”, нач. XVI в.), оба инока постоянно устремляли свои души “в горняя”, “чтобы сподобиться Божественной благодати и только преуспевать в Божественной Любви, чтобы никогда не пребывать в земном, но всегда ум и мысль возносить к Невещественному и Божественному Свету; чувственное же око всегда возводить к написанным вещественными красками изображениям Владыки Христа и Пречистой Его Богоматери и всех Святых. Так и в самый праздник Светлого Воскресения Христова на седалищах сидели и, имея пред собою Божественные и всечестные иконы, на них неуклонно взирали, исполняясь Божественной радости и светлости. И не только в тот день так творили, но и в прочие дни — когда не занимались живописанием” 17.
Наконец, еще один тип древнерусского иконописца представляет Дионисий, трудившийся почти на столетие позже преподобного Андрея.
Хотя в своем творчестве Дионисий все еще пытается следовать путем великого предшественника, сам он — уже человек относительно новой формации — “свободный художник”, постоянно разъезжающий по Руси для выполнения различных заказов. При всей его верности традиционным иконописным канонам, при всей его необычайной одаренности и личном мастерстве, сказавшемся в особом изяществе его художественного стиля, это уже более мирской по духу и мастер и человек, причем не лишенный даже некоторого гедонизма. Недаром в его биографии имел место почти анекдотический, — но, по сути, исполненный, как говорили в старину, приточного (от церк.-слав. притча) смысла, — прискорбный случай нарушения им поста при выполнении заказа в монастыре преподобного Пафнутия Боровского (художники, трудившиеся здесь, этим правилам, естественно, должны были подчиняться). Преступив заповедь настоятеля обители, мастер вместе с помощниками однажды попытался потихоньку поужинать в монастырских стенах “скоромным” — запеченной с яйцами бараньей ногой, но, как повествует средневековый автор Жития преподобного Пафнутия, пища оказалась вдруг испорченной, а сам Дионисий в наказание тут же заболел “лютым недугом” — не мог сдвинуться с места, и на него “напала чесотка”; лишь немедленно покаявшись перед преподобным Пафнутием, он встал утром полностью здоровым. Совершенно немыслимо представить, чтобы подобное случилось с преподобным Андреем Рублевым.
Хотя Дионисий и смирял свой несколько излишне свободомыслящий дух работой в многочисленных монастырях Руси, это вообще уже представитель иной эпохи, более огосударствленной, более регламентированной и этикетной. Он всегда блестящий художник-эстет, порой — художник-духовидец (хотя второе — реже). По существу же, это последний значительный представитель великой древнерусской иконописной традиции: лишь в следовании ей он и находит твердую опору для своего (иногда, быть может, даже слишком изысканно-рафинированного) искусства; он нередко еще стремится воспроизводить лучшие художественные образцы прошлого, но, однако, уже не всегда сам является тайнозрителем откровений Святого Духа, какими неизменно оставались в своем творчестве Феофан и преподобный Андрей.
Русь получила от Византии не только православную художественную систему, единый иконописный канон, но и общие принципы организации самого иконописного дела.
Первоначально, с конца X в., группы фрескистов и иконописцев возглавлялись здесь, по большей части, пришлыми византийцами-греками в артелях, или “дружинах”, в которых русские художники выполняли роль учеников-подмастерьев. Но уже с XII–XIII вв. на Руси первостепенную роль играют собственные местные мастера (в Киеве, Новгороде, Пскове, во Владимиро-Суздальском княжестве), причем все чаще и последовательнее ими применяется традиционный для Средневековья артельный метод работы — с разделением по профессиональным признакам: глава такой артели (начальник, старейшина), как правило, определял общие композиционные принципы стенописи или иконного храмового комплекса (порой — даже отдельной иконы), он же намечал общий рисунок-“графью”; члены дружины писали фоновые части или же золотили их, передавая “Божественный свет” горнего мира (такие фоны и назывались свет, света), они же обычно писали здания, одежды, драпировки и различные второстепенные детали. Затем главный мастер поправлял, уточнял всё написанное и завершал работу выполнением самой ответственной части — личного письма, то есть всех обнаженных участков человеческого тела, а главное — лиц, или ликов. Судя по летописным свидетельствам и результатам искусствоведческих исследований, над сравнительно малыми по площади храмовыми росписями могли работать два-три-четыре стенописца, а при очень крупных работах — до пятнадцати-двадцати художников (когда объединялись несколько ведущих мастеров со своими учениками) и даже гораздо больше 18!
В крупных местных мастерских подобный же принцип “соборного” творчества действовал и в отношении иконописи: в них могли писаться одновременно десятки икон (иногда — даже с набором одних и тех же повторяющихся сюжетов), в которых определенный член артели из года в год выполнял только свою часть: одежды, архитектурные сооружения, пейзажные фоны, а ведущий мастер определял композицию, делал рисунок — знаменил икону и писал затем главным образом только личное.
При артельном подходе к иконописанию именно характер художественных вкусов, характер творческой личности главного мастера и определял лицо всей артели. Поэтому в музейной и искусствоведческой практике с полным основанием употребляются ныне такие понятия (связанные с именами наиболее прославленных мастеров), как “мастерская” или, даже более широко, “школа” Феофана, Рублева, Дионисия, в какой-то степени — Ушакова. В свою очередь, группы художников, объединявшихся (в силу приверженности их к какому-либо стилевому направлению) вокруг того или иного мастера, существовали внутри более крупных региональных образований с достаточно четко выраженными местными стилистическими особенностями — то есть таких “школ”, как, например, московская, тверская, новгородская, псковская. Непременно в рамках местных школ действовали все иконописные и книгописные мастерские, имевшиеся или при монастырях (монастырские), или при епископиях (владычные, митрополичьи), при удельных князьях (княжеские) и при великом князе Московском (великокняжеская мастерская). Во второй половине XVI столетия, с ростом абсолютизма в России и утверждением в ней института царской власти, в Москве возникает царская мастерская, где по государевым заказам создавались тысячи икон и украшенных великолепными миниатюрами рукописных книг.
На Руси повсеместно существовали также небольшие городские и даже сельские иконописные мастерские, принадлежавшие мастерам-одиночкам, у которых порой трудилось несколько учеников (иногда — дети самого мастера); хотя такие “иконники” обычно бывали художниками, что называется, средней руки, они вполне удовлетворяли потребности местного населения в иконе.
Все эти школы, артели, мастерские создавали огромное количество икон. Насколько впечатляющими были масштабы иконописной деятельности на Руси в XVI–XVII столетиях (не в последнюю очередь благодаря поддержке со стороны государства), свидетельствует хотя бы такой факт: лишь в хранилище царя Алексея Михайловича имелось около десяти тысяч (!) икон, а в некоторых отдельных соборах столицы количество их достигало трех тысяч в каждом.
При этом следует подчеркнуть, что ни государство, ни общество в целом никогда не скупились на благоукрашение храмов и монастырей; епископиями, митрополитами и хозяйственными подразделениями “государева двора” закупались и заготавливались огромные количества необходимых материалов для живописных работ: известь для стенописей, деревянные доски для икон, минеральные и растительные краски, скипидар, отбеленный воск, конопляное и льняное масла для предохраняющего покрытия живописи, яйца для связующих составов, щетина для кистей, золото для “фонов”. Поэтому художественные работы были необычайно дороги. К тому же весьма значительные суммы и натуральные продукты отпускались из государственной и церковной казны для уплаты художникам, ибо их труд ценился порой очень высоко. Так, например, в одной из летописей 19 особо отмечается, что за создание иконного деисусного чина для Успенского собора Московского Кремля Дионисий с помощниками получил плату в 100 рублей — а за 20 рублей в те времена можно было приобрести деревню с большим участком земли!
Такие затраты на иконописание вполне объяснимы, поскольку можно с уверенностью утверждать, что нигде и никогда (даже в Византии) икона не имела такого значения, как в православной России. Иконы здесь издавна были непременной принадлежностью каждого здания — и храмового, и общественно-гражданского, и простого, даже самого убогого жилья; иконы стояли при дорогах, на перекрестках, на городских площадях — и в часовнях, и на крытых столбиках-“голубцах”. Иконы брали с собой в дальний путь, с ними шли в военные походы; перед ними совершались важнейшие общецерковные и государственные акты; с молитвы перед иконой начинали любое дело; ею же родители благословляли своих детей.
Однако при всей этой повсеместной распространенности иконы, при таком всеобщем приятии ее в России и душой и сердцем, мы все же весьма недостаточно знаем о том, как воспринимали здесь в древности самый феномен священного образа (и связанное с ним иконописное творчество), так сказать, “умом” — с точки зрения интеллектуального уяснения его художественно-символического смысла.
С крещения Руси многие поколения иконописцев веками самым естественным образом трудились на основе живого Предания Церкви; в нем они находили всю необходимую им для творчества “теорию”. С течением времени иконописное дело все более развивалось, менялись художественные вкусы и определяемые ими стилистические направления, возникали и угасали местные оригинальные школы, но сами основы восприятия иконы и ее духовно-реального символического значения оставались все теми же, по крайней мере, до второй половины XVII столетия, пока православная святоотеческая эстетика (как и вся древнерусская культура в целом) не начала постепенно размываться, искажаясь под влиянием чужеродных ей элементов культуры сугубо секулярного, “гуманистического” (иными словами — не богочеловеческого, а человекобожеского) толка.
Вероятно, изначально естественная укорененность художников в Предании не требовала особых теоретических трудов, связанных с иконой и иконописным делом 20. Лишь с появлением на Руси в XIV–XV вв. отдельных еретических групп — притом всегда иконоборческого характера — возникла необходимость в подобных письменных свидетельствах истины. Поэтому можно с относительной уверенностью сказать, что до самого рубежа XV–XVI вв. каких-либо подробных и специально составленных трактатов, свидетельствующих об отчетливом и ясном (всегда, естественно, существовавшем) понимании древнерусским человеком общественно-религиозной значимости иконописного искусства не создавалось.
Только начиная с антиеретического и полемического “Просветителя” преподобного Иосифа Волоцкого (1440–1515) с включенным в этот сборник “Посланием иконописцу” (в трех “Словах” в защиту иконопочитания) 21, Русь на рубеже XV–XVI столетий попыталась относительно четко изложить свою точку зрения на православный образ — вполне в русле святоотеческого учения об иконе и с достаточно ясным представлением о круге существовавших тогда восточно-христианских письменных источников, связанных с этой темой.
Поскольку истолкование преподобным Иосифом феномена иконопочитания (вобравшее в себя весьма многое из иконофильской теории Святых Отцов) легло затем в основу большинства подобных же трудов последующих авторов, имеет смысл дать здесь краткую сводку высказываний волоцкого игумена об иконах — как образцовых для своего времени.
По страницам “Послания иконописцу” преподобного Иосифа Волоцкого
Замечания о смысле и сущности иконопочитания встречаются в разных местах сочинений преподобного Иосифа, но, если свести воедино важнейшие из его рассуждений, они складываются в следующую достаточно стройную систему.
1. Касаясь поначалу ветхозаветных времен Моисеевых, преподобный Иосиф разъясняет, что запрещены были образы и подобия — чтобы никто богами не называл их и чтобы никто не начал творить, как эллины (то есть шире — язычники. — Ю. М.), скверных идолов. “А если кто творит образы и подобия, которые Сам Бог повелел творить во славу Свою, и ради этого будет умом возводиться к Богу и поклоняться им, и почитать их, то это — доброе и богоугодное дело. Только не следует обоготворять их, как эллины, но должно делать, как Моисей, который и скинию, из многих вещей изваянную, сотворил, и скрижали, из камня высеченные, и поклонялся им, и почитал их, однако богами их не назвал, но в честь и славу Истинного Бога сотворил их и почитал Бога, повелевшего это соорудить” (лл. 222–223).
Но, по мысли преподобного Иосифа, все это точно так же приложимо и к новозаветным временам: “поклоняющийся церкви Божией поклоняется Самому Господу Богу” (л. 237); “если церковь есть церковь Господа Бога Вседержителя, то она честна и свята. И вещи, в честь и славу Божию сотворенные, как Сам Бог повелел, так же суть святы и честны и достойны почитания и поклонения — только бы богами их не называли! Ибо не всё, достойное поклонения, достойно и обожения: ведь много мы имеем вещей, которым поклоняемся, но богами все же их не называем. Ибо поклоняемся и царям, и князьям — богами же их не называем; поклоняемся и друг другу, но богами не называем. И если царям и князьям и друг другу поклоняемся, то насколько же более подобает поклоняться и почитать: в Ветхом Завете иудеям — скинию и созданную Соломоном церковь, и в них Божественные вещи, которые повелел Господь Бог сотворить во славу Свою, в Новом же Завете христианам — Честной Божественный образ Небесного Царя Господа нашего Иисуса Христа и прочие Божественные и священные вещи, которые повелел Господь наш Иисус Христос творить во славу Свою и всех Святых, угодивших Ему” (лл. 242–243).
2. Затрагивая далее излюбленную тогдашними еретиками мысль о якобы идолоподобии иконы, преподобный Иосиф утверждает: “мы не идолов создаем, не говорим о святых иконах: «вот — боги наши», не творим бога серебряного и бога золотого. Но если из золота и серебра или из иных вещей сотворим Святой и Животворящий Крест или Божественные иконы, то святыми и честными их называем; поклоняемся и служим им, а богами их не называем, — но поклоняемся в честь и славу Божию и Святых Его <…> Мы поклоняемся Честному Кресту и Божественным иконам и прочим Божественным и освященным вещам, что в честь и во славу Божию сотворены: не золоту, не краскам, не дереву и иным вещам — но Христу и Святым Его” (лл. 244–245).
“Следует понимать, что есть икона, и что — идол. Ибо многие отличия имеют святые иконы, которые мы, христиане, почитаем, от скверных идолов, почитаемых эллинами. Ибо первообраз, запечатленный на Божественных иконах, свят и честен; идольский же первообраз — сквернейший и нечистый и бесовское изобретение” (лл. 246–247). “Священные предметы Ветхого Завета, — продолжает преподобный Иосиф, — ты почитаешь потому, что благодать Божия через них приходит. Таким же образом и ныне благодать Божия благоизволит приходить к нам ради святых икон, Честного и Животворящего Креста и прочих Божественных и освященных вещей. И как Бог мог и без ковчега спасти Ноя, ибо все Ему возможно, и как Ною бездушной и рукотворной вещью устроил спасение, так и нам сотворил спасение этими бездушными Божественными вещами. Так же и еврея Бог мог спасти от змеиного укуса без медного змия, но Своими неизреченными судьбами изволил медным змием избавить от смерти. Так и нам ныне Господь Бог наш ради этих видимых святых икон и прочих Божественных вещей сотворил духовное спасение, хотя они и бездушны и рукотворны; мы избавились от греховного потопа и от духовного укуса змеиного через вочеловечение Бога-Слова” (лл. 247–248).
3. Говоря далее о почитании святых и связанных с ними священных реликвий (их мощей или даже остатков их одеяний), преподобный Иосиф, по сути, переходит к краткому изложению самой идеи православного образа. Прежде всего он поясняет, что через эти Божественные вещи нами воздается почесть Богу, а не бездушным предметам. И когда мы пишем изображения святых на иконах, то почитаем не вещь, но от этого вещественного образа воспаряют наш ум и мысль к желанию Божественного и любви к Богу, а из-за этого благодать Божия совершает неизреченные чудеса и исцеления (л. 251). Поклоняясь, например, иконе Пресвятой Троицы, мы благодаря иконному изображению духовно созерцаем то, что невозможно нам видеть телесными очами (л. 255). Точно так же, начертывая “Боговидный и Пречистый образ” Спасителя, мы возносим ум к Его невещественному Божеству (л. 257). При этом, продолжает преподобный Иосиф, не следует думать, что Пречистый Его образ прелагается в Божественную Его Сущность, ибо Божией Сущности невозможно видеть ни ангелам, ни людям, а тем более думать, что образ Спасителя есть Христос во плоти 22. Божественная природа Христа неописуема, и невозможно сейчас ее видеть — разве только, когда придет Он во Второе Свое Пришествие; но следует понимать, что на иконах отображена человеческая природа Христа (л. 258). Именно поскольку Бог неописуемый сподобился ради нас быть описуемым Человеком, мы и можем поклоняться Его иконе, вспоминая Его Первообраз, ибо почесть, воздаваемая иконе, переходит на Первообраз; и в иконах почитается и получает поклонение Истина (лл. 258–259). И когда мы изображаем Пресвятую Троицу, то поклоняемся Божественному и Пречистому подобию Неописуемого по природе, Неизреченного и Непостижимого, по милосердию и безмерной милости являвшегося праотцам и пророкам, патриархам и царям в виде замещающих теней и образов. И как тогда являлась Пресвятая Троица, так ныне мы Ее изображаем и пишем на всечестных иконах. Через такое изображение на земле приносится трисвятая песнь Трисвятой, Единосущной и Животворящей Троице, безмерною любовью и духом возносясь к “подобию” — образу непостижимого Первообраза. И от этого вещного образа, не устает повторять преподобный Иосиф, возлетает наш ум и мысль к любви и желанию Божественного, и не вещь почитаем, но видимый образ красоты Божественного, ибо (и здесь он вновь вспоминает слова святителя Василия Великого) почесть, оказываемая иконе, переходит на Первообраз (лл. 216–217).
Вслед за “Посланием иконописцу” появляются и другие небольшие трактаты, затрагивающие вопросы иконописания: труд преподобного Максима Грека 23, чьи взгляды на иконопись и положение иконописца (вместе с “Просветителем” Иосифа Волоцкого) явно повлияли в дальнейшем на соборные постановления об иконописи в Москве в середине XVI века; затем — сочинения иноков Ермолая-Еразма 24, старца Артемия 25 и Зиновия Отенского 26, где до некоторой степени также чувствуются отзвуки писаний преподобных Иосифа и Максима; и уже в конце столетия публикуется трактат об иконопочитании в русле начавшейся тогда антипротестантской полемики, составленный Василием Суражским (Малюшицким) 27.
Если труд волоцкого подвижника был посвящен более, так сказать, теоретическим сторонам иконного дела на Руси, то краткие заметки преподобного Максима Грека связаны, в основном, с практикой иконопочитания и даже с чисто житейскими сторонами быта самих иконописцев. Высказывания преподобного Максима позднее нередко использовались в различных компилятивных сочинениях XVI–XVII вв., касавшихся иконописания; тексты их любили цитировать и старообрядцы (поскольку рассуждения преподобного Максима вошли в “Кормчую”); в той же среде фрагменты его небольшого труда “О святых иконах” включались в позднейшие списки (XVIII–XIX вв.) и “Древлеписменной Кормчей”, и иконописных подлинников. 28 Эти краткие заметки Святогорца об иконописи были вновь напечатаны Н. К. Гаврюшиным полностью сравнительно недавно (в 1993 г.) с учетом трех списков, но, к сожалению, без перевода на современный русский язык; поэтому представляется полезным привести здесь наш перевод, сделав тем самым этот любопытный текст второй четверти XVI в. достоянием более широких кругов всех интересующихся историей нашего отечественного иконописания.
Преподобный Максим Грек. О святых иконах 29
Глава 1. О святых иконах, которым подобает поклоняться
Поскольку некоторые пытаются узнать, от кого началось поклонение иконам, мы и отвечаем им: изначально и издревле — как и Павел, Божественный апостол и избранный сосуд, обличая евреев, говорит о Херувимах, осенявших алтарь в скинии, то есть в Святая Святых, наверху святого ковчега 30. Если же такое показывает нам святой ковчег, осеняемый Херувимами, то явно — на славословие и поклонение Богу Небесному. И еще о том же скажем. Когда явился во плоти Бог, тогда Сам ко иудеям обратился, спрашивая их: чей на динарии 31 образ и чье имя? Отвечали же Ему: кесарев. Он же сказал им: воздайте кесарю кесарево, а Божие — Богу 32. Что же есть кесарево? Только дань и страх. А что Божие? Честь и поклонение. И не сказал: не творите образ 33, но — воздайте подобное подобному, поскольку и тогда были образы, но не все были равные и одинаковые: одни — ради увековечения памяти, как образ Менадра 34 и прочих, другие же — из-за того, что они священные, о чем и свидетельствуют здесь Херувимы славы. Поэтому ни в учениях апостольских 35 не говорит Господь: не творите образа, ни у евангелистов о том не возвещается. Потому что обладание образом необходимо и совершенно естественно для первообразной природы человека, и кто бы на земле ни родился, безобразен быть не может. Рассмотри тщательно и восприими это разумно: если римских кесарей, по слову Евангелиста, на динариях, на золотых монетах и на досках изображали, то не сомневайся же и о написанных образах прочих царей и сильных и славных мужей, — как об Ираклиеве столпе 36 повесть рассказывает 37. О Господе же Иисусе Христе, истинном Боге нашем, после вочеловечения Его как и кто может сказать, чтобы оставить и не писать пречистой и Божественной плоти Его изображения? Если же пречистый образ Его, то есть Спаса Христа, писать подобает, то можно ли ему без чести быть и с простыми образами его смешивать? Как и говорит апостол Павел: какое смешение у света со тьмою, и у Христа — с Велиаром? 38. Так же следует воспринимать и образ Пречистой Его Богоматери и образы всех Его Святых. Ибо Сам Господь говорит: где буду Я, там и слуга Мой будет 39. И еще об иконном Божием образе следует сказать, что ему всегда поклонялись все в силу нашей природы 40, а не по Преданию Закона, потому что изначально создал Бог человека по образу Своему и по подобию. Что же это означает, когда говорится: по образу Своему и по подобию? Вполне явственно это подобие определяется — как говорит Евангелист: будьте щедры, как Отец ваш Небесный щедр (точнее: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд. — Ю. М.) 41. И Павел еще взывает: будьте подобны мне, как я — Христу 42.
Образ Живоначальной и Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа — ум, слово и дух. Ибо без ума, слова и духа человек не может существовать — ни верный, ни неверный. Поэтому-то и поклоняются друг другу все люди, ведь они поклоняются не плоти, но образу Божию. Если бы только плоти поклонялись, то и всякому скоту, то есть коню, волу, и прочих 43 бессловесной природе поклонялись бы; но тем от них и отличаемся, иначе говоря, выше и пречестнее их, что образ Божий носим в себе и поклоняемся ему, потому что ум, слово и дух как невидимый образ невидимого Бога в видимой нашей плоти принимает славу, честь и поклонение. Когда же воплощением Слова Божия 44 плоть человеческая обожилась, как сказано: “и Слово стало плотию” 45, вот тогда видимый образ плоти видимого Бога становится изобразим, ему мы и поклоняемся; и таким образом приносим честь Первообразной Сущности. А кто не поклоняется образу во плоти явившегося Бога, тот не верует, что Бог Слово от Пречистой Приснодевы Марии плоть воспринял и был совершенный Бог и совершенный Человек.
Глава 2. Сказание об иконописцах, какими им подобает быть
Подобает изографам, то есть иконописцам, чистыми быть, житием духовным жить, и благими нравами, смирением и кротостию украшаться, и во всем благое творить 46, а не быть сквернословцем, кощунником, блудником, пьяницей, клеветником, или иным из тех, что следуют обычаям скверным, потому что столь святое дело таким людям запрещено 47, как и в древности сказал Господь Моисею, когда Веселеила исполнил Духом Божиим 48. Сей же Веселеил соорудил скинию свидетельства Ветхого Закона. Насколько же более подобает в нынешней (то есть относящейся к эпохе Нового Завета — Ю. М.) благодати писавшим образ Спаса Христа Бога нашего и Пречистой Его Богоматери и Святых Его стремиться к стяжанию Духа Божия.
Следует иконописцу быть сведущу в подобии (то есть в общепринятых образцовых изображениях — Ю. М.) древних “переводов”, дошедших от первых мастеров, богомудрых мужей, которым от начала было передаваемо о каждом где-либо 49 бывшем чуде или явлении — как они проявлялись; а сам бы иконописец нового да не прибавит ни единой йоты, хотя бы кому и казалось, что он весьма разумен, но сверх Предания Святых Отцов — не дерзать! Если же кто и очень искусен в изображении святых икон, а живет неблагочестиво, таким людям писать иконы не велено. И еще: если кто и духовное имеет житие 50, а благолепно изображать святые иконы не может, таким писать святые иконы тоже не разрешать, но пусть зарабатывают на пропитание иным рукоделием — каким хотят 51.
Глава 3. О том, чтобы кроме святых икон
правоверному иконописцу 52-изографу ничего не писать
Если кто в таком святом деле, как иконописание, во всем сподобится быть искусен, тогда не подобает ему кроме святых изображений ничего другого рисовать, то есть изображать, для пустого развлечения людей — ни звериного образа, ни змеиного, ни иного кого из ползающих или рода пресмыкающихся, кроме как только где-либо в случившихся “деяниях” (то есть в житийных сценах — Ю. М.), которые случится иллюстрировать, когда это к месту и подобает данному случаю.
Глава 4. Об иконах, помещаемых над дверьми
Над дверьми же домов у православных христиан не подобает помещать изображений зверей, змей, и каких-либо неверных храбрых мужей. Но пусть ставят над дверьми у своих домов православные христиане святые иконы или честные кресты, которым, входя в дом или выходя из него, мы поклоняемся и тем самым почитаем Первообразную Сущность, как наши отцы нам передали, ибо это есть знамение правоверных. За всем же этим надзирать и всему этому учить подобает святителям и иереям, духовным настоятелям, как говорит Апостол: покоряйтесь наставникам вашим 53. А на непослушных и непокорных — с епитимиями налагать запрещение, как и Божественные правила повелевают.
Еще об иконописцах
Достойных же иконописцев, сподобившихся такого святого делания 54, подобает честью почитать и сажать их на седалищах и на пирах близ святителей, с уважаемыми людьми, — как и прочих причетников.
Глава 5. О том, чтобы иконы, написанные руками неверных,
не принимать, и святые иконы в руки неверных не отдавать
От неверных и иностранных римлян и германцев иконного изображения православным христианам принимать не подобает. Если же оно случайно от древних лет где найдется в наших странах верных — то есть в греческих или русских, а написано будет уже после церковного раскола греков 55 с римлянами (то есть после схизмы 1054 г. — Ю. М.), тогда, если даже иконное изображение обладает подобием и искусно выполнено, поклонения ему не творить, поскольку руками неверных изображено: хоть и по подобию сделано, но совесть писавших нечиста. О таких ведь Павел, Божественный апостол, пишет, так говоря: всё чисто чистым, оскверненным же и неверным — ничто не чисто, ибо осквернились в них ум и совесть; говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него, будучи мерзки и непокорны и ни к какому делу доброму не способны 56. А неверным и иностранным, тем более, скажем, нечестивым и поганым армянам, не должно святые иконы писать или менять их на серебро и золото, ибо написано: “не давайте святыни псам” 57.
Глава 6. О том, на каких вещах писать и изображать
святые иконы, а на каких не писать
Дозволяется писать святые иконы и изображать — как и на VII Соборе Святые и Богоносные Отцы повелели — на любом дереве и камне, и на столпах, и на стенах, и на сосудах церковных, которые крепки существом, то есть своим материалом. А на стекле святых икон не писать и не изображать, поскольку оно легко разбивается 58.
О том, чтобы святых икон 59 не отягчать ценою серебра
Подобает же и такое знать честным изографам-иконописцам.
Если кто живет благоговейно 60 и к тому же сподобится подражать истовому и отменному иконописанию древних богомудрых изографов, то пусть также и ценою серебра не отягощает святые иконы (то есть не берет за них излишне дорогой платы. — Ю. М.), но доволен будет принять от имущего на пищу и одежду и на приготовление запаса красок.
О том, чтобы не “оскудить” изографа
Так же и всякий правоверный христианин, доверяющий иконописцу написать 61 чей-нибудь святой образ, должен не оскудить (то есть не лишить достойной платы за труд — Ю. М.), но щедро 62 вознаградить честного изографа — как следует и какая имеется возможность, дабы он не беспокоился о каких-либо необходимых для него потребностях.
В целом, как в этом сочинении (особенно в 1-й главе), так и в ряде других своих Слов, преподобный Максим продолжает святоотеческую традицию в понимании онтологической и гносеологической сторон православного образа; нередко он использует и высказывания своего ближайшего предшественника — преподобного Иосифа Волоцкого. Так, например, желая вслед за ним подчеркнуть сотериологический аспект церковного искусства, он прямо цитирует его слова из “Просветителя”: “Господь и Бог наш ради видимых святых икон и прочих Божественных вещей мысленно спасение сотвори” 63. Однако в отличие от преподобного Иосифа он гораздо больше внимания уделяет различным символическим толкованиям, будучи, как определяет его один из современных исследователей, “типичным представителем средневекового символизма” 64; недаром он переводит многие статьи из известного словаря Х в. Суды.
Все более расширявшийся в середине столетия интерес художников к аллегорическому истолкованию православного учения находил отражение и в литературных памятниках эпохи. Но если в своем трактате о Святой Троице инок Ермолай-Еразм, как и прежние авторы, в основном, излагал и систематизировал все те же известные уже ранее высказывания византийских защитников иконопочитания, то, пожалуй, более творчески яркий и глубокий, исихастски настроенный писатель того же времени игумен Артемий стремился уже к сугубо символическому, анагогическому осмыслению бытия при его отражении в церковном искусстве — в духе известных “Ареопагитик”. Именно важнейшие ареопагитские идеи о символах и образах он полагал в основу своих сочинений, пытаясь в свете этих идей истолковывать всё церковное творчество как процесс “возведения” человека через символические образы “к невещественным началообразиям” 65 — от “сени” (то есть от тени, внешней видимости) постигая “яже в образех”, чтобы “от образов на самую взирати истинну (Истину — Ю. М.)” 66.
Эту же линию в целом продолжал и инок Зиновий Отенский (ум. в 1571 или 1572 г.), хотя его символизм отмечен печатью гораздо большего (причем, так сказать, нравственно окрашенного) ригоризма и еще большего “символического реализма”. Следует отметить особо, что в высказываниях Зиновия порой даже начинают звучать характерные для второй половины столетия нотки метафизического (несколько дидактически заостренного) рационализма. При этом он был, безусловно, весьма широко и точно мыслившим писателем.
Любопытно, что в своих обличениях языческой “идольской прелести” Зиновий, основываясь на религиозно-философском понимании зла как отсутствия всякого бытия, идет гораздо дальше преподобного Иосифа, трактовавшего “идолов” лишь как образы злых и ложных первообразов, утверждая, что идолы вообще не имеют первообразов, и поэтому они вовсе не “образы” и не обладают никаким внутренним смыслом: “и то суть идолы; потомуже убо идолы и несть образы, яко вещь праздна (пустая вещь — Ю. М.) есть идол, неимуще первообразное” 67.
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что к середине – третьей четверти XVI в. у древнерусских художников было достаточно подробно, точно и ясно изложенное учение о православном образе. И тем не менее, исподволь наступавшее обмирщение средневекового религиозного сознания постепенно начинало проявляться во все более рационалистическом и духовно-поверхностном восприятии этого святоотеческого учения, что, в свою очередь, приводило к излишнему увлечению иконописцев (как и их заказчиков) аллегорически-дидактическим началом в церковном искусстве; тем самым все более искажалось понимание самих задач и смысла православного творчества 68.
Эти тенденции, к сожалению, сказались и на ряде решений московских Соборов середины столетия: тогдашние соборные постановления не внесли необходимой догматической ясности в дальнейшее развитие древнерусского художества, и многие из возникших тогда вопросов (особенно в области желательности и допустимости отдельных иконографических сюжетов) остаются не решенными окончательно и до сей поры. Практическую пользу эти Соборы дали в основном лишь в области более точного определения общественного статуса и нравственных обязанностей самих иконописцев, что, впрочем, тоже имело немаловажное значение.
Первостепенную роль в упорядочении иконописного дела на Руси сыграл известный святитель Митрополит Московский Макарий, под руководством которого в столице состоялось два Собора, на которых затрагивались вопросы иконописания: в 1551 г. — Собор “Стоглав” (названный так по числу глав с соборными решениями), документально подтвердивший собственно церковную и социальную значимость иконописца в русском обществе и строго регламентировавший предъявляемые к художнику требования, и чуть позже, в 1553–1554 гг. — Собор, связанный с так называемым “делом Висковатого”, выступившего в защиту более традиционных тем в религиозной живописи и православного “символического реализма” в целом — против начавшегося увлечения художественным аллегоризмом 69.
Вопросы иконописного дела на Руси были непосредственно освещены и относительно четко разрешены (пусть и с внешней стороны) на Стоглаве, в 43-й главе постановлений которого строго указывалось, в частности, “какими подобает живописцам быть”.
Вот выдержки из этого пространного соборного документа, ставшего затем своего рода “законом об иконописцах”, и скрепленного подписями святителя Макария и царя Ивана Грозного, — документа, как бы подводящего, с официально-государственной точки зрения, итог длительному развитию иконописного искусства.
“Подобает быть живописцу смиренным, кротким, благоговейным, не празднословным, не смехотворцем <…> не пьяницей <…> наиболее же хранить чистоту душевную и телесную <…> и с превеликим усердием писать” различные иконы “по образу, по подобию и по существу, смотря на творения древних живописцев, и пользоваться хорошими образцами…”. Участники Собора призвали епископов особо беречь хороших иконописцев и почитать их более простых людей. Иконописец же, со своей стороны, обязан принимать учеников, учить их благочестию, приводя к духовным отцам; а тех из учеников, которым Бог поможет открыть в себе художнический дар, мастер со временем должен вести к епископу — для проверки соответствия работ ученика церковным канонам; если епископ убедится в этом, то и утверждает того в звании полноправного мастера. Божией карой Собор грозит учителю, не желающему поделиться в необходимой полноте своими знаниями с учеником: “Если кто от живописцев начнет талант скрывать, который ему Бог дал, и ученикам таланта, по сути, не даст, таковой осужден будет от Бога, вместе со скрывшими талант (здесь подразумевается евангельская притча, см. Мф 25:14–30 и Лк 19:12–27 — Ю. М.), в муку вечную”. Иконописцев и учеников, начавших жить не по правилам, “в пьянстве и нечистоте и во всяком бесчинстве” Собор приказывает “от дела иконного вовсе отставлять” и никому с ними не общаться, ибо “проклят всякий, делающий дело Божие с небрежением”. Самоучкам-“своевольникам”, пишущим для простецов дешевые, но недостаточно каноничные иконы, Собор также запрещает продолжать свою деятельность — до прохождения дополнительного обучения у официально признанных мастеров, иначе они “царскою грозою накажутся” и будут подвергнуты суду. Обращаясь затем к епископам, Собор также требует от них создать особый институт контроля над повседневной деятельностью иконописцев: присматривать за ними должны лучшие мастера — в качестве своего рода цеховых старост. И епископы, и вельможи, и прочие простые люди обязаны при этом оказывать таким “смотрителям” особую честь и “во всем почитать” — за их достойное иконописное мастерство.
Завершаются соборные постановления двумя строгими требованиями. Первое — это все тот же неизменный наказ следовать Преданию: епископы должны заботиться о том, “чтобы хорошие иконники и их ученики писали с древних образцов и от самомышления бы по догадкам Божества не описывали”, иначе говоря, чтобы они изображали лишь вочеловечившегося, воплотившегося Богочеловека Иисуса, не увлекаясь “суемудренными” аллегорическими Его изображениями. “Ибо Христос Бог наш описан по плоти, а по Божеству не описан”. Второе увещание вновь касается нравственной стороны дела: Собор грозит проклятьем скрывающим свой талант и свои творческие навыки мастерам, поэтому участники Собора призывают: “живописцы, учите учеников без всякого коварства, чтобы не быть вам осужденными на вечную муку” 70.
Выразившееся в решениях Стоглава и Собора 1554 г. стремление Церкви и государства четко упорядочить деятельность иконописцев вполне вписывается в картину начинавшейся секуляризации древнерусского общества в период позднего Средневековья. Своими постановлениями члены обоих Соборов, как бы предощущая наступающий кризис традиционного православного эстетического сознания, стремились остановить дальнейший процесс обмирщения искусства. Но подобные попытки могли лишь на время притормозить его: Русь уже исподволь готовилась вступить в новую эру — в эпоху Нового времени, с совсем иной системой духовных и эстетических ценностей, все более обращавшихся в сторону преимущественно антропоцентричного западно-европейского мировидения и мироощущения. И хотя художественная жизнь России середины-второй половины XVI столетия характеризуется особо бурным развитием и масштабностью творческих задач, культура и искусство становятся теперь скорее делом полуимперской-полуцерковной идеологии, чем проявлением некогда столь духоносного и высокоинтеллектуального потенциала иконописцев-философов.
Параллельно с ростом мощи и богатства Московского царства все более расширяется царская художественная мастерская, вобравшая в себя чуть ранее — около середины века — многих лучших художников из столь славившейся прежде мастерской Митрополита Макария; в XVII столетии именно этой царской мастерской суждено было стать основным ядром огромного художественного подразделения в Московском Кремле — знаменитой Оружейной палаты. К концу XVI в. появляются такие богатейшие меценаты и заказчики, как, например, род купцов Строгановых в Усолье, на севере Руси, заказывавших сотни, если не тысячи, икон для своих храмов и даже имевших свои собственные художественные мастерские. В документах все чаще мелькают имена десятков иконописцев: искусство отныне перестает быть по-средневековому анонимным. Но с уходом творческого художнического смирения все ощутимей становится и постепенное исчезновение из самих творений древнерусских иконописцев прежнего возвышенного соборного духа великого искусства православной Святой Руси. В новой российской культуре вообще все чаще место Неба занимает суетная земля, а на месте Бога все чаще оказывается падший человек.
Для прежнего, поистине богозрачного искусства нашей отечественной иконописи это стало духовной трагедией — началом конца ее великой традиции; для все более же обмирщавшегося общества это было лишь проявлением естественного хода непреодолимого исторического процесса.
Скачать материал

Скачать материал






- Сейчас обучается 410 человек из 62 регионов


Описание презентации по отдельным слайдам:
-
1 слайд
Как пишутся иконы
-
2 слайд
Строгие каноны – начиная с выбора материалов и до последних штрихов на живописной поверхности – до мелочей продумана и осмыслена в глубокой древности и со временем приобрела характер неукоснительны для выполнения.
Канон – норма, правило, закон.
-
3 слайд
Иконописание было великим творчеством. Иконописец специально готовился к совершению «дела иконотворения».
Это было актом общения с миром иным и требовало духовного и физического очищения, когда все плотское по возможности подавлялось: «…он, когда писал святую икону, только по субботам и воскресениям касался пищи, не давая себе покоя день и ночь. Ночь проводил в бдении, молитве и поклонах. Днем же со всяким смирением, нестяжанием, чистотою, терпением, постом, любовию, Богомышлением предавался иконописанию». -
4 слайд
Основа для иконы – дерево.
Иконопись зародилась в Святой Земле, где древесина всегда ценилась на вес золота.Дерево – это сакральный, освященный в христианстве материал, поскольку на нем был распят Христос. Именно к дереву, последнему земному веществу, прикасалось Его еще живое Тело, именно оно хранило память о вочеловечившемся Боге. Поэтому деревянная основа любой иконы, напоминая о важнейшей реликвии христианства — Истинном Древе Спасителя, — сама становилась воспоминанием, прообразом священной реликвии.
-
5 слайд
Создание иконы происходит поэтапно. Все этапы расположены в строгой последовательности.
-
6 слайд
1 этап
Основание. Основанием служит доска, или несколько склеенных досок, соответствующим образом обработанные и подготовленные для нанесения последующих слоев. (липа, сосна, ель, ольха, лиственница, пихта, кипарис, бук -
7 слайд
На лицевой стороне доски вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляется нетронутой рама, или поле. Углубленная часть доски называется «ковчегом»; уступ, образуемый ковчегом, носит название «лузги». Изолируя изображенное на иконе от земного окружения, поля способствуют сосредоточенности молящегося.
-
8 слайд
2 этап
Слой клея. Подготовленная доска проклеивается горячим и жидким столярным клеем. Предпочтение обычно отдается мездровому клею, в настоящее время, зачастую используют пищевой или технический желатин. -
9 слайд
3 этап
Паволока. После проклейки на доску наклеивается паволока из редкой ткани. Обычно используется марля, или ей подобная ткань.
Ткань для паволоки всегда выбиралась «ветхая», состиранная, поэтому ветошь бережно собирали по домам и отдавали, а порой и продавали, выменивали иконописцам. Новая материя не годилась — она была слишком грубой и шероховатой для работы. Очень часто, особенно в монастырях, в дело шли даже старые изношенные скатерти с трапезных столов. -
10 слайд
4 этап
Грунт. Грунт — левкас представляет смесь столярного клея с мелом. Для грунта используется клей более крепкий, чем для проклейки доски(не менее 10 очень тонких слоев). После полного высыхания – основа готова к росписи. -
11 слайд
5 этап
Позолота. Если икона должна иметь позолоченный фон, или другие элементы, то позолота выполняется перед нанесением красочного слоя. -
12 слайд
6 этап
Красочный слой. Или слой живописи. В иконописи традиционно используется яичная темпера. Краски натуральной яичной темперы приготовляются из натуральных пигментов и яичной эмульсии. -
13 слайд
7 этап
Защитный слой. После того как икона написана ее необходимо предохранить от неблагоприятных воздействий внешней среды, для чего живописный слой покрывается тонким слоем олифы или специального лака. -
14 слайд
Роспись иконы
После высыхания левкаса на икону наносится изображение.
Прорись — это контурный рисунок с уже написанной иконы (признанной соответствующей церковным канонам), выполненный, чаще всего, на бумаге или кальке и предназначенный для переведения контуров. -
15 слайд
Роспись и олифление иконы
После нанесения на грунт прориси, золочения нимбов или фона процесс написания иконы разделяется на несколько последовательных этапов:
1. Раскрытие иконы (закладка основных тонов);
2. Роспись;
3. Пробела — высветление одежд, зданий, горок и пр.;
4. Охрение — высветление ликов и волос с последующей их обработкой (подрумянкой, притенениями и пр.);
5. Нанесение ассиста или инакопи (лучей и бликов, написанных золотом или серебром) -
16 слайд
Раскрытие иконы
Закладка основных тонов иконы. -
17 слайд
Роспись доличного
Подробная роспись всего изображенного на иконе за исключением лика святого -
18 слайд
Роспись личного
Написание личного – лика, рук и ног святого.
После того, как написано личное, икону надписывают – наносят надписи, поясняющие, кто изображен на иконе. Икону надписывают в обязательном порядке. Например, надпись IC XC – сокращенное именование Спасителя.
После надписания остается обвести рамку и икона почти готова. -
19 слайд
Олифление иконы
Иконы покрывают олифой для предохранения ее от разрушительных влияний внешних факторов, и для окончательного придания всем краскам общего объединения, а самой иконе — законченного технического состояния.
Иконной олифой называется льняное масло, отбеленное под действием дневного света в продолжение двух лет и вареное затем со свинцовыми белилами при температуре до 285° С. Профильтрованная затем такая жидкость, соединенная со смолой в виде растворенного янтаря, и есть олифа для покрытия икон.
Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
6 145 833 материала в базе
- Выберите категорию:
- Выберите учебник и тему
- Выберите класс:
-
Тип материала:
-
Все материалы
-
Статьи
-
Научные работы
-
Видеоуроки
-
Презентации
-
Конспекты
-
Тесты
-
Рабочие программы
-
Другие методич. материалы
-
Найти материалы
Другие материалы
- 19.12.2020
- 172
- 0
- 05.11.2020
- 409
- 5
- 04.11.2020
- 104
- 0
- 20.10.2020
- 125
- 0
- 09.10.2020
- 154
- 1
- 26.09.2020
- 114
- 0
- 10.09.2020
- 118
- 4
- 01.09.2020
- 404
- 40
Вам будут интересны эти курсы:
-
Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»
-
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
-
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
-
Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»
-
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»
-
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного вуза»
-
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
-
Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»
-
Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
-
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
-
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
-
Курс профессиональной переподготовки «Организация процесса страхования (перестрахования)»
-
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
-
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»
-
Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Светило науки — 1525 ответов — 1786 раз оказано помощи
Ответ:
Объяснение:
Иконопись — трудоемкое и сложное искусство. Икона пишется на деревянной, чаще всего липовой доске. Её сначала нужно тщательно обработать и просушить. На лицевой ее стороне вырезается небольшое углубление, а по краям оставляют довольно широкие, чуть-чуть выступающие поля. Затем наклеивают на доску полотно, которое называется паволока. Если доска потрескается, то изображение тогда не пропадет. Далее на нее наносится специальный грунт, сделанный из мела и клея. Он так тщательно шлифуется, что напоминает гладкую кость. Потом на этот грунт наносится рисунок.
Икона пишется красками, разведенными на яичном желтке. Эти краски требуют особой осторожности в работе. Они снова и снова наносятся тонкими слоями. Каждый из них должен хорошо просохнуть.
Почти всегда иконы золотили, то есть покрывали тончайшим слоем настоящего золота.
Сначала — обстоятельственное времени
чуть — чуть — обстоят. меры и степени качества
затем — местоименное указательное
Далее — обстоятельственное
так -местоименное указательное
потом — обстоят. времени
Снова — обстоят. времени
почти — местоим определит.
всегда — местоименное определительное
Рассуждение
Как писать икону
Иконописание, или иконопись – древнее изобразительное искусство, появившееся одновременно с христианством. Первой иконой, то есть образом, считают так называемый образ Спаса нерукотворного, отпечатавшегося на полотенце, которым Христос вытер свое лицо. По преданию, это полотенце было подарено некоему царю, который, молясь перед образом, исцелился от тяжелой болезни. Труд иконописца по важности сравнивают с трудом священника, ведущего службу.

Инструкция
Получите профильное образование. Даже закончив художественно-графический факультет, вы будете иметь только общее представление об иконописании и законах композиции иконы. Многое в создании иконы противоречит классическим законам живописи: перспектива, размер, фон, цвет, — все предметы и люди пишутся не по принципу близости к зрителю, а в хронологическом порядке и с учетом степени важности.
Перед написанием иконы предписывается строгий пост. Вопреки расхожему мнению, пост – это не только ограничение в еде (исключение мяса, яиц, молочных продуктов), но постоянное бдение и молитва. Бдение – это не круглосуточное отсутствие сна, а внимание к своим словам, поступкам и мыслям. Человек, питающий гнев к другим людям, не сможет написать хорошую икону. Молитву определяют как разговор с Богом и святыми, просьбу защитить, поддержать, помочь.
Икона пишется на деревянной основе, состоящей из трех частей. У этого обычая два объяснения, практическое и сакраментальное. Во-первых, объемный широкий кусок древесины начнет высыхать и прогибаться, при этом краски могут потрескаться и осыпаться, изображение померкнет. Три вертикальные части дерева, склеенные между собой, тоже прогнутся, но не настолько. Иногда небольшие иконы делаются на одинарной доске.
Нанесите грунт. В русской иконописи до сих пор существует традиция, заимствованная из византийского искусства, использовать в этом качестве левкас – смесь мела и рыбьего клея. Левкас наносится несколькими слоями, последний слой шлифуется.
Сделайте прорисовку изображений березовым углем, затем темной краской. Часто прорисовку делают по другой иконе, с которой списывают новую.
Нанесите золотую краску: нимбы, детали одежды, свет (фон), декоративные элементы.
Выполните доличное письмо: одежды, детали пейзажа, строения, прочее. На этом этапе используется специальная краска на основе водной эмульсии с яичным желтком – темпера. Используются только натуральные красители. В разных иконописных школах порядок работы над письмом несколько различается, но общий порядок таков: фон (кроме золотого), горы, здания, одежды, открытые части тел.
Напишите лики. Лик каждого святого пишется по определенным канонам: форма лица, борода, цвет волос и глаз, — все строго регламентировано в соответствии с внешностью реально жившего человека. В последнее время лик стало можно срисовать с фотографии.
Нанесите белила, чтобы обозначить объем выступающих деталей. Часто для этой же цели после высыхания на всю икону наносили слой темной краски.
Нанесите блики смесью охры и белил. Затем «румяны» тонким слоем красной краски: губы, щеки, кончик носа, и т.д.
Жидкой коричневой краской прорисуйте тонкие детали: волосы, брови, бороду, зрачки.
Нанесите на высохшее изображение лак – олифу. Дождитесь полного высыхания. Икона готова.
Видео по теме

Связанная статья
Почему в православии почитаются иконы
Войти на сайт
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
В Византии зародились основные иконографические типы икон, из Византийской традиции иконописи, берут свое начало множество школ письма: Московская, Новгородская, Ярославская, Ростовская, Строгоновская, Владимиро-Суздальская и многие другие. Византийская культура оказала благотворное влияние на эстетическое восприятие и духовное становление иконописцев древней Руси.
И в наше время Византийское искусство утончает границу времени, дает возможность нашим художникам соприкоснуться с эпохой древних мастеров, взять пример и перенять всё самое лучшее тех, чьи произведения явились, рукописью повидавших Божие откровение. За основу нашего, письма мы взяли традицию Московской школы иконописи, основоположниками которой были Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий. Своей кистью они правдиво рассказали о Боге, Богородице и возлюбленных чадах Божиих. Их иконы, образ жизни и мысли, преданность своему делу, служат нам примером и образцом для подражания.
Но в иконописании важны не только духовный настрой, чистота и ясность мысли, но и материалы, по средствам которых создается икона. В иконописании всё подчинено строгим правилам. Ни техника письма, ни применяемые материалы, не могут быть случайными, чуждыми устоявшемуся канону. Случайное в иконе случается только случайно, по неопытности, невежеству, недомыслию или самочинию иконописца. Всё каноническое-церковное. Церковное искусство хранит иконописные приемы, идущие из глубины древности.
Доска
Основа для иконы должна быть прочной и долговечной, она олицетворяет нерушимые законы Бытия. Как каменные скрижали, на которых Бог повелел Моисею запечатлеть заповеди Божии людям. Мы используем липовые доски из хорошо просушенной древесины с дубовыми шпонками, предотвращающие выгибание доски.
|
|
|
История
Первые иконы появились ещё во времена апостолов. Родоначальником иконописи называют евангелиста Луку. Наибольшее развитие она получила в странах, исповедующих православие. К основным центрам иконописи относятся следующие страны:
- Византийская империя;
- Киевская Русь и Московское государство;
- Болгарское царство.
В истории иконописи выделяют несколько основных этапов, которым свойственны уникальные отличительные черты в манере исполнения, построении композиции и прорисовки образов.
Левкас и паволока
Задача левкасчика, превратить доску в стену, ведь поверхность иконной доски, с её меловым левкасом, напоминает стену храма, а техника иконописи берет своё начало от фрески.
На доску наклеивается паволока и наносится левкас, со строгим соблюдением традиционных рецептур. К качеству льняной паволоки и меловому левкасу нужно относиться очень внимательно, от них во многом зависит срок жизни иконы. Мы не упрощаем технологию, не используем “синтетический левкас”, только меловой, на основе мездрового клея и льняной олифы, проверенный веками.
Начинающему иконописцу
Работая над иконой, необходимо не забывать о молитве, так как основное назначение иконы — способствовать молитве, молитва во время работы над иконой поможет преодолеть многие трудности. Кроме того, следует помнить и слова пророка Иеремии «проклят человек, творяй дело Господне с небрежением» (Иер. 48, 10).
Для вашего удобства мы разделили данный раздел сайта на 3 части:
Как мы пишем иконы (техника иконописи)
Строгая последовательность техники исполнения иконы – начиная с выбора материалов и до последних штрихов на живописной поверхности – до мелочей продумана и осмыслена в глубокой древности и со временем приобрела характер неукоснительного для выполнения свода правил. Она почти всецело применяется и мастерами нашей артели и изменению не подлежит.
Благодаря вековой практике известных и безвестных древних иконописцев, был выработан иконописный канон, представляющий собой ряд правил и требований, предъявляемых как к основным этапам работы (изготовление доски, применяемые краски, технологии и техника иконописи), так и требования которым должна соответствовать каждая конкретная икона (использование иконописных подлинников и образцов).
Традиционная икона пишется на специально обработанной и загрунтованной левкасом доске, в соответствии с каноническими требованиями и после написания покрывается защитным слоем из олифы или бесцветного лака.
Основой для икон в подавляющем большинстве случаев является дерево. И если бы родоначальником иконописной традиции был русский народ, этому было просто найти объяснение – дерево на Руси всегда было самым дешевым и распространенным материалом. Но иконопись зародилась в Святой Земле, в Палестине, где древесина всегда ценилась на вес золота. В то же время дерево – это сакральный, освященный в христианстве материал, поскольку на нем был распят Христос. Именно к дереву, последнему земному веществу, прикасалось Его еще живое Тело, именно оно хранило память о вочеловечившемся Боге. Поэтому деревянная основа любой иконы, напоминая о важнейшей реликвии христианства — Истинном Древе Спасителя, — сама становилась воспоминанием, прообразом священной реликвии.
Создание иконы происходит поэтапно. Каждый этап заключает в себе создание очередного элемента, или слоя иконы. Все этапы расположены в строгой последовательности.
Икона имеет следующие слои (рис.1):
1. Основание. Основанием служит доска,
или несколько склеенных досок, соответствующим образом обработанные и подготовленные для нанесения последующих слоев.
2. Слой клея.
Золото
Отдельные элементы иконы (нимб, лузга, поле, ковчег), или фон целиком золотятся сусальным золотом. Золотой фон иконы- чистый, беспримесный цвет, тождественный незамутненному солнечному свету. Мы не используем никаких имитаций золота (поталь), только качественное натуральное золото 960 пробы, в иконе всё должно быть правдиво и недопустима никакая ложь, подмены, упрощения.
Понятие иконописного канона.
Поскольку икона, являя откровение Божественной реальности, несет миру и раскрывает символическими средствами догматические истины, для иконописца важно следовать правилам, способным эти истины в их полноте явить.
Что же такое канон? Канон – есть система стилистических правил, которые в искусстве задают норму толкования художественного образа и определяется как образец для наследования. Канон – единая, постоянная, устойчивая форма, содержание которой «фиксирует разум Церкви под благодатным покровом Святого Духа, в ней действующего» (Стародубцев О.В. – С.22). Канон возможно рассматривать и как тот кратчайший путь, который способен привести ищущего к искомой цели. Иконописный канон непреложен и незыблем, как Истина Христова, правила Вселенских Соборов и все, что составляет видимую сторону жизни Церкви. В Византии время появления «иконописного подлинника» соответствует эпохе Македонской династии, а на Руси иконописный канон сформировался только к 16-17 вв. Первыми попытками осмысления иконописного канона есть «Послание иконописцу и три «слова» о почитании святых икон» Иосифа Волоцкого и «О святых иконах» Максима Грека. Как писал исследователь этого вопроса Н.М. Тарабукин: «Потребность закрепить и консервировать добытое усилиями многих поколений иконописцев появилось тогда, когда иконописные устои стали постепенно расшатываться, когда появилась угроза иконописного «еретичества» в виде модернизма, являющегося результатом влияния светской жизни» (Смысл иконы. М. Изд. ПБСФМ. 1999.-с.99).
Особенности иконописного канона состоят в том, что икона должна быть:
1 — двухмерной,
2 — отсутствовать перспективность построения, равно как и теней, полутеней,
3 — внеприродность (сверхприродность) пространственно-временных измерений,
4 – отсутствие анатомических, реалистически натуральных пропорций.
5 – мир иконы условен и символичен.
1) Двухмерность иконы обусловлена тем обстоятельством, что плоскостность изображения, где есть высота, ширина, но отсутствует глубина изображения, обусловлена ее внутренним смыслом. Икона есть окно в мир духовный, который лишен такого рода телесности, присущей миру земному, плотскому. Поэтому условно третьим измерением иконы может быть названа ее догматическая глубина. Для того, чтобы передать на плоскости глубину реальности духовной необходимо отказаться от перспективности построения образа исходя из условной точки восприятия объекта внешним зрителем-наблюдателем и обратиться к использованию так называемой «обратной перспективы».
2) Суть употребления обратной перспективы в иконописании может быть сведена к тезису: «не мы смотрим на икону, а икона смотрит на нас». Иконописный лик, обращающий нас к молитве, и есть та истинная первичная реальность, которая уводит наш мысленный взор от мира дольнего в мир горний. Поэтому, с точностью до наоборот, некоторые лица и предметы на переднем плане иконы могут быть не больше, а меньше тех, которые изображены за ними. Изображение Евангелия, четырехугольных предметов (изображение стола, стульев, здания) выглядят так, как будто вывернуты наизнанку. Та сторона, которая дальше от нашего восприятия его может быль меньше чем та, которая ближе. Таким образом, достигается задача, согласно которой икона и все ее пространство воспринимается как «видимое невидимого», реальное свидетельство встречи с духовной действительностью. Об этом качестве иконы Н.М. Тарабукин писал: «Мир умопостигаемый и невидимый делается видимым, изобразимым, зрительно-созерцаемым» (Смысл иконы. М. Изд. ПБСФМ. 1999.-с.131).
3) Ведь духовная действительность не имеет присущих миру земному координат. Тот мир находится по ту сторону пространства и времени. Тот мир есть мир неиссякаемой Благодати, которая освещает все пространство иконы без определения конкретной точки — источника Света. Ибо Бог есть везде. Отсюда обращение к использованию золотого фона иконы, который символизирует, что события, созерцаемые на иконе, происходят вне земных пространственно-временных границ. Этим обстоятельством объясняется так же отсутствие использования тени и полутени при написании объектов в иконописном пространстве. Там, где нет точки источника света, там нет и тени, ибо свет повсюду. Бог есть Свет, и в Нем нет никакой тьмы. Поэтому иконописец изображает вещи и фигуры как производимые светом, а не как светом освещенные (что есть характерно для светской живописи).
4) Обращает на себя внимание и отсутствие натурализма, анатомически правильного изображения человеческого тела. «И оно становится понятным, если мы его будем рассматривать, как постепенное изменение тела по мере прохождения его через различные сферы бытия. Христос по Воскресении имел уже другое тело» (Смысл иконы. М. Изд. ПБСФМ. 1999.-с.126). Таким образом, задаваемая деформация как объектов так и человеческих тел в иконописном пространстве используется с той целью, чтобы еще раз подчеркнуть духовный смысл иконописного образа.
5) Икона по сути своей глубоко символична. Цвет, форма, композиция как и все элементы в иконе прежде всего символичны. Согласно «Иконописному подлиннику» (который состоит из 2 частей: текста и рисунков и в котором подробнейшим образом дается описание, содержащее на каждое число месяца обозначение праздника или имени святого), предлагается композиционное и колористическое решение структуры иконы. Поэтому, следуя реалистическому изображению черт лица и деталей одежды святого или преподобного, иконописный лик всегда узнаваем. Также несет на себе определенную смысловую символику и цвет. Красный цвет – цвет царский и жертвенный он всегда активный. Зеленый – цвет земного непостоянного бытия, голубой – цвет чистоты, фиолетовый – духовной мудрости. Золото – есть символ неземного, божественного бытия. Отсюда – золотое сияние вокруг головы святого, которое образует круг (нимб). Или растекающихся золотых струй, что исходят из головы, накладываются на одежды Спасителя, Богородицы (ассист) и есть суть выявление Божественных энергий.
В обязательном порядке на иконе должно быть имя изображаемого. До 787 года, известного как год созыва VII Вселенского Собора, который своими решениями определил отношение Христианской Церкви к вопросу почитания икон, канонические иконы не нуждались в освящении и становились иконами при написании имени изображаемого. Однако после иконоборческих волнений было принято решение иконы освещать. Только рассмотренная и утвержденная предстоятелями Церкви икона освещалась и усвоялась святому, на ней изображенному. Свидетельством тому ставало, как и раньше, имя изображаемого святого, которое ставилось перед освящением.
И подводя итог, закончим эту тему удивительно глубокими словами Архимандрита Рафаила (Карелина): «Православная икона — это особый вид самовыражения и самораскрытия Церкви; это духовное поле в физическом пространстве, где сходятся радиусы догматики, мистики, сотериологии и эстетики…» (О языке православной иконы. Сатисъ. 1997).
Литература к теме 4.
1. Архимандрит Рафаил, О языке православной иконы. Сатись: СПб, 1997.
2. Аверинцев С.С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры / Византия. Южные славяне и древняя Русь. Искусство и культура. Сборник в честь В.Н. Лазарева. М., 1973.
3. Булгаков С. Икона и иконопочитание. Париж. 1931.
св. Василий Великий. Творения, ч.3, М. 1993.
4. св. И.Дамаскин Три защитительных слова против порицающих святые иконы
или изображения. С-ТС. Л. РФМ, 1993.
5. св. И.Дамаскин Точное изложение православной веры. М. — Ростов-на-Дону: изд. Приазовский край, 1992.
6. Дионисий Ареопагит. Божественные имена (2.10) / Мистическое богословие, К.:Путь к истине, 1990.
7. св. Ефрем Сирин Сочинения, т.6 (Толкования на исход), М., 1995.
8. История христианской церкви, т. 1, М. 1980.
9. Инок Григорий (Круг) Мысли об иконе. М.
Краски
Далее с Божией помощью, вооружившись постом и молитвой, иконописец приступает к этапу письма. Под кистью художника поверхность доски начинает пробуждаться и в золотом сиянии иконы, словно в море Божественной Благодати, проплывают библейские сюжеты, возникают образы Спасителя, Богородицы, святых.
Темпера (ПВА) с яичной эмульсией
Например, современной темперой ПВА (искусственные пигменты на синтетической основе) с добавлением яичной эмульсии, можно достичь хороших результатов. Современные кадмии, кобальты и разнообразные окиси – светоустойчивы, крепки и долговечны, цвета на иконе смотрятся ярко и насыщенно. У них много достоинств, особенно при умелом обращении и богатом опыте. Часто возникают ситуации, когда применение темперы ПВА логично и оправданно.
Натуральные минеральные пигменты
Но всё же, мы предпочитаем писать теми же красками, что и писали многие поколения иконописцев до нас, природными натуральными пигментами. Минералы, полудрагоценные камни, охры, земли вручную перетертые курантом и замешанные на желтке.
|
|
|
Манипулируя тонкостью помола, из одного и того же минерала можно получить разный по насыщенности цветовой тон. Натуральными пигментами получаются более прозрачные и нежные плави. Эти краски не увядают с веками, радуя нас естественной красотой и многообразием природной палитры. Очень сложно сделать качественный список с древней иконы, не используя такие же материалы и технику письма, какими создавался оригинал.
Иконопись. Техника написания икон
Техника написания иконы. Как это делается? Берется доска, на нее наносится левкас, то есть основа. Доска становится беленькая-беленькая. Все зашкуривается, наносится. Потом прорисовывается сам рисунок и контуры. Это все еще сама подготовка. А потом начинается, собственно говоря, волшебство.
Берется темперная краска. Иконы пишутся темперой. Маслом тоже сейчас пишут. Например, роспись Храма Христа Спасителя – сплошь масло. Вообще-то надо темперой писать, почему же расписали маслом? Потому что изначально так было. Храм ведь восстанавливали. И восстановили его в том виде, в каком он был до разрушения. Там старались все сохранить. А так-то, по идее, темперой должны писать.
Так вот, темперная краска – что это такое? Берется пигмент какого-то цвета. Либо камень какой-то, либо что-то в виде порошка или в виде куска камня, который нужно тереть, измельчать. В общем, берется этот пигмент, порошок красящий, эмульсия, не важно. Представьте себе, Вы пишете акварельной краской. Ведь это примерно то же самое, что акварель. Если Вы возьмете кисточку, в акварельную краску окунете и по клетчатой тетрадке проведете, то у вас клеточки будут просвечивать, правда? Потому что акварель ложится тонким слоем. Так и здесь.
Темпера тоже ложится очень-очень тоненько, прозрачным слоем. Иконописец наносит темперную краску, не стараясь делать это ровным слоем, так, как делают маляры на наших стенах в офисах, домах. Ведь там важно, чтобы слой краски был ровный. А здесь наоборот все. В иконописи важно, чтобы краска была неровная. Поэтому иконописец в хаотическом порядке, направо, налево наносит краску и всю икону закрашивает одним слоем.
Сначала берется охра. Цвет охры – желто-коричневый. Краска наносится, где-то она не легла, где-то легла два раза, неважно. Иконописец все покрывает охрой, она служит основой. Потом он может еще раз покрыть охрой, потом еще раз. Он кладет несколько слоев охры – один, два, три слоя, как ему захочется. Иконописец тонко покрывает доску и потом начинает прописывать уже все детали, то есть элементы облачения, еще что-то, какой-то пейзаж, – то, что там есть.
В общем, начинает накладывать цвета, но цвета все прозрачные. То, что мы видим в итоге, когда икона уже готова – это не та краска, которую он последней положил. Это результат сложения всех цветов, которые были наложены, потому что они все просвечивают, все насквозь светятся. Поэтому икона, когда она действительно настоящая, буквально как живая.
Это просто потрясающая игра красок, игра цвета, света. Икона живет, изнутри нее какая-то энергетика идет. Отчего? Такова методика нанесения самого изображения. То есть верхний слой – это не то. Мы видим не верхний слой, а результат сложения многих-многих слоев.
Потому что, например, чтобы получить зеленый цвет, могли положить синий и сверху желтый. В итоге мы видим зеленый, но на самом деле там синий и желтый цвета.
Возьмем старые иконы, например, Божьей Матери. На ней верхняя одежда темно-красного, бордового даже цвета, а нижняя одежда – темно-темно синяя. Такой темно-синий цвет получали путем многократного нанесения двух красок: чередовали черную и белую. Черную и белую краску наносят в много-много слоев, она потом начинает синеть. Как-то добивались такого эффекта. Причем, черная краска – это простая сажа из печки. Вот, пожалуйста, так делали.
Надо сказать, что синий цвет – это самый дорогой цвет из всех на древних иконах, потому что трудно было достать синеву. Не было красителя, не было пигмента. Поэтому синий цвет добывали таким образом. Складывали несколько цветов, чтобы они в совокупности дали синий цвет.
Если есть рядом у Вас древние храмы, зайдите внутрь. Там, если сохранилась роспись двенадцатого-тринадцатого века, и Вы видите, что фон синий, голубой, то это значит, кто-то из доброхотов очень хорошо вложился в роспись храма. Значит, это очень богатый храм, потому что такой голубизны, голубого цвета, было очень мало, он был очень дорогой.
В Третьяковской галерее есть подлинник иконы «Святая Троица» Андрея Рублева и «Спас в силах», «Звенигородский Спас». Там целый ряд таких икон, которые, действительно, являются шедеврами русской иконописи. И Владимирская икона Божьей Матери там есть, но она в храме наверху, в Третьяковке.
Если посмотреть на эти иконы близко-близко, можно рассмотреть, как художник наносил краски, какой кисточкой работал. Там все видно. Видно даже, какой толщины была кисточка. Представляете, икона «Спас в силах» такая огромная, наверное, три на четыре метра, а кисточкой писалась обычной, какой школьники рисуют. Это толщина кисти была! Вот такой кистью писал художник.
Источник статьи: https://zen.yandex.ru/media/id/5cfe2efbaff15000afe582ae/ikonopis-tehnika-napisaniia-ikon-5d84c0182fda8600adc8aa7d
Олифа и лак
На финальной стадии, икона несколько часов пропитывается льняной олифой, она связывает левкас и красочный слой, икона становится монолитной и долговечной. Олифа приводит краски к единству общего тона, придает им глубину, объединяет цвета золотистой теплотой. После высыхания олифы икону можно дополнительно покрыть лаком.
Мира вам и добра.
Можно ли писать иконы простому художнику?
Грунт. Грунт — левкас представляет смесь столярного клея с мелом. Для грунта используется клей более крепкий, чем для проклейки доски. В нынешнее время часто используются и иные по составу грунты, в частности акриловые, качество которых превосходит качество мелового грунта.
5. Позолота. Если икона должна иметь позолоченный фон, или другие элементы, то позолота выполняется перед нанесением красочного слоя. Обычно слой позолоты не покрывается лаком, но в отдельных случаях, обычно когда имеется позолоченный фон, часть позолоты может быть под слоем лака.
6. Красочный слой. Или слой живописи. В иконописи традиционно используется яичная темпера. Краски натуральной яичной темперы приготовляются из натуральных пигментов и яичной эмульсии.
7. Защитный слой. После того как икона написана ее необходимо предохранить от неблагоприятных воздействий внешней среды, для чего
живописный слой покрывается тонким слоем олифы или специального лака.
Кроме расположения слоев иконе присуща традиционная форма доски и ее особенности.
Иконная доска (Рис. 2) обычно укреплена шпонками (1), для защиты ее от коробления при изменениях температуры и влажности. На лицевой поверхности изображение обрамлено «полями» (2). Само изображение располагается в «ковчеге» (4), который углублен на 2-4 мм относительно полей. Переход между полями и ковчегом получил название «лузги». Ширина перехода обычно около 5-10 мм.
Ковчег является неотъемлемой конструкцией древних икон, сознательно исполняемой мастероми. Не случайно получив свое название, он напоминает молящимся как о ветхозаветном Ноевом ковчеге — месте спасения человечества во время всемирного Потопа, — так и о Ковчеге Завета, хранившем Скрижали завета Бога с людьми. Икона становится напоминанием христианину о его будущем Спасении, установлении на Земле Нового Завета Бога с людьми.
Иконопись — есть часть жизни Церкви, поэтому иконописец должен обладать церковным пониманием вещей, что совершенно невозможно, если он не посещает богослужения и не участвует в жизни Церкви. Иконы, написанные таким иконописцем, будут обычными копиями, — пусть даже хорошими, но часто лишенными духовного содержания, присущего иконам, написанным иконописцами не только называющими себя таковыми, но и исполняющими требования указанные в 43 главе Стоглава, где пишется, что иконописцу необходимо быть: «смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистнику, не пьянице, не грабежнику, не убийце; особенно хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением, и подобает живописцам часто приходить к отцам духовным и во всем с ними совещатися, и исповедыватися, и по их наставлению и учению жити в посте, молитве и воздержании со смирением». Мало кто из нынешних, считающих себя иконописцами людей, хоть немного соответствует этим требованиям. Поэтому, избрав ремесло иконописца, необходимо всеми силами стремиться быть достойным этого, подражать древним мастерам, достигшим совершенства не только в написании икон, но и духовного совершенства.
Работая над иконой, необходимо не забывать о молитве, так как основное назначение иконы — способствовать молитве, молитва во время работы над иконой поможет преодолеть многие трудности. Кроме того, следует помнить и слова пророка Иеремии «проклят человек, творяй дело Господне с небрежением» (Иер. 48, 10).
Для вашего удобства мы разделили данный раздел сайта на 3 части:
Этапы написания иконы
Иконопись – явление своеобразное и довольно сложное. Различают разнообразные виды иконы: мерная икона, аналойная, семейная и т.д. Вне зависимости от вида иконы, иконописец должен соблюдать определённые правила, выдерживать принятую последовательность при работе. Традиционная техника написания иконы складывалась в течение двух тысячелетий. Сам процесс изготовления иконы трудоемкий и длительный, в нем соблюдается определенная строгая последовательность: начинается все с подготовки доски – основы, затем приготавливаются краски, выполняется золочение, после чего происходит сам процесс иконописи и покрытие иконы олифой.
Интересно, что все эти этапы написания иконы носили на Руси название «ремесла», так как каждый этап выполнял отдельный мастер. При всей сложности технологии написания икон, необходимо особо подчеркнуть, что иконопись не сводится только к ремеслу. Иконопись – «умозрение в красках», «богословие в красках». Икона – это предмет мистический, это таинственное явление духовной сущности в материальном мире. Икона — посредник, мостик между миром дольним и миром Горним… Писать иконы может далеко не каждый, пусть даже и высокопрофессиональный, художник. Иконопись требует веры и просвещенности мастера учением Православной Церкви. Каждый настоящий иконописец должен быть православным христианином, иметь священническое благословение на свою деятельность и жить духовной жизнью, особенно в период написания иконы, – поститься, молиться, исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн в Таинстве Евхаристии.
Этапы создания иконы:
1. Доска.
Как правило, для изготовления основания иконы используются такие породы дерева, как липа, сосна, ель, на юге – кипарис. Для предохранения доски от коробления делаются специальные шпонки. Если доска не цельная, то она должна быть собрана из отдельных досок и очень хорошо проклеена натуральным клеем. После склеивания и высыхания в икону врезаются шпонки. На лицевой стороне иконы выдалбливается небольшое углубление – «ковчег». В первую очередь, «ковчег» имеет богословское обоснование, символизируя ковчег спасения и глубину духовного измерения. А также «ковчег» имеет практическую пользу, уберегая изображение от повреждений. Скос, ребро, образуемое между двумя уровнями доски – «ковчегом» и полями называется лузгой.
2. Грунтовка доски.
Когда доска готова, мастер приступает к грунтовке, левкашению, на доску наносится левкас. На поверхность доски, пропитанную клеем, наклеивается павалока – кусок льняной или хлопчатой ткани. Предварительно ткань замачивают в клее и лишь после этого приклеивают на доску. Доска должна после этого хорошо просохнуть. Следующим шагом становится нанесение левкаса, основой которого является известняковый мел. Мел предварительно просеивается до чистого состояния. Левкас готовится из клея, воды, мела, при помощи тепловой обработки, варения. Выстоянный левкас в течение суток пригоден для нанесения на саму доску. Количество слоев достигает пятнадцати. Мастер должен следить за тем, чтобы слои были тонкие и ровные. После третьего слоя левкас выравнивают пемзой или шкуркой.
3. Рисунок.
Следующим этапом является рисунок. Рисунок исполняется кистью или углем по просохшему левкасу. Таким способом пользовались древние мастера и пользуются до сих пор некоторые мастера, имеющие за плечами богатый опыт иконописания. В большинстве случаев иконописец пользуется прорисями. Прорись – это переводимый через кальку рисунок, который выполняется на бумаге, а затем переводится на доску при помощи точечного прокалывания контуров изображения, а затем методом припороха.
4. Золочение.
Далее мастер приступает к золочению. Рисунок процарапывается оп контуру, левкас, который окажется под золотом, тщательно полируется. Мастер со всей аккуратностью работает с хрупкими листками сусального золота. Золото может отличаться в цветовых оттенках, в зависимости от примесей другим металлов и пробы.
5. Эмульсия.
Приготовление эмульсии производится с применением желтка куриного яйца. Краски, затертые на желтке, не смываются водой. Используются также активные эмульгаторы масел, чтобы вода и масло не отделялись друг от друга. В качестве разбавителя подходит хлебный квас, сухое белое вино или разбавленный винный уксус.
6. Краски.
В иконописи мастер изготавливает краски зачастую сам из природных минеральных пигментов, но также может использовать и современные пигменты химического производства. Пигменты измельчаются, перетираются, и добавляется эмульсия. Когда краски готовы, мастер переходит непосредственно к живописи.
7. Живопись.
Для иконописи характерна многослойная, лессировочная техника последовательной живописи. Каждый из уровней, этапов прописывания имеет свое богословское значение. Роскрышь, высветление и, наконец, охрение. В последнюю очередь тщательно прописывается лик святого, завершается процесс подрумянкой и нанесением таких мазков как оживки и движки. Они – небольшие прикосновения кисти в самых светлых местах. Оживки называются так потому что оживляют лик, символизируют отблески Божественного света. Затем следуют такие завершающие приему как приплеск и проплавка, что объединяет оживки и охрение. Затем наносятся тончайшие лессировочные слои, сквозь них просвечивает уже написанный лик. Окончательная опись, обведение контуров рисунка кистью, подводит иконописный процесс к завершению. Икона считается полностью завершенной, когда мастер уже выписывает буквы имени святого.
8. Олифа.
После всех проведенных работ разогретая икона покрывается олифой. Олифа предназначена для защиты иконы от влаги, пыли, а также для укрепления красочных слоев и улучшения цвета.

Обучение иконописи
Иконопись – это вид живописи, обладающий своей эстетикой, приёмами, технологией. В данной статье основное внимание я уделяю эстетико-ремесленному началу в иконописи. Для создания совершенного образа, по возможности, нужно овладевать и совершенной формой. Кроме овладения ремесленными навыками необходимо воспитывать художественный вкус, почаще созерцать шедевры русской и мировой иконописи, находящихся в музеях, что, к сожалению, доступно не всем. Часто репродукции икон грешат искажением цвета, сами иконы бывают в плачевном состоянии. Для обучения необходимы, конечно, хорошие альбомы, репродукции, лучше фотографии фрагментов, сделанные в музеях, которыми обладают серьёзные иконописные школы.
После элементарных упражнений, описанных в предыдущей статье – горки, архитектура, вода, деревья, можно приступить к письму античных одеяний святых, поизучать систему пробело́в на складках. Основные приёмы создания иконописной оптической системы: роскрышь, притенение, высветление, опись, лессировка. Часто учащиеся вместо постоянных упражнений желают узнать какие-то «секреты» или «особые технологии», которых не существует. Лучше хорошо выполнить простую задачу, например, многократно написать рукав, или другой фрагмент одеяний, чтобы он выглядел убедительно. Упражнения можно делать на залевкашенной натянутой бумаге или оргалите, неудавшиеся моменты надо научиться счищать скальпелем. Роскрышь, т. е. пятно цвета на одеждах, набирается плотнее, чем горки, но с некоторой долей прозрачности. Пробела́ имеют ступенчатый характер, достигая в некоторых древнерусских иконах до пяти ступеней. Они должны чётко отделяться друг от друга, иметь свою логику построения объёма. Начинаются пробела́ не чистыми белилами, в них может подмешиваться цвет роскрыши или другой пигмент. На сиреневом цвете часто делаются холодно-синие пробела́, такой цвет дают смесь белил и чёрного. Пробела́ в последних фазах достигают полной плотности, в средних – более прозрачно, сквозь них может просвечивать цвет одежд. С теневой стороны объём моделируется «притенениями» – тонкими, прозрачными, лессировочными слоями краски, цвета немного темнее роскрыши. Завершается построение формы описями и белильными тонкими мазками. Описи создают теневую «глубину», они имеют разную интенсивность, с теневой стороны – темнее. Необходимо научиться в поисках выразительности спокойно «мять» материал, менять пропорции, цвета, двигать какие-то детали, что-то счищать частично или полностью. Исправления рисунка видны на древних иконах, никакой «графьёй» старые мастера не пользовались. Процарапывание контура делается при золочении, чтобы при нахлёстывании золота не потерять силуэт. Техника построения объёма в иконе многослойная, слои подсушиваются, работа «по сырому» не ведётся.
При написании многоцветных праздников важно гармонично подобрать цвета, постепенно уточняя их, всегда лучше начинать бледно, чем потом счищать слои скальпелем. В искусстве иконописи многое зависит от внутренней культуры человека, его эстетических принципов и ремесленно-художественных навыков, умение выбирать из всего огромного материала самое выразительное. Все цвета на иконе поддерживают друг друга, сам по себе цвет вообще не существует, какой нибудь охристый цвет рядом с синим выглядит ярко-оранжевым, а грязно-зелёный рядом с красным становится весьма ярким. Можно делать колеровку на бумаге, приставляя кусочек колерованной бумаги к другим цветам. Важно не задерживаться на каком-то одном этапе, а попробовать проработать чётко наиболее понятный элемент иконы. Начать писать описи, пробела́, затем опять перейти к уточнению цвета, тогда станет виден дальнейший путь работы. Конечно, мастерство достигается большим трудом и практикой. Чётко определённой последовательности написания иконы я не придерживаюсь.
Последовательность написания икон
Иногда начинаю с проработки лика, иногда – одеяний. Укладывать золото, в некоторых случаях, приходится также после определения основных цветовых пятен и силуэта, который в карандашном рисунке не всегда понятен. Карандашный рисунок я не обвожу тёмной краской, как делают многие иконописцы, наношу цвета не так плотно, чтобы рисунок просвечивал сквозь роскрышь, затем намечаю складки, пробела́, снова уплотняю общий тон, иногда меняя, уточняя предварительный рисунок. Часто применяю лессировку – это покрытие тонким слоем краски уже написанных частично или полностью фрагментов иконы. Этот приём обобщает дробно написанные детали. Применяю его и в письме ликов. Начинаю с наиболее понятных мест иконы, дальнейшее решение образа приходит постепенно. Важно научиться принимать волевые решения и продвигать работу, не зацикливаясь на каком-то этапе.
Нанесене ассиста
Последняя стадия создания иконы – нанесение золотых штрихов на ассист. Липкое вещество – чесночный сок, винилик – синтетический материал. Я пользуюсь виниловым незасыхающим лаком “goldsize”. Готовую икону лучше подсушить несколько дней. На места, где будет ассист, нанести мел хорошего качества, слегка втирая его кисточкой, для обезжиривания. Аккуратно нанести клеящее вещество штрихами и пятнами. Затем можно наносить золото, нарезая его небольшими кусочками и перенося и приминая его хлебным мякишем. Останутся золотые штрихи, в тех местах, где был нанесён винилик. Надпись я компоную на кальке, затем передавливаю ручкой без пасты на золотой фон. По золоту можно писать акриловой краской или темперой ПВА. Место, где будет надпись, покрываю акриловым лаком, краска по нему хорошо ложится. Золото покрывается прозрачным лаком, икона олифится.
Готовая икона покрывается натуральной олифой с сиккативом, поскольку синтетический лак и разбавители выбеливают желток. Эта операция также может превратиться в проблему и требует навыка. Сырая олифа без сиккатива долго сохнет и на неё может налипнуть пыль. Я пользуюсь покупной немецкой олифой, разбавляя сырой натуральной. Также можно протомить натуральную олифу с ацетатом кобальта, который является сиккативом, т. е. убыстряет процесс высыхания. Томят в духовке 3–4 часа. Покрываю икону кистями не за один раз. Руками особо не разглаживаю, потому что можно ободрать ассист и краску. Лучше всё это пробовать на каком-либо ненужном эскизе, который не жалко испортить.
Процесс написания иконы
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|