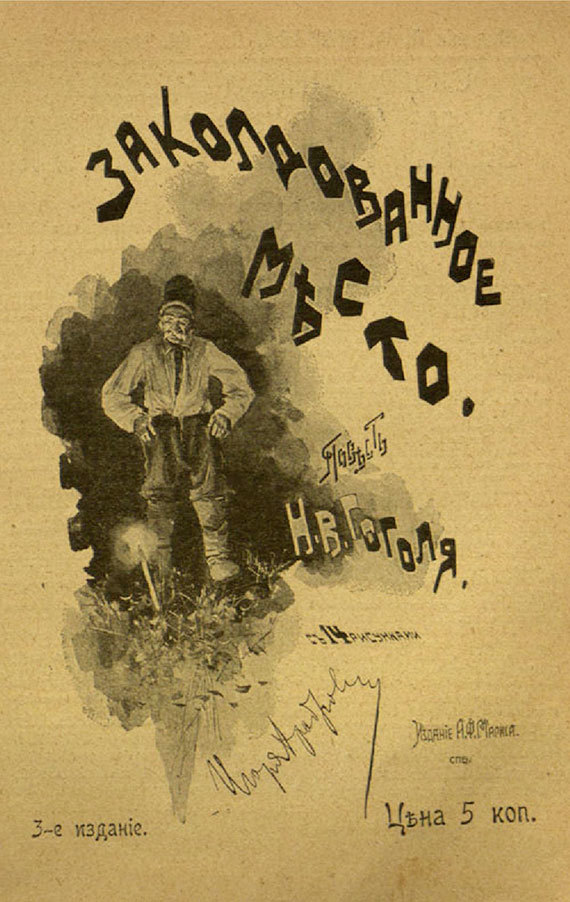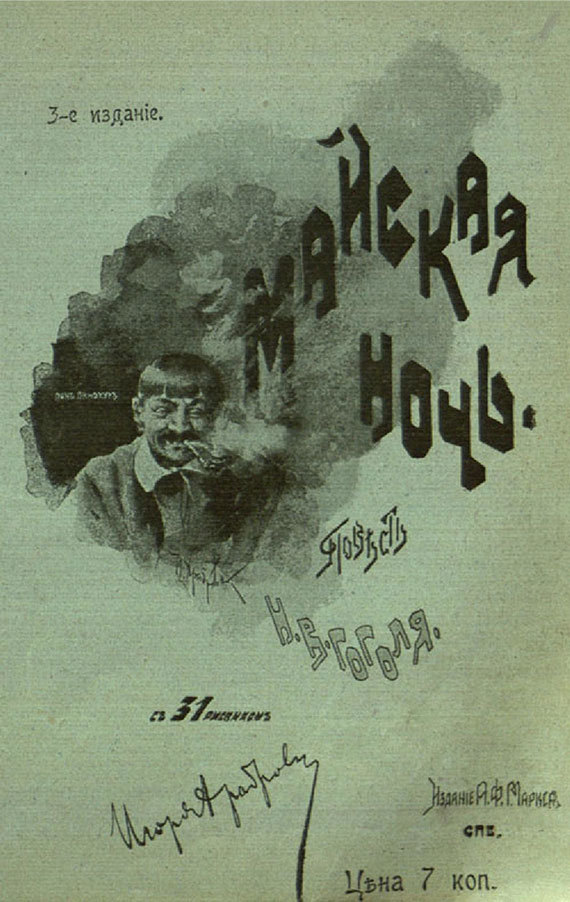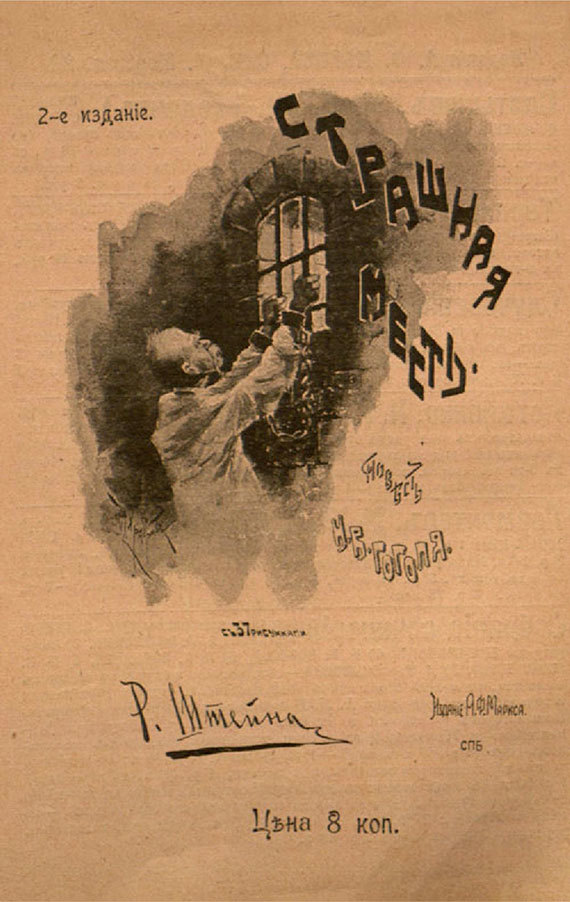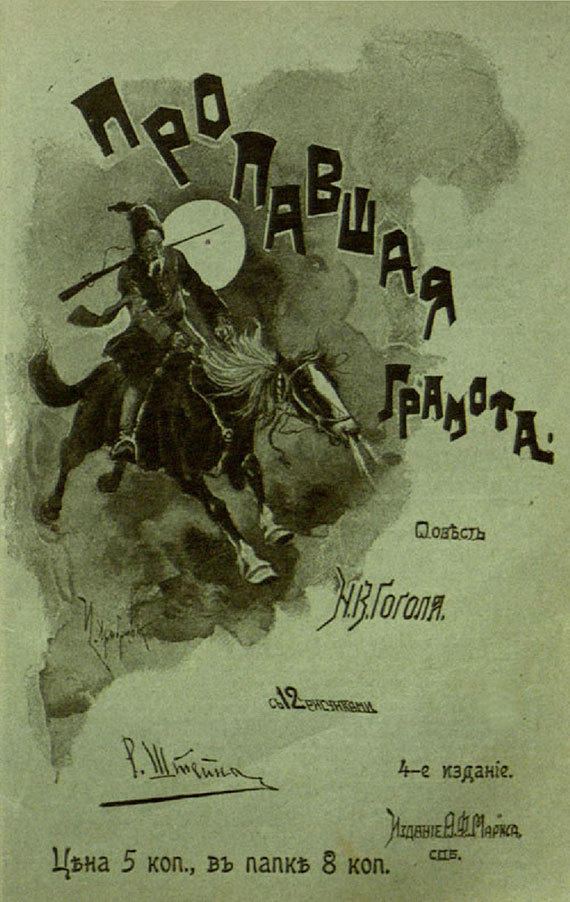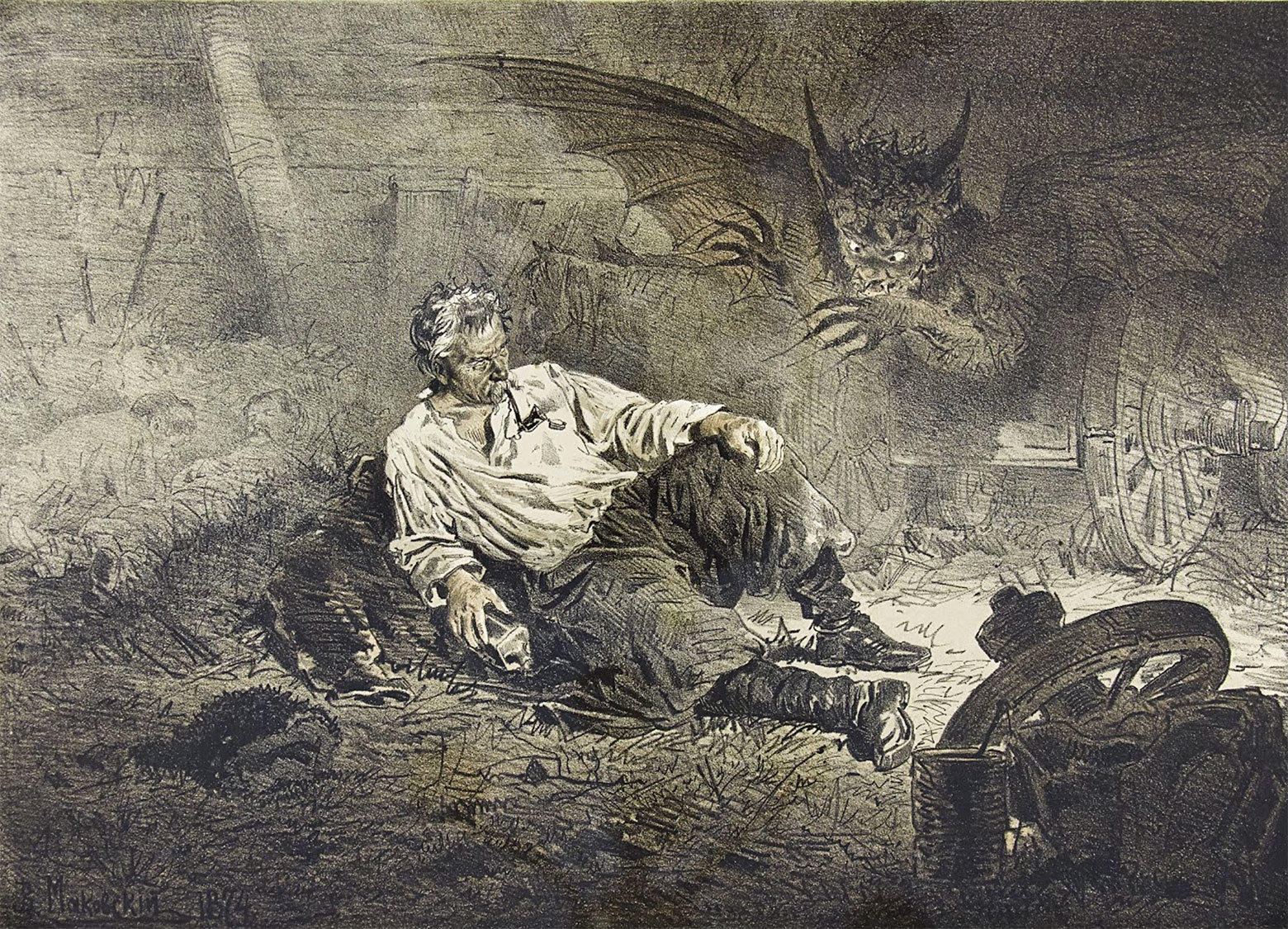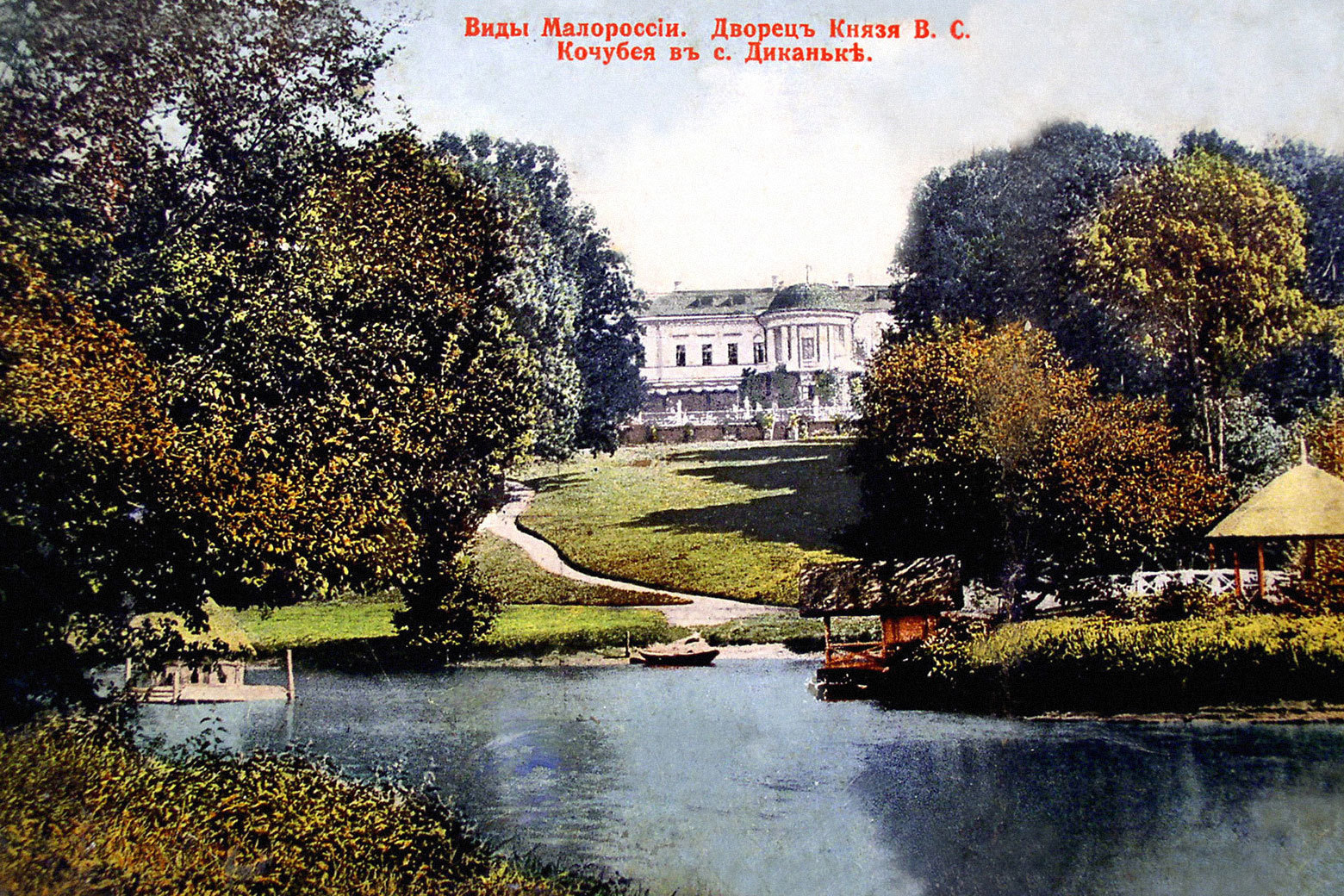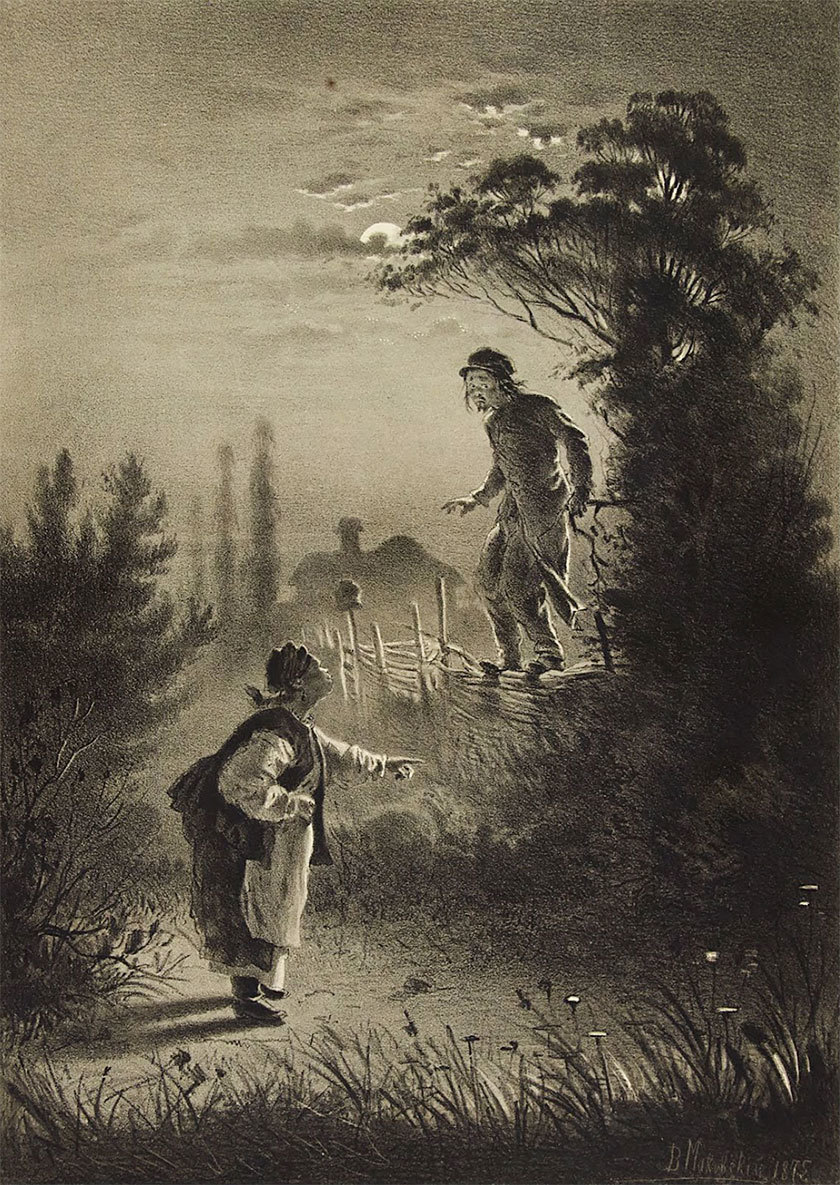Вечера на хуторе близ Диканьки (сборник)
- Вечера на хуторе близ Диканьки (сборник)
-
Вечера́ на ху́торе близ Дика́ньки — первая книга Николая Васильевича Гоголя (исключая поэму «Ганц Кюхельгартен», напечатанную под псевдонимом). Состоит из двух томов. Первый вышел в 1831, второй — в 1832 году. Рассказы «Вечеров» писались в 1829—1832 годах. Рассказы книги якобы собирались пасичником Рудым Паньком.
Содержание
- 1 Содержание сборника
- 2 Структура произведения
- 3 Гоголь о своем произведении
- 4 Примечания
- 5 Ссылки
Содержание сборника
- Первая книга
- Сорочинская ярмарка
- Вечер накануне Ивана Купала
- Майская ночь, или утопленница
- Пропавшая грамота
- Вторая книга
- Ночь перед рождеством
- Страшная месть
- Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка
- Заколдованное место
Структура произведения
Действия произведения свободно переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в XVII («Вечер накануне Ивана Купала»), а затем в XVIII («Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII («Страшная месть»), и опять в XIX («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). Окольцовывает обе книги рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича — лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах произведения, пребывая в некой духовной и исторической слитности.
Гоголь о своем произведении
Составляя в 1842 году первое собрание собственных сочинений, Гоголь написал для него предисловие. В нем он так отозвался о «Вечерах на хуторе близ Диканьки:[1].
«Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строго внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключать их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности».
Примечания
- ↑ И. Залотусский Жизнь Замечательных Людей. ГОГОЛЬ. — Москва: Молодая Гвардия, 1984. — С. 132.
Ссылки
Произведения Николая Васильевича Гоголя
Поэмы Ганц Кюхельгартен · Мёртвые души Повести и
рассказы«Вечера на хуторе близ Диканьки» (Сорочинская ярмарка · Вечер накануне Ивана Купала · Майская ночь, или утопленница · Пропавшая грамота · Ночь перед Рождеством · Страшная месть · Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка · Заколдованное место) · «Миргород» (Старосветские помещики · Тарас Бульба · Вий · Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем) · «Петербургские повести» (Невский проспект · Нос · Портрет · Шинель · Записки сумасшедшего) · Коляска Драматургия Женитьба · Ревизор · Игроки · Утро делового человека · Тяжба · Лакейская · Отрывок · Театральный разъезд после представления новой комедии Публицистика Женщина · «Борис Годунов», поэма Пушкина · О поэзии Козлова · Скульптура, живопись и музыка · О средних веках · О преподавании всеобщей истории · Взгляд на составление Малороссии · Несколько слов о Пушкине · Об архитектуре нынешнего времени · Ал-Мамун · Жизнь · Шлецер, Миллер и Гердер · О малороссийских песнях · Мысли о географии · Последний день Помпеи · О движении народов в конце V века · О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году · Петербургские Записки 1836 года · Рецензии из «Современника» · Рецензии, не вошедшие в «современник» · Рецензия для «Москвитянина» (Утренняя заря) · О Современнике · Выбранные места из переписки с друзьями · О сословиях в государстве · Авторская исповедь · Размышления о Божественной Литургии Несохранившееся
и отрывкиВладимир третьей степени · Рим · Ночи на вилле · Альфред · Гетьман · «Страшный кабан» (малороссийская повесть) · Отрывки на неизвестных пьес · Наброски плана драмы из украинской истории · Страшная рука · Фонарь умирал · Дождь был продолжительный · Рудокопов · Семён Семёнович Батюшек · Девицы Чабловы · Что это? Прочее Италия · «Арабески» · Приложения к «Ревизору» · Учебная книга словесности для русского юношества · Письма
Wikimedia Foundation.
2010.
Полезное
Смотреть что такое «Вечера на хуторе близ Диканьки (сборник)» в других словарях:
-
Вечера на хуторе близ Диканьки (значения) — Вечера на хуторе близ Диканьки: Вечера на хуторе близ Диканьки сборник повестей Николая Васильевича Гоголя, вышедший в 1831 1832 годах. Вечера на хуторе близ Диканьки (фильм, 1961) экранизация повести «Ночь перед Рождеством» из… … Википедия
-
Вечера на хуторе близ Диканьки (Гоголя) — повести, изданные пасичником Рудым Паньком . Первый сборник повестей Г. в двух разновременно вышедших книжках (Т. 1 й 1831 г. Т. 2 й 1832 г., Спб.), которым безвестный еще Г. выступал на литературное поприще. За исключением Вечера накануне Ивана… … Словарь литературных типов
-
Сборник рассказов — «Ночные рассказы» Э. Т. А. Гофмана (1817) Сборник рассказов отдельное издание группы рассказов … Википедия
-
Миргород (сборник) — «Миргород» (февраль, 1835) сборник повестей Николая Гоголя, который позиционируется как продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Повести в этом сборнике основаны на украинском фольклоре и имеют много общего между собой. Считается, что … Википедия
-
Арабески (сборник) — Арабески Обложка издания 1835 года … Википедия
-
Гоголь Николай Васильевич — (1809 1852), русский писатель. Литературную известность Гоголю принёс сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831 32), насыщенный украинским этнографическим и фольклорным материалом, отмеченный романтическими настроениями, лиризмом и юмором.… … Энциклопедический словарь
-
ВИА Гра — Жанры поп музыка европоп евродэнс данс поп AC Годы 2000 настоящее время … Википедия
-
Екатерина II — У этого термина существуют и другие значения, см. Екатерина II (значения). Екатерина II Великая … Википедия
-
Ани Лорак — В Википедии есть статьи о других людях с именем Каролина (имя). У этого термина существуют и другие значения, см. Ани. Ани Лорак Ані Лорак … Википедия
-
ГОГОЛЬ — Н. В. Гоголь. Портрет . Худож. Ф. А. Мюллер. 1841 г. (ГТГ) Н. В. Гоголь. Портрет . Худож. Ф. А. Мюллер. 1841 г. (ГТГ) Николай Васильевич (20.03.1809, мест. Сорочинцы Миргородского у. Полтавской губ. 21.02.1852, Москва), писатель. Прадед Г. был… … Православная энциклопедия
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
Вечера на хуторе близ Диканьки
Из Википедии — свободной энциклопедии
«Вечера́ на ху́торе близ Дика́ньки» (рус. дореф. «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки») — первая книга Николая Васильевича Гоголя (исключая поэму «Ганц Кюхельгартен», напечатанную под псевдонимом). Состоит из двух томов. Первый вышел в 1831, второй — в 1832 году. Рассказы «Вечеров» Гоголь писал в 1829—1832 годах. По сюжету же рассказы книги якобы собрал и издал «пасичник Рудый Панько».
Структура произведения
Действие произведения свободно переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в XVII («Вечер накануне Ивана Купала»), затем в XVIII («Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством»), после вновь в XVII («Страшная месть»), а потом опять в XIX («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). Окольцовывают обе книги рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича — лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах произведения, пребывая в некой духовной и исторической слитности.
Часть первая
- Сорочинская ярмарка
- Вечер накануне Ивана Купала
- Майская ночь, или Утопленница
- Пропавшая грамота
Часть вторая
- Ночь перед Рождеством
- Страшная месть
- Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка
- Заколдованное место
Отзывы
Отзыв А. С. Пушкина: «Сейчас прочёл Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.. Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился…»[1].
Поэт Евгений Баратынский, получив от 22-летнего Гоголя экземпляр повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» с автографом, написал в апреле 1832 года в Москву литератору Ивану Киреевскому: «Я очень благодарен Яновскому за подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Ещё не было у нас автора с такою весёлою весёлостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нём виден наблюдатель, и в повести своей „Страшная месть“ он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает моё чувство к Яновскому».
Составляя в 1842 году первое собрание собственных сочинений, Гоголь написал для него предисловие. В нём он так отозвался о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»[2]:
Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строго внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключать их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности.
В. Г. Белинский: „ Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому не известны его Вечера на хуторе близ Диканьки? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности! Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды… “
Экранизации
- 1912 год — фильм Владислава Старевича «Страшная месть». Не сохранился.
- 1913 год — немое кино режиссера Владислава Старевича «Ночь перед рождеством». Сам фильм есть в Википедии.
- 1938 год — фильм Николая Экка «Сорочинская ярмарка».
- 1940 год — фильм Николая Садковича «Майская ночь».
- 1944 год — фильм-опера «Черевички», экранизация одноимённой оперы П. И. Чайковского.
- 1945 год — мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг «Пропавшая грамота».
- 1951 год — мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг «Ночь перед рождеством».
- 1952 год — фильм Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница».
- 1961 год — фильм Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки».
- 1968 год — фильм Юрия Ильенко «Вечер накануне Ивана Купалы». Версия на Ютубе.
- 1972 год — фильм Бориса Ивченко «Пропавшая грамота».
- 1977 год — мультфильм Евгения Сивоконя «Приключения кузнеца Вакулы» по повести «Ночь перед Рождеством» текст читает Аркадий Евгеньевич Гашинский.
- 1979 год — мультфильм «Цветок папоротника» Аллы Грачёвой по повести «Вечер накануне Ивана Купалы».
- 1983 год — фильм-фантазия режиссёра Юрия Ткаченко «Вечера на хуторе близ Диканьки».
- 1988 год — мультфильм Михаила Титова «Страшная месть».
- 2001 год — кинокомедия-мюзикл Семёна Горова «Вечера на хуторе близ Диканьки».
- 2004 год — кинокомедия-мюзикл Семёна Горова «Сорочинская ярмарка».
- 2017 год — фильм «Гоголь. Начало»
- 2018 год — фильмы «Страшная месть» и «Вий»
- 2019 год — телесериал «Гоголь»
Примечания
- ↑ Пушкин A.С. - Письмо к издателю »Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», Вечера на хуторе близ Диканьки. Изд. второе. (Рецензия). gogol-lit.ru. Дата обращения: 16 августа 2019.
- ↑ И. Золотусский. Гоголь. — М.: Молодая гвардия, 1984. — С. 132. — (Жизнь замечательных людей).
Литература
- Данилов В. В. Влияние бытовой и литературной среды на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Сборник, изд. Новороссийским ун-том по случаю 100-летию рождения Н. В. Гоголя. — Одесса, 1909. — С. 99-120.
- Петров Н. И. Южно-русский народный элемент в ранних произведениях Гоголя // Памяти Гоголя: Научно-лит. сб. — К., 1909. — С. 53-74.
- Александровский Г. В. Историко-литературные комментарии к повестям Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». — К.; СПб.; Одесса, 1914. — 60 с.
- Пиксанов Н. К. Украинские повести Гоголя // Гоголь Н. В. Собр. соч. — М.; Л.: ГИХЛ. — Т. 1. — С. 33-75
- Пиксанов Н. К. Украинские повести Гоголя // О классиках. — М.: Моск. т-во писателей, 1933. — С. 43-148.
- Чапленко В. Фольклор в творчестве Гоголя // Литературная учёба. — 1937. — № 12. — С. 73-89.
- Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя // Труды отдела новой рус. лит. — М.; Л.: Изд. АН СССР, 1948. — Т. 1. — С. 9-38. / Институт рус. лит.
- Абрамович Г. Л. Народная мысль в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Учен. зап. Москов. обл. пед. ин-та. — 1949. — Т. XIII. — Вып. 1. — С. 3-53.
- Соколова В. К. Этнографические и фольклорные материалы у Гоголя // Сов. этнография. — 1952. — № 2. — С. 114—128.
- Державина О. А. Мотивы народного творчества в украинских повестях и рассказах Н. В. Гоголя // Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина. — 1954. — Т. XXXIV. — Вып. 3. — С. 3-83.
- Фомичев С. А. Литературный источник песни бандуриста в повести Гоголя «Страшная месть» // Русская речь. — М., 1957. — № 6. — С. 9-10.
- Айзеншток И. Я. Хронология написания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Известия АН СССР. ОЛЯ. — 1962. — Т. ХХI. — Вып. 3. — С. 252—262.
- Докусов А. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя: Лекция. — Л.: Ленинград. гос. пед. ин-т., 1962. — 44 с.
- Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. — М.; Л., 1966. — С. 61-70.
- Грамзина Т. А. Пейзаж «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Ученые зап. Волгоград. пед. ин-та. — 1967. — Вып. 21. — С. 151—167.
- Агаева И. И. Соотношение субъективного и объективного в «Вечерах на хутрре близ Диканьки» и «Миргороде» Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Азербайдженский пед. ин-т языков им. М. Ф. Ахундова. — Баку, 1971. — 21 с.
- Янушкевич А. С. Особенности композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Мастерство писателя и проблема жанра. — Томск, 1975. — С. 100—109.
- Гуляев Н. А. Некоторые спорные вопросы теории реализма: «Вечера…» Гоголя как «плод романтического миропонимания». // Проблемы русской филологии: Сб. трудов (Памяти проф. Ф. М. Головенченко) / МГПИ им. В. И. Ленина. — М., 1976. — С. 7-14.
- Немзер А. С. Трансформация волшебной сказки в «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя // Вопросы жанра и стиля в русской и зарубежной литературе. — М., 1979. — С. 30-37.
- Самышкина А. В. К проблеме гоголевского фольклоризма (два типа сказа и литературная полемика в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») // Русская литература. — 1979. — № 3. — С. 61-80.
- Смирнов И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») // Russian Literature. VІІ. — 1979. — S. 207—228.
- Мельниченко О. Г. Жест и слово в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Изв. Воронеж. гос. пед. ин-та. — 1983. — Т. 225. — С. 89-106.
- Чумак Т. М. Исторические реалии в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопросы русской литературы. — Львов, 1983. — Вып. 2. — С. 79-86.
- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературно-критическом восприятии 30-40-гг. ХІХ в. // Тезисы докл. 2-х Гоголевских чтений. — Полтава, 1984. — С. 24-25.
- Николаев Д. П. Пасичник Рудый Панько и вопрос о социальных истоках сатиры Гоголя // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. — 1984. — № 3. — С. 3-9.
- Анненкова Е. И. К вопросу о соотношении фольклорной и книжной традиции в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Фольклорная традиция в русской литературе. — Волгоград, 1986. — С. 42-48.
- Жаркевич Н. М. «Вечори на хуторі біля Диканьки» М. В. Гоголя в літературнокритичній інтерпретації 30-х-40-х рр. XIX ст. // Рад. літературознавство. — 1987. — № 3. — С. 42-47.
- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в критической интерпретации (конец 40-х — нач. 50-х годов ХІХ века) // Вопросы рус. лит.: Респ. межвед. науч. сб. — Львов, 1987. — Вып. 2 (50). — С. 42-48.
- Звиняцковский В. Я. Элементы исторического и фольклорного хронотопа в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде» Н. В. Гоголя // Пространство и время в литературе и искусстве. — Даугавпилс, 1987. — С. 67-68.
- Моторин А. В. Идейно-художественное единство «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. — Л., 1987. — 15 с.
- Чумак Т. М. Мотив побратимства в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопр. рус. лит. — Львов, 1987. — Вып. 2(50). — С. 54-59.
- Арват Н. Н. Описание как компонент структуры текста (повесть Н. В. Гоголя «Страшная месть») // Наследие Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 2. — С. 62-63.
- Душечкина Е. В. «Ночь перед Рождеством» и традиция русского святочного рассказа // Наследие Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 1. — С. 21-22.
- Евсеев Ф. Т. Поэтика «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя в ее отношении к народной сказке // Наследие Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 1. — С. 18-19.
- Коломиец Л. И., Майборода А. В. Этимологические разыскания к фразеологизмам произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Наследие Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 2. — С. 81-82.
- Нещерет Е. И. Стилистическая роль суффиксов субъективной оценки в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Наследие Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 2. — С. 93-94.
- Ходжоян А. С. Психологический анализ художественных образов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вестн. Ереван. ун-та. — 1988. — № 1. — С. 173—176. — Рез. арм. — Библиогр.: 7 назв.
- Арват Н. Н. Художественное пространство в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 101—103.
- Арват Н. Н., Ивасенко Л. А. Употребление односоставных предложений в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 74-75.
- Драгомирецкая Н. В. Художественное произведение как звено литературного процесса // Методология анализа литературного процесса. — М., 1989. — С. 123—137. В частности, анализируется «Майская ночь» Н.Гоголя.
- Коваленко В. Г. О фразеологических единицах в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность.- Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 71-72.
- Коломієць Л.І. Залишки язичництва, відбиті у фразеологічних одиницях твору М. В. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 44-45.
- Майборода А. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя — дыхание украинской стихии // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 45-46.
- Недилько О. Д. Обращение в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 75-76.
- Нещерет Е. И. Лексические средства создания эмоциональности в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 104—105.
- Радковская Э. В. Антропонимическое поле ранних повестей Н. В. Гоголя (на материале сб. «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Актуальные вопросы русской ономастики. — Киев, 1988. — С. 129—133.
- Шелемеха Г. М. Функціональне призначення звертань у «Вечорах на хуторі поблизу Диканьки» М. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 47-48.
- Арват Н. Н. Художественное время в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. 1. — С. 122—123.
- Барабаш Ю. Двосічний меч: перечитуючи «Страшну помсту» М.Гоголя // Київ. — 1990. — № 2. — С. 132—137.
- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературнокритической интерпретации 50-70-х годов // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. 1. — С. 113—115.
- Зверев А. Д., Тыминский М. В. Собственные имена в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 113—114.
- Звиняцковский В. Я. «Пасичник Рудый Панько»: К истории создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Русская речь. — М., 1990. — № 1. — С. 133—139.
- Киченко А. С. Народный календарь как элемент композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 60-62.
- Коваленко В. Г. Особенности лексического состава повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. 1. — С. 115—116.
- Кривонос В. Ш. Субъект повествования в повестях Гоголя (от «Вечеров» к «Миргороду») // Проблема автора в художественной литературе. — Ижевск, 1990. — С. 62-70.
- Крутикова Н. Е. Об «украинских повестях» Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 7-9.
- Лапшина О. М., Синицкий В. В. Художественное своеобразие повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 87-88.
- Мусиенко В. П. Нарушение меры — важнейший прием образного решения идеи в повести «Страшная месть» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 105—107.
- Мусий В. Б. Об особенностях фантастики в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вопросы рус. лит. — Львов, 1990. — Вып. 1(55). — С. 55-61.
- Нещерет Е. И. Гиперболизация как способ создания экспрессивности в повести Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота» // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. 1. — С. 123—124.
- Пащенко В. А. Проблема добра и зла в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 44-46.
- Сенько І. Перечитуючи «Страшну помсту» // Дзвін. — Львів, 1990. — № 7. — С. 130—137.
- Чумак Т. М. Фольклорные истоки повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. І. — С. 120—122.
- Дмитриева Е. Е. Стернианская традиция и романтическая ирония в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 1992. — Т. 51, № 3. — С. 18-28.
- Киченко А. С., Чебанова О. Е. Повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» и мофопоэтическая традиция // Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1992. — С. 111—113.
- Клочко Л. В. Стилистические функции однородных членов предложения в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1992. — Вип. 3. — С. 60-65.
- Шведова С. О. Театральная поэтика барокко в художественном пространстве «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Гоголевский сборник / Под ред. С. А. Гончарова. — СПб., 1993. — С. 4-41
- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературнокритической интерпретации 70-90-х гг. XIX в. (на материале культурно-исторической школы) // Гоголь и современность: Материалы науч. конф., посвящ. 185-летию со дня рождения писателя (24-25 мая 1994). — К., 1994. — С. 76-80.
- Краснобаева О. Д. Лирическое в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // Микола Гоголь і світова культура. — К.; Ніжин, 1994. — С. 89-91.
- Смирнов И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») // Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. — М., 1994
- Манн Ю. Усложнение романтического мира в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Манн Ю. Динамика русского романтизма: Пособие для учителей литературы, студентов-филологов и преподавателей гуманитарных вузов. — М.: Аспект-Пресс, 1995. — С. 324—330
Эта страница в последний раз была отредактирована 1 марта 2023 в 05:17.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Книга, которая ввела Гоголя в большую литературу: смесь реальности и фантастики, комедии и хоррора, сформировавшая канонический образ Малороссии для многих поколений русских читателей.
комментарии: Полина Рыжова
О чём эта книга?
Восемь повестей об украинской народной жизни, в которых реальность мешается с фантастикой, а комедия — с хоррором. Книга, изданная под именем малообразованного пасечника, стала для Гоголя пропуском в большую литературу, а для многих поколений читателей сформировала каноничный образ Малороссии. Чернобровые панночки, удалые парубки с чубом, аппетитные галушки и горилка — всё это мы живо представляем именно благодаря «Вечерам».
Когда она написана?
Гоголь начал писать «Вечера» в 1829 году: юный писатель совсем недавно переехал из Нежина в Санкт-Петербург, где терпит неудачи на актёрском поприще, а затем и на литературном — убитый язвительными отзывами, он выкупает все доступные экземпляры своей первой поэмы «Ганц Кюхельгартен» и сжигает. Спасительной оказывается идея написать что-нибудь на тему Малороссии. Он забрасывает мать просьбами прислать как можно больше подробностей о жизни на родине: как одеваются сельские дьячки и крестьянские девки, как справляют свадьбы, какие существуют народные поверья и предания. Гоголь берётся за тему не из-за ностальгии: в столице в это время бушует мода на всё украинское. Выпускаются книги («Малороссийская деревня»
Ивана Кулжинского
Иван Григорьевич Кулжинский (1803–1884) — писатель, публицист и педагог. Преподавал Гоголю латынь в Нежинской гимназии высших наук. Кроме того, в разные годы преподавал латынь и русскую словесность в Украинско-слободской гимназии, Институте благородных девиц и Харьковском университете, был директором нескольких гимназий.
, «Двойник, или Мои вечера в Малороссии»
Антония Погорельского
Алексей Алексеевич Перовский (1787–1836) — писатель, работал под псевдонимом Антоний Погорельский. Перевёл на немецкий «Бедную Лизу» Карамзина. Занимался ботаникой, три его публичные лекции на эту тему были изданы отдельной книгой. Участвовал в Отечественной войне 1812 года. Был близок литературному кружку арзамасцев. Воспитывал племянника — будущего писателя Алексея Константиновича Толстого. Автор сборника новелл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», написанной для племянника сказки «Чёрная курица, или Подземные жители», романа «Монастырка».
, «Сказки о кладах»
Ореста Сомова
Орест Михайлович Сомов (1793–1833) — критик, писатель, журналист. Служил столоначальником в правлении Российско-американской компании. Был арестован после восстания декабристов, поскольку в здании компании собирались члены Северного общества, но затем освобождён. Писал стихи, повести и рассказы по мотивам украинского фольклора. Вместе с Антоном Дельвигом издавал альманахи «Северные цветы» и «Подснежник». Был редактором «Литературной газеты». Автор трактата «О романтической поэзии», сыгравшего важную роль в становлении романтизма в русской литературе.
), ставятся оперы («Леста, днепровская русалка»
Николая Краснопольского
Николай Степанович Краснопольский (1774 — после 1813) — переводчик с немецкого языка. Переводил преимущественно театральные пьесы. Одна из самых популярных адаптированных им постановок — «Леста, днепровская русалка» — была переделкой пьесы «Дунайская русалка» австрийского драматурга Карла Фридриха Генслера. В своём либретто Краснопольский перенёс действие оперы в условно-сказочный мир Киевской Руси.
, «Пан Твардовский»
Алексея Верстовского
Алексей Николаевич Верстовский (1799–1862) — композитор и театральный администратор. Самым известным сценическим произведением Верстовского считается опера «Аскольдова могила» по роману Михаила Загоскина. В Москве она пользовалась большим успехом и шла больше 400 раз. По уровню востребованности у современников конкурировал с Михаилом Глинкой. После смерти Верстовского влиятельный музыкальный критик Александр Серов, вспоминая «Аскольдову могилу», отмечал, что «в отношении популярности Верстовский пересиливает Глинку».
, «Козак-стихотворец»
Александра Шаховского
Александр Александрович Шаховской (1777–1846) — драматург. В 1802 году Шаховской оставил военную службу и начал работу в дирекции Императорских театров. Его первой успешной комедией стал «Новый Стерн», спустя несколько лет поставлена комедия «Полубарские затеи, или Домашний театр», в 1815 году — «Урок кокеткам, или Липецкие воды». В 1825 году скомпрометированный связями с декабристами Шаховской ушёл из дирекции театров, но сочинительство продолжил — всего он написал более сотни произведений.
). Гоголь заканчивает работу над циклом к концу 1831 года — он успевает не только присоединиться к актуальному литературному тренду, но и, по сути, стать его лицом: со временем начинает казаться, что именно гоголевские «Вечера» открыли тему Малороссии в русской литературе.
Как она написана?
Очень по-разному. Повести «Вечеров» принадлежат нескольким жанрам: сказка-анекдот, сказка-новелла, сказка-трагедия. Гоголь намеренно располагает их в таком порядке, чтобы контраст между повестями выглядел ещё ярче: например, за лихой вертепной историей о кузнеце и чёрте («Ночь перед Рождеством») следует готическая легенда о жутком колдуне («Страшная месть»), а затем — нелепый рассказ о сватовстве великовозрастного поручика («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). В большинстве своём повести написаны простонародным языком с использованием колоссального количества украинских диалектизмов. На хуторе близ Диканьки, по выражению Андрея Синявского, «не могут связать двух слов, не помянув чорта, свата и брата или не увязнув в пришедших на ум невообразимых путрях и пундиках». Гоголевские рассказчики игнорируют не только литературные нормы, но порой и приличия, наполняя содержание повестей руганью, побоями, пошлыми интрижками и бестактными анекдотами («Господи Боже мой, за что такая напасть на нас грешных! и так много дряни всякой на земле, а ты ещё и жинок наплодил»). Наряду с этим здесь то и дело находится место для высокопарного слога («Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он»).
В «Вечерах» впечатляет не столько сюжет, сколько необычная живописность стиля. Это замечал Андрей Белый: сюжет у Гоголя «скуп, прост, примитивен в фабуле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в её красках, в её композиции, в слоговых ходах, в ритме». Эта живописность находит и прямые художественные аналогии: западные литературоведы нередко сравнивают стилистику «Вечеров» с картинами Иеронима Босха и Франсиско
Гойи
1
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 656.
. В частности, открывающая цикл «Сорочинская ярмарка» сопоставляется с картиной Питера Брейгеля Старшего
«Страна лентяев»
2
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 698.
: сквозь ощущение праздности и изобилия, так же как и у Гоголя, здесь всё отчётливее проступает чувство тревоги и страха.
Что на неё повлияло?
Во-первых, этнографические сведения, которые исправно высылала мать писателя по почте, а также комедии отца,
Василия Гоголя-Яновского
Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777–1825) — госслужащий, драматург и поэт. Отец Николая Гоголя. В 1812–1825 годах был директором и актёром домашнего театра царского вельможи Дмитрия Трощинского, для которого написал несколько водевилей и сказок, вдохновлённых украинским бытом. Самые известные — «Простак, или Хитрость женщины, перехитрённая солдатом» и «Собака-овца».
(некоторые цитаты из них стали эпиграфами к «Сорочинской ярмарке»). Во-вторых, книги на малороссийскую тему, которые Гоголь внимательно и методично изучал — в особенности для замысла писателя оказались важны «Русалка. Малороссийское предание» Ореста Сомова (1829) и «Энеида»
Ивана Котляревского
Иван Петрович Котляревский (1769–1838) — украинский поэт, драматург и переводчик. Самое известное произведение — поэма-бурлеск «Энеида», вольное переложение поэмы писателя Николая Осипова «Виргилиева Енеида, вывороченная наизнанку», которая, в свою очередь, была пародией на поэму Вергилия. Считается, что «Энеида» Котляревского стала произведением, определившим развитие украинской литературы на десятилетия вперёд. Во-первых, она задала моду на бурлеск как национальный стиль, во-вторых, способствовала переходу от староукраинского языка к современной украинской литературе, написанной на разговорном языке.
(последние её части были написаны в первой половине 1820-х). В-третьих, множество украинских песен, вертепных драм, быличек, сказок, легенд. Из народного фольклора Гоголь, к примеру, позаимствовал сюжеты поездки на чёрте, свидания чёрта с ведьмой, поисков цветка папоротника и мотив призрачности богатства, полученного от нечистой силы.
Украинский фольклор в «Вечерах» Гоголь скрещивает с эстетикой немецкого романтизма: важное влияние на писателя оказали литературные сказки Гофмана и
Людвига Тика
Людвиг Иоганн Тик (1773–1853) — писатель, поэт и переводчик, один из ключевых авторов немецкого романтизма. Написал роман «Странствия Франца Штернбальда», множество сказок, в том числе трёхтомные «Народные сказки Петера Лебрехта» — сборник переделок и подражаний средневековым историческим легендам.
. При этом нельзя сказать, что Гоголь первым догадался совместить романтические установки с украинским колоритом: к концу 1820-х годов Малороссия уже воспринимается литераторами как визитная карточка русского романтизма (конкурируя в этом качестве с Кавказом).
Как она была опубликована?
Самой первой в печати появилась повесть «Вечер накануне Ивана Купала» — она была опубликована в февральском номере «Отечественных записок» за 1830 год. Однако Гоголь остался недоволен многочисленными редакторскими правками
Павла Свиньина
Павел Петрович Свиньин (1787–1839) — писатель, редактор, журналист, дипломат и коллекционер. Первый издатель литературного журнала «Отечественные записки», автор исторических романов «Шемякин суд» и «Ермак, или Покорение Сибири». Многие современники в литературном сообществе относились к Свиньину снисходительно и попрекали за неискренность и стремление выслужиться. Например, Пётр Вяземский писал о нём в письме Александру Тургеневу: «Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи». Пушкин изобразил Свиньина в неоконченном памфлете «Детская книжка», написанном для «Литературной газеты»: «Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок: он не мог сказать трёх слов, чтоб не солгать».
и от дальнейших журнальных публикаций отказался. Зато благодаря дебюту в престижном издании начинающий писатель обзавёлся знакомствами в литературных кругах, теперь ему покровительствовал критик
Пётр Плетнёв
Пётр Александрович Плетнёв (1791–1866) — критик, поэт, преподаватель. Близкий друг Пушкина. Был учителем словесности в петербургских женских институтах, кадетских корпусах, Благородном пансионе, преподавал литературу будущему императору Александру II. С 1840 по 1861 год — ректор Санкт-Петербургского университета. Был редактором альманаха «Северные цветы» и журнала «Современник» после смерти Пушкина. В 1846 году продал «Современник» Николаю Некрасову и Ивану Панаеву.
, который и посоветовал объединить все повести фигурой вымышленного издателя (примерно в это же время к такому приёму прибегает Пушкин в «Повестях Белкина», а до него — Вальтер Скотт). Гоголь выпустил «Вечера» двумя книжками (первая вышла в сентябре 1831 года, вторая — в марте 1832-го). Любопытно, что книжную версию повести «Вечер накануне Ивана Купалы» Гоголь предварил специальным предисловием, где в шуточной форме дистанцировался от журнального варианта повести. Рассказчик Фома Григорьевич, слушая пересказ своей же истории из «небольшой книжечки», приходит в негодование: «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучый москаль. Так ли я говорил? Що-то вже, як у кого чорт ма клепки в голови». Впрочем, каких-либо других свидетельств жёсткой правки Свиньиным «Вечера накануне Ивана Купалы» не существует — автограф журнальной редакции повести не сохранился, а стилистическая переработка книжной версии в целом соответствует общей эволюции гоголевского
стиля
3
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 712.
.
«Заколдованное место». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год
«Майская ночь». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год
«Страшная месть». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год
«Пропавшая грамота». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год
Как её приняли?
Широко известен восторженный отзыв о «Вечерах» Александра Пушкина: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошёл в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот
рукою»
4
В письме Александру Воейкову, сентябрь 1831 года.
. На самом деле историю о наборщиках Пушкину рассказал в письме сам
Гоголь
5
В письме от 21 августа 1831 года.
:
Любопытнее всего было моё свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. <…> Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни.
Претензии в первую очередь предъявлялись Гоголю насчёт стиля. Об этом, в частности, рассуждал
Фаддей Булгарин
6
Булгарин Ф. Петербургские записки. Письма из Петербурга в Москву к В. А. Ушакову. Окончание второго письма / / Северная пчела. 1831. № 288. 18 декабря.
: «Прочёл предисловие — и утомился. Развёртываю в нескольких местах, и описательная проза с необыкновенным многословием ужасает меня. Не терплю многословия и длинного описания бугров и рощей».
Михаил Загоскин
Михаил Николаевич Загоскин (1789–1825) — писатель и драматург. В 1830-х годах получил известность как автор патриотических исторических романов «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и «Рославлев, или Русские в 1812 году» — самой популярной книги об Отечественной войне 1812 года до выхода «Войны и мира» Льва Толстого.
(со слов Сергея Аксакова) нашёл в гоголевском дебюте «неправильность языка, даже
безграмотность»
7
Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем / / Аксаков С. Т. Собрание сочинений: в 4 т. T. III. М., 1956. С. 153.
. Пожалуй, самый гневный отзыв принадлежал
Николаю Полевому
Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — литературный критик, издатель, писатель. С 1825 по 1834 год издавал журнал «Московский телеграф», после закрытия журнала властями политические взгляды Полевого стали заметно консервативнее. С 1841 года издавал журнал «Русский вестник».
, в своей критической статье он решил обратиться к анонимному автору напрямую: «Во-первых, все ваши сказки так не связны, что несмотря на многие прелестные подробности, которые принадлежат явно народу, с трудом дочитываешь каждую из этих сказок. Желание подделаться под малоруссизм спутало до такой степени ваш язык и всё ваше изложение, что в иных местах и толку
не доберёшься»
8
Полевой Н. «Вечера на хуторе близ Диканьки» / / Московский телеграф. 1831. № 17. С. 91–95.
. Полевой выразил уверенность, что автор «Вечеров» не имеет ничего общего с Малороссией («Довольно, мы видим, что вы самозванец-Пасичник, вы, сударь, Москаль, да ещё и горожанин»), из-за чего позже стал объектом ехидных шуточек.
В целом реакция литературных кругов на книгу была для Гоголя ободряющей. Андрей Синявский в работе «В тени Гоголя» писал, что молодой дебютант «очаровал Петербург галушками, козачком, горилкою, простонародными байками, песнями и легендами, толком не зная ни той страны, откуда всё это вывез, ни той, в которую это привёз». На первых порах в литературных кругах ему простили и фактические неточности, и шероховатость стиля: «Провинция, внушая снисхождение, себя оправдывала, собою прикрывалась (только потом догадались, какое лихо явилось к нам из провинции, да было поздно — Гоголь заполонил
столицу)».
9
Терц А. (Синявский А. Д.) В тени Гоголя // Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Старт, 1992 С. 203.
Что было дальше?
Гоголь довольно быстро охладел к своей дебютной книге — уже в 1833 году в письме Михаилу Погодину он отзывается о ней раздражённо: «Я даже позабыл, что я творец этих «Вечеров», и вы только напомнили мне об этом. <…> Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня». Пренебрежение автора к циклу заметно и в предисловии к первому собранию сочинений, предпринятому в 1842 году: «Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их…»
Такое же снисходительное отношение к «Вечерам» переняла и критика: долгое время ранняя проза Гоголя рассматривалась исключительно в контексте «Шинели» и «Мёртвых душ». Характерно в этом смысле едкое замечание Владимира Набокова: «Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом «Диканьки» и «Миргороды» — о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках». Однако наряду с этим складывалось и совсем другое отношение к «Вечерам» — как к произведению обманчиво простому, наполненному множеством скрытых смыслов. Так воспринимали гоголевский дебют в символистской или околосимволистской среде: многое для более глубокого понимания «Вечеров» сделали работы Василия Розанова, Дмитрия Мережковского, Андрея Белого. Постепенно в литературоведении сложилось понимание (в частности, благодаря работам Юрия Манна и Юрия Лотмана), что гоголевский цикл — не просто собрание сказочных историй из жизни Малороссии, а сложноустроенный универсум, который не стоит воспринимать буквально.
Цикл «Вечеров» был крайне востребован отечественным кинематографом. Экранизировать новеллы начали ещё в эпоху немого кино (см. фильмы Владислава Старевича), но бум экранизаций пришёлся на сталинскую эпоху с её попыткой опереться на фольклор и народные традиции «братских республик» (см. лубочные картины Николая Экка и Александра Роу). После оттепели гоголевские повести воспринимались как пространство для художественных экспериментов (см., например, аллегорическую экранизацию «Вечера накануне Ивана Купалы» Юрия Ильенко, оператора Сергея Параджанова). В постсоветской России «Вечера» стали материалом двухчастного комедийного мюзикла Сергея Горова («Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Сорочинская ярмарка»), где Оксану играет Ани Лорак, Солоху — Лолита Милявская, Хиврю — Верка Сердючка, а роль чёрта отдана Филиппу Киркорову. Не так давно тему Диканьки актуализировала трилогия о Гоголе («Гоголь. Начало», «Страшная месть» и «Вий») — готическая трэш-сказка с мистическими убийствами и расследованиями.
«Ночь перед Рождеством». Режиссёр Владислав Старевич. Россия, 1913 год
«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Николай Экк. СССР, 1938 год
«Черевички». Режиссёр Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. СССР, 1944 год
Мультфильм «Пропавшая грамота». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1945 год
Мультфильм «Ночь перед Рождеством». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1951 год
«Майская ночь, или Утопленница». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1952 год
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1961 год
«Вечер накануне Ивана Купалы». Режиссёр Юрий Ильенко. СССР, 1968 год
«Пропавшая грамота». Режиссёр Борис Ивченко. СССР, 1972 год
Мультфильм «Цветок папоротника». Режиссёр Алла Грачёва. СССР, 1979 год
Мультфильм «Страшная месть». Режиссёр Михаил Титов. СССР, 1988 год
«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Семен Горов. Россия, 2004 год
«Ночь перед Рождеством». Режиссёр Владислав Старевич. Россия, 1913 год
«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Николай Экк. СССР, 1938 год
«Черевички». Режиссёр Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. СССР, 1944 год
Мультфильм «Пропавшая грамота». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1945 год
Мультфильм «Ночь перед Рождеством». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1951 год
«Майская ночь, или Утопленница». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1952 год
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1961 год
«Вечер накануне Ивана Купалы». Режиссёр Юрий Ильенко. СССР, 1968 год
«Пропавшая грамота». Режиссёр Борис Ивченко. СССР, 1972 год
Мультфильм «Цветок папоротника». Режиссёр Алла Грачёва. СССР, 1979 год
Мультфильм «Страшная месть». Режиссёр Михаил Титов. СССР, 1988 год
«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Семен Горов. Россия, 2004 год
«Ночь перед Рождеством». Режиссёр Владислав Старевич. Россия, 1913 год
«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Николай Экк. СССР, 1938 год
«Черевички». Режиссёр Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. СССР, 1944 год
Мультфильм «Пропавшая грамота». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1945 год
Мультфильм «Ночь перед Рождеством». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1951 год
«Майская ночь, или Утопленница». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1952 год
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1961 год
«Вечер накануне Ивана Купалы». Режиссёр Юрий Ильенко. СССР, 1968 год
«Пропавшая грамота». Режиссёр Борис Ивченко. СССР, 1972 год
Мультфильм «Цветок папоротника». Режиссёр Алла Грачёва. СССР, 1979 год
Мультфильм «Страшная месть». Режиссёр Михаил Титов. СССР, 1988 год
«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Семен Горов. Россия, 2004 год
Почему именно Диканька вынесена в заглавие?
Непосредственно в Диканьке развиваются события лишь одной повести из восьми («Ночь перед Рождеством»). Зато близ Диканьки живёт пасечник Рудый Панько, вымышленный издатель «Вечеров»: «Как будете, господа, ехать ко мне, то прямёхонько берите путь по столбовой дороге, на Диканьку. Я нарочно и выставил её на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора». Это не шутка и не фигура речи, в ту пору Диканьку действительно можно было рассматривать как ориентир: со времён Екатерины II через эту деревню лежал путь высочайших особ в Малороссию. Князь Иван Михайлович Долгорукий писал в 1810 году, что Диканька — «лучшее местоположение под Полтавою» и «будто Екатерина II, быв на этом месте, изволила отозваться, что она лучше его ничего не
видала»
10
Долгорукий И. М. Славны бубны за горами, или Путешествие моё кое-куда 1810 года / / Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1869. Кн. 3. С. 87.
. В 1820 году здесь также побывал Александр I. Диканька в ту пору принадлежала богатому и влиятельному князю Виктору Павловичу Кочубею. В 1828 году Александр Пушкин воспел его прадеда, Василия Леонтьевича, в поэме «Полтава»:
Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Имение Гоголей-Яновских находилось от владений Кочубея в полусотне километров. Вполне закономерно, что Гоголь в заглавии своей дебютной книги апеллировал к влиятельному соседу (и заодно к любимому Пушкину). Впрочем, уже спустя несколько лет Гоголь в письме к матери высказывается о Кочубее довольно заносчиво: «Велика важность, что Кочубей мерял нашу землю! Пусть он хоть всю её поместит у себя на плане! Мы можем поместить его Диканьку у себя на плане». В каком-то смысле именно это Гоголь и сделал благодаря «Вечерам».
Для чего Гоголь устраивает чехарду с рассказчиками?
Рассказчиков в «Вечерах» действительно так много, что можно запутаться. Самый главный из них — Рудый Панько, выступающий собирателем и издателем историй (наделив героя профессией пасечника, Гоголь уподобляет собирательство историй сбору мёда). Его основной и любимый рассказчик — дьяк Фома Григорьевич («Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место»). Ещё несколько историй («Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь») принадлежат «гороховому паничу» — его рассказам, по мнению Рудого Панька, свойственна раздражающая литературность: «Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдёт рассказывать — вычурно, да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападёт. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких!» Во второй книжке «Вечеров» появляется рассказчик Иван Степанович Курочка — его историю про Ивана Шпоньку издатель якобы переписывает с листа, но из-за того, что часть листов жена Рудого Панька использовала для приготовления пирожков, развития и окончания истории мы так и не узнаём. Ещё один рассказчик упоминается, но не называется (он «(нечего бы к ночи и вспоминать о нём) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове»), — вероятно, именно его авторству принадлежит «Страшная месть».
При таком композиционном многоголосии Гоголь умудряется множить рассказчиков уже внутри самой истории. Показательный пример — «Вечер накануне Ивана Купалы»: историю рассказывает Фома Григорьевич, который, в свою очередь, пересказывает рассказ своего деда, в основе которого лежат свидетельства «родной тётки» деда. Благодаря такому усложнению автор будто намеренно запутывает слушателя, сбивает со следа, показывая, что настоящим автором истории выступает не отдельный человек, а целый народ.
У многих героев «Вечеров» довольно экзотические фамилии. Они что-то означают?
Украинские фамилии у Гоголя близки к прозвищам, поэтому большинство из них вполне можно расшифровать. Например, имя Пузатого Пацюка из «Ночи перед Рождеством» — героя, умеющего поглощать галушки и вареники без использования рук, — в переводе с украинского означает толстую крысу. В экранизации Александра Роу сходство с животным персонажу придают серые усы, торчащие в разные стороны. Пацюк наводит на набожного кузнеца Вакулу ужас (даже не из-за левитирующих вареников, а из-за того, что Пацюк объедается
скоромной пищей
Мясо, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения, которые нельзя есть во время православных постов.
перед Крещением, в день сурового поста), и эта близость героя к нечисти дополнительно подчёркивается именем: крысы в славянской народной традиции считались нечистыми животными, наделёнными дьявольскими свойствами. Смысловую нагрузку у Гоголя несут не только прозвища, но и личные имена. В «Сорочинской ярмарке», к примеру, имя Хиври (сокращённое от Хавроньи) восходит к свинье, а имя её падчерицы Параски в народной этимологии означает «порося», поросёнка. Несмотря на выраженный внешний конфликт двух героинь, связь на уровне имён открывает ещё один смысловой слой рассказа: прекрасная Параска после свадьбы неизбежно превратится в злую бабу Хиврю. Не зря девушка примеряет на себя
очипок
Крестьянский головной убор, которым покрывали волосы замужние женщины.
мачехи, который до этого забрызгал грязью её будущий муж.
Однако не все прозвища героев «Диканьки» столь значимы, некоторые из них, кажется, составляют лишь предмет неприличной шутки (из-за чего на Гоголя нередко сердились критики-современники): например, имя одного из поклонников Солохи казака Свербыгуза означает буквально человека, «часто чешущего задницу», а имя парубка Кизяколупенко из этого же рассказа переводится как «колющий навоз». «У нас, не извольте гневаться — такой обычай, — предупреждал ранимых критиков Рудый Панько («рудый» значит «рыжий») в предисловии «Вечеров», — как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно».
Насколько Украина, описанная Гоголем, была близка к реальности?
Почти все повести «Вечеров» так или иначе соотносятся с историческим контекстом: начиная с «Майской ночи», где мельком упоминается путешествие Екатерины II в 1787 году на юг России, заканчивая «Ночью перед Рождеством», где Екатерина II и князь Григорий Потёмкин-Таврический выступают уже полноценными действующими лицами. Это касается не только XVIII века, но XVI–XVII веков: в «Страшной мести» исторически обоснована и история пана Данила, и даже легенда о двух братьях, Иване и Петре. Всего в «Вечерах» упоминается больше десятка лиц, связанных с историей Украины, среди которых Богдан Хмельницкий, Иван Подкова, Пётр Сагайдачный, Карп Полтора-Кожуха и т. д. Благодаря историческим параллелям и множеству краеведческих подробностей создаётся ощущение, что Малороссия в «Вечерах» описана максимально реалистично, однако всё здесь не так просто.
Буквально сразу же после выхода книги Гоголя начали критиковать за недостоверность изображения родного края: Андрей Стороженко под псевдонимом Андрий Царынный опубликовал обстоятельный разбор под названием «Мысли малороссиянина, по прочтении повестей пасичника Рудого Панька, изданных им в книжке под заглавием «Вечера на хуторе близ Диканьки», и рецензий на оныя», в нём он отметил множество языковых ошибок (например, неправильность использования обращения «пан») и несообразностей в поведении героев. Странным ему показался поступок Грицька в «Сорочинской ярмарке», просто так обругавшего пожилую незнакомую женщину («так бесчинствуют одни лишь горькие пьяницы…»), а также раскованность Параски, обнимающейся на ярмарке с разгульным парубком, который до этого запустил ком грязи в её мачеху («у нас всякая молоденькая девушка имеет стыд и страх Божий»). В 1861 году с похожей критикой выступил поэт Пантелеймон Кулиш, он счёл неправдоподобным сцену сватовства в «Сорочинской ярмарке», время свадьбы (их обычно играют осенью и зимой, поскольку август занят уборкой урожая), да и само описание свадьбы. Однако аномальность поведения героев в этой повести вполне может быть частью авторского замысла: согласно одной из трактовок, Параска выходит замуж не за удалого парубка, а за чёрта (имя Грицько, сокращённое от Григорий, в ту пору служило одним из обозначений чёрта), не зря разудалая весёлость происходящего отдаётся в конце повести тоскливым эхом.
Украинские публицисты отмечали, что «Вечера», как правило, не находят отклика в среде простого народа, читатели видят в них «неправду
житьёву»
11
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 651
. Такое представление, кстати, отразилось в «Братьях Карамазовых» Достоевского, в сцене, где Фёдор Павлович даёт почитать гоголевскую книжку юному Смердякову:
Малый прочёл, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив, кончил нахмурившись.
— Что ж? Не смешно? — спросил Фёдор Павлович.
Смердяков молчал.
— Отвечай, дурак.
— Про неправду всё написано, — ухмыляясь прошамкал Смердяков.
Малороссия в «Вечерах», несмотря на обилие реальных деталей, предстаёт страной скорее фантастической, где всё основано на принципе чрезмерности: каждая эмоция усилена, каждое действие сопровождено гиперболой. «…Родная Украина становится какой-то неведомой, роскошной страной, где всё превосходит обычные размеры, — писал о цикле Гоголя Валерий Брюсов. — Такова была сила его дарования… что он не только дал жизнь этим вымыслам, но сделал их как бы реальнее самой реальности». Создав свою собственную Малороссию по книгам и воспоминаниям, Гоголь заставил поверить в неё всех остальных.
Почему женщины в «Вечерах» такие властные?
Большинство героинь Гоголя не только не дают себя в обиду, но и сами выступают обидчицами мужчин. Так, к примеру, в «Сорочинской ярмарке» под гнётом жены страдает Солопий Черевик (ещё одно значимое прозвище: «черевик» значит «сапожок», то есть Солопий буквально находится под сапогом у супруги). Он боится излишне перечить жене Хивре, поскольку та может его побить («Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями»). Побоев боятся и другие герои «Вечеров»: дьяк Осип Никифорович из «Ночи накануне Рождества», изменяя жене с Солохой, больше всего переживает, «чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узинькую», жена Кума из того же рассказа регулярно вступает с ним в драку («Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей; и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами»), а жена ткача пробует на муже силу кочерги («Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу; дала пивкопы — та ничего… не больно»). Стоит вспомнить и тётушку Василису Кашпоровну из рассказа про Шпоньку, в присутствии которой все мужчины ощущали робость:
Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить тёмно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день Светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты.
Выводя таких героинь, Гоголь, разумеется, не намекал ни на какую эмансипацию — для него это типичный комический приём в духе вертепной пьесы: муж-слабак под каблуком у властной сварливой жены. Однако исследователь Иван Ермаков, анализировавший «Вечера» с позиций психоанализа, отмечал, что Гоголь не просто шутил, он тяготел к описанию зрелых женщин: в случае с молодыми девушками (Оксана, Ганна, Параска) писатель довольствовался перечислением эпитетов красоты, которые встречаются в народных песнях (блестящие чёрные очи, косы, брови), тогда как в характеристике старух он чувствовал себя куда более свободным, «там вступал в силу его
талант»
12
Ермаков И. Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М.: НЛО, 1999. С. 177.
. Любопытно, что в женщинах, властвующих над мужчинами, у Гоголя почти всегда заложено демоническое начало — они постоянно сравниваются с чертями и ведьмами.
Солопий из «Сорочинской ярмарки», напуганный появлением головы свиньи в окне, бросается наутёк из дома: он думает, что за ним гонится чёрт, на самом деле за ним следует испуганная Хивря. Цыгане, обнаружившие их лежащими друг на друге, тоже припоминают чёрта:
— Что лежит, Влас?
— Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них чорт, уже и не распознаю!
— А кто наверху?
— Баба!
— Ну, вот, это ж то и есть чорт! — Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.
В украинском фольклоре женщина часто соотносится с дьяволом. По одной из легенд, женщина была сотворена не из ребра Адама, а из хвоста чёрта. По другой — увидев бабу и чёрта, апостол Пётр отрубил им обоим головы, а затем приставил их наоборот, с тех пор баба ходит с головой
чёрта
13
Булашев Г. О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Вып. 1. Космогонические украинские народные воззрения и верования. Киев, 1909. С. 98, 171.
. Мистический ужас перед женщиной, которая может лишить мужчину воли (будь то угрозами, как Хивря, или своим обаянием, как Солоха), распространяется на весь цикл и находит отражение даже в рассказе про Шпоньку, казалось бы избавленном от всякой потусторонности. После сватовства Ивану Фёдоровичу снится страшный липкий сон:
То представлялось ему, что он уже женат, что всё в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею; и замечает, что у неё гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — ещё одна жена. Тут его берёт тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена…
Как известно, сам Гоголь тоже опасался сближаться с женщинами и всю жизнь оставался холостым.
За что герои «Вечеров» клянут «москалей»?
«Москаль» здесь определённо ругательное слово: «если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля», «да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли», «пьяный москаль побоится выбросить их нечестивым своим языком», «когда чорт да москаль украдут что-нибудь — то поминай как и звали» и т. д. Однако «москаль» в речи казаков обозначает не москвича, как можно подумать, и даже не обязательно русского: в старину на Украине так называли офицеров, солдат, чиновников, находящихся на государственной
службе
14
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 704
. Считалось, что им свойственна склонность к обману и пройдошливость. Однако в «Вечерах» также встречается бранное слово «кацап», которое обозначает как раз человека из России. Его употребляет сосед Шпоньки в светской беседе: «Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами».
Вообще, мир «Вечеров» — плодотворная почва для любого рода ксенофобии. В нелестном контексте упоминаются цыгане (они считались «сродни чорту»), евреи («жиды» в фольклоре воспринимались как черти, только ещё хитрее), немцы (под «немцами» понимались любые иностранцы, и они, сюрприз, тоже соотносились с бесами). Но, пожалуй, самыми лютыми врагами для героев «Вечеров» являются католики и ксёндзы. Эта нетерпимость — эхо Брестской унии 1596 года, по которой православная церковь на Украине перешла в подчинение папе, что привело к столкновениям между казачеством и поляками; для многих (особенно малообразованных) жителей Малороссии того времени слово «католик» превратилось в бранное.
Как устроен у Гоголя мир нечистой силы?
Колдовской мир в фольклорном сознании никак не отделён от мира людей, напротив, он состоит с ним в тесных, а зачастую даже в родственных связях. Ведьма Солоха — мать набожного кузнеца Вакулы, который смог одурачить чёрта. Колдун из «Страшной мести» — отец Катерины, жены главного героя Данилы. Ведьма из «Майской ночи» — мачеха панночки, ставшей утопленницей. В «Вечерах» нечисть ведёт себя как люди, а люди — как нечисть. Статус многих героев из-за такой диффузии остаётся непонятным: например, знахарь Пацюк из «Ночи перед Рождеством» застрял где-то посередине между человеческим и демоническим. Сложно охарактеризовать и Басаврюка из «Вечера накануне Ивана Купалы» — он то ли «бесовской человек», то ли чёрт, обернувшийся человеком, то ли ходячий покойник: такая расплывчатость для фольклора обычно не характерна.
Приметами связи с демоническим миром в «Вечерах», как и в народной традиции, служат самые невинные вещи: растрёпанные волосы, косоглазие, хромота. Любая инаковость объясняется чертовщиной. Всё, что не соответствует принципам и стандартам патриархальной общины, понимается как проделки дьявола: в связях с нечистым чаще всего подозреваются женщины, люди других национальностей или вероисповеданий, безродные отщепенцы. Характерным примером в этом смысле служит рассказ «Страшная месть»: мы наблюдаем, как отец Катерины, находящийся в ссоре с зятем, постепенно раскрывает свою демоническую сущность, будто намеренно подтверждая подозрения Данилы. Отец Катерины возвращается из чужих краёв после двадцати лет скитаний (уже странно!), не ест привычную еду и отказывается от алкоголя, чем сразу же вызывает в зяте возмущение: «Не захотел выпить! слышишь, Катерина, не захотел мёду выпить… <…> Горелки даже не пьёт! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует. А? как тебе кажется?» Ещё сильнее настраивают Данилу против свёкра зловещие предвестия и кошмарные сны жены. Кажется, будто он заковывает в цепь отца Катерины не столько из-за того, что тот колдун, сколько из-за предательства родины и веры. Андрей Белый, к примеру, интерпретировал «Страшную месть» как социальную историю, а не мистическую: «Суть же не в том, что «колдун», а в том, что — отщепенец от рода, «страшно» не оттого, что «страшен», а оттого, что страшна жизнь, в которой пришелец издалека выглядит непременно «антихристом».
Согласно Белому, настоящий ужас «Вечеров» сосредоточен не в изображении чертей и ведьм, а в изображении патриархального общества: «Всякий инако слаженный, — хозяйственник ли, инако мыслящий ли, инако ли одёвый, инако ли сеющий репу, внушает ужас любому скопищу людей, которое тут же «срастается в одно громадное чудовище» (как у Гоголя в «Сорочинской ярмарке». — Прим. ред.); каждому в сросшемся со всем, что ни есть, состоянии кажется, «будто залез в прадедовскую душу» он; а кто не залез, того — бей!»
Где в «Вечерах» прячется сам Гоголь?
Комическое альтер эго писателя можно увидеть в образе панича в гороховом сюртуке, рассказчика нескольких историй из первой части «Вечеров». Иронические комментарии Рудого Панька насчёт излишней литературности историй панича, по сути, предвосхищают упрёки критиков, которых раздражает высокопарный слог Гоголя. В облике героя есть и общие с писателем черты, например способность вынюхать большую порцию табака; в «Вечерах»: «…Захвативши немалую порцию табаку, растёртого с золою и листьями любистка, поднёс её коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца», а вот запись Гоголя в альбоме Елизаветы Чертковой: «…Мой <нос> решительно птичий, остроконечный и длинный… могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки».
Трагическое же альтер эго писателя можно рассмотреть в образе колдуна из «Страшной мести» (о его автобиографизме писали Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Блок, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремизов, Иван Ермаков). И панича, и колдуна роднит друг с другом их статус чужого в диканьковском мире и нежелание соблюдать установленные в нём традиции. Этот бескомпромиссный индивидуализм, чувство отчуждения и инаковости было хорошо знакомо Гоголю (см. у Набокова: «Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все; надевал правый башмак на левую ногу; посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из «Алисы в Зазеркалье»). Панич и колдун, по сути, представляют собой два полюса гоголевского творчества: на одном из которых «настоящая весёлость», по Пушкину, на другом — жуткая дьявольщина, пустота.
список литературы
- Белый А. Мастерство Гоголя. М., Л.: ОГИЗ — ГИХЛ, 1934 // https://imwerden.de/pdf/belyj_masterstvo_gogolya_1934__ocr.pdf
- Виноградов В. В. Язык Гоголя // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 286–376.
- Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь / Предисл. и сост. Л. Аллена. СПб.: Logos, 1994.
- Гоголь в русской критике: Сборник статей. М.: ГИХЛ, 1953.
- Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003.
- Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М., Л.: ГИХЛ, 1959.
- Мережковский Д. С. Гоголь и чёрт (Исследование) // Мережковский Д. С. В тихом омуте. М.: Советский писатель, 1991.
- Манн Ю. В. Гоголь. Книга первая. Начало: 1809–1835. М.: РГГУ, 2012.
- Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя. Париж: YMCA Press, 1934.
- Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1999. С. 20–130.
- Терц А. (Синявский А. Д.) В тени Гоголя // Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Старт, 1992 // https://imwerden.de/pdf/abram_terz_v_teni_gogolya.pdf
Здесь даны основные сведения о сборнике повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», представлено его краткое содержание для читательского дневника. В конце статьи указаны темы и идея этого сборника.
Краткие сведения о произведении
Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» является первой книгой Николая Васильевича Гоголя (не считая поэмы «Ганц Кюхельгартен», которая была напечатана под псевдонимом). Книга состоит из двух томов, в каждом из них по четыре повести. Написаны они в 1829–1832 годах. Первый том напечатан в 1831, второй — в 1832 году. По сюжету рассказы, входящие в книгу, якобы собрал и издал «пасичник Рудый Панько», у которого хуторяне устраивали посиделки. Рассказанные там истории пасечник записал, чтобы народ и повеселить, и попугать.
Действие книги происходит в 17–19 веках. Оба тома окольцовывают истории, рассказанные дедом дьяка Фомы Григорьевича — удалого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет быль и небыль, прошлое и настоящее. На страницах произведения течение времени не разрывается, а пребывает в исторической и духовной слитности.
В этой книге, написанной по-русски, сохранена мелодика украинской речи.
Краткое содержание для читательского дневника
Предисловие
Написано оно от имени Рудого Панька — пасечника из Диканьки. Он описал, как проходят посиделки зимой. Девушки приходят на них с веретенами, прядут и поют песни, затем в хату приходят парубки и скрипач, начинаются танцы, а после веселья принимаются рассказывать весёлые и страшные истории. Пасечник их собрал в эту книгу. В конце предисловия он приглашает читателей в гости и поясняет, как добраться до Диканьки.
Сорочинская ярмарка
На ярмарку в местечко Сорочинец приехал крестьянин со своей новой женой да дочерью Параской. В девушку влюбился парубок Грицко и посватался к ней, но мачеха была против свадьбы. Цыган, узнавший об этом, предложил парубку сделку: он поможет жениться на любимой девушке, а за это Грицко продаёт ему волов подешевле. Тот согласился.
Цыган с помощью истории о чёрте и его красной свитке разыграл отца Параски, и тот с радостью отдал дочь замуж за Грицко. В итоге каждый получил то, что хотел: парубок — жену, цыган — волов.
Краткий пересказ повести по главам читайте здесь.
Вечер накануне Ивана Купала
В селе жил казак Корж. У него был маленький сын Ивась и дочь Пидорка, в которую был влюблён работник Коржа Петро. Заметив это, хозяин выгнал Петра, а дочь решил выдать за богатого ляха.
Узнав об этом, Петро с горя пошёл в шинок. Там ему вызвался помочь Басаврюк — «дьявол в человеческом образе». Басаврюк пообещал Петру золото за цветок папоротника. Когда парень добыл цветок, Басаврюк отвёл его к ведьме. Та шептала над цветком заклинания, и он указал место, где был зарыт клад. Но добыть сундук можно было, только пролив невинную кровь. У Петра помутился разум, и он убил Ивася.
Проспав двое суток, Петро увидел в своём доме два мешка с золотом, но откуда они и как получены, не помнил.
Узнав, что его работник разбогател, Корж согласился выдать за него дочку. Но счастье длилось недолго. Вскоре Петро стал как бы не в себе: всё пытался что-то вспомнить. Совсем одичал он, и жена привела старую знахарку, чтобы вылечила его от душевной болезни. Петро узнал в ней ведьму, всё вспомнил и метнул в неё топор. Но старуха пропала, а в хате появился призрак Ивася, залитого кровью. Пидорка в ужасе выбежала из хаты, а когда вернулась, то увидела на месте, где стоял Петро, только кучу пепла.
Пидорка ушла на богомолье и больше не появилась на селе. Басаврюка с тех пор сельчане обходили стороной. Они поняли, что это сатана, приманивавший хлопцев, чтобы искать клады, которые не даются нечистой силе.
Более подробный пересказ повести читайте здесь.
Майская ночь, или Утопленница
Сын городского головы Левко и красавица Ганна хотели пожениться, но отец парубка был против свадьбы. Вечером Левко рассказал Ганне о заброшенном доме у пруда и о судьбе панночки, которая жила там с отцом. Когда вдовый отец женился, мачеха заставила его выгнать дочь из дома. Девушка бросилась в пруд, но душа её не успокоилась. Однажды утопленница утащила мачеху на дно, но та избегла наказания, став неотличимой от других утопленниц.
Левко случайно узнал, что отец хочет ухаживать за Ганной, и решил проучить его. Парубок с друзьями, переодевшись пострашнее и почуднее, стали пугать голову.
Присев у пруда отдохнуть, Левко заметил в окне старого дома панночку. Она попросила парубка отыскать среди утопленниц мачеху. Молодой казак быстро понял, кто из утопленниц ведьма. В награду панночка пообещала, что его отец не будет против женитьбы сына, и дала письмо для головы.
Оказалось, что в нём был приказ от комиссара срочно женить Левко на Ганне.
Краткий пересказ повести по главам читайте здесь.
Пропавшая грамота
Дед дьячка из Диканьки, когда был молод, однажды получил поручение от гетмана доставить царице грамоту. Зашив её в шапку, дед отправился в дорогу. В пути познакомился он с запорожцем, который признался, что продал душу нечистому, и в эту ночь он придёт за ней. Попросил запорожец деда не спать и помочь ему, но дед всё же уснул. Утром он обнаружил, что запорожец исчез вместе с конями и шапкой деда. Понял он, что всё это утащила нечистая сила. Шинкарь подсказал деду, где отыскать чёрта.
Отправился дед добывать свою шапку с грамотой в лес. Увидел он у лесного костра людей с неприятными лицами. Рассказал дед им о своём деле и кинул все свои деньги к костру. И тут же очутился за одним столом с ведьмами и чертями. Выиграл он у них в карты свою шапку, да ещё потребовал вернуть коня. Оказалось, что его конь погиб, но взамен ему дали сатанинского коня, который понёс казака над страшными пропастями. Дед не удержался, полетел вниз и очнулся на крыше своей хаты. Зашёл он в неё и увидел, что жена, сидя спала и подпрыгивала на лавке. Понял дед, что нужно хату освятить, да некогда было — поехал к царице с грамотой. С тех пор ровно через каждый год его жена танцевала, не желая того — верно в наказание, что сразу дед не освятил хату.
Более подробный пересказ повести читайте здесь.
Ночь перед Рождеством
Рождественским вечером кузнец Вакула пришёл к Оксане, дочери богатого казака Чуба. Собираясь на колядование, Оксана заметила на подружке красивые черевички и заявила, что выйдет замуж за кузнеца, если он добудет ей черевички, которые носит царица.
В это время к матери Вакулы, Солохе, по очереди приходили гости: чёрт, сельский голова, дьяк и Чуб. После того, как раздавался стук в дверь, она прятала очередного гостя в мешок.
Вакула решил перед праздником отнести мешки в кузницу. На улице он встретил Оксану с подружками. Красавица напомнила ему про черевички и, засмеявшись, убежала. Расстроенный Вакула бросил большой мешок и с маленьким за плечами побежал к знахарю Пузатому Пацюку. Попросил кузнец его о помощи, потому что считал, что тот приходится «немного сродни чёрту». Спросил Вакула у Пацюка как найти дорогу к чёрту. Тот ответил, что искать его не надо тому, «у кого чёрт за плечами».
На улице чёрт выскочил из мешка и сел Вакуле на шею, но кузнец схватил его за хвост, сотворил крест, и чёрт сделался смирным. Вакула оседлал его и велел везти к царице. В Петербурге кузнец сумел выпросить у царицы черевички.
В это время в селе стали говорить, что кузнец наложил на себя руки. Кроме того, сельчане были удивлены, найдя в мешках уважаемых людей. Оксана, горюя о Вакуле, не спала всю ночь и к утру была уже в него влюблена. Когда вернувшийся кузнец подарил Оксане черевички, ей они уже были не нужны, она и без них была согласна выйти замуж за Вакулу.
Страшная месть
На свадьбе сына есаула Горобца объявился колдун и исчез, испугавшись святых икон. После возвращения со свадьбы Данило Бурульбаш поссорился со своим злым старым тестем, а ночью его жене, Катерине, приснилось, что её отец — колдун.
Заметив в заброшенном замке огонёк, Данило заглянул в окно и увидел, что тесть ворожбой вызвал душу Катерины и заставлял полюбить себя, но душа колдуну не покорилась.
Вернувшись домой, Данило заковал тестя-колдуна в цепи. Катерина, поверив, что отец начнёт праведную жизнь, выпустила его. После этого на хутор напали ляхи, и Данило погиб. Колдун, вернувшись в старый замок, стал вызывать душу Катерины, но вместо неё в облаке показалось чьё-то лицо, которое навело ужас на колдуна.
Катерину взял жить к себе есаул Горобец, который был названым братом Данилы. Во сне ей привиделся колдун, угрожавший убить её годовалого сына, если Катерина не выйдет за него замуж. Утром, увидев своё мёртвое дитя, Катерина сошла с ума.
Колдун в образе друга Данилы приехал, чтобы забрать Катерину с собой, но она, узнав отца, ринулась на него с ножом. Но тот вырвал нож и убил свою дочь.
Тем временем чудо стало видно во все концы света — на вершине одной из Карпатских гор стоял всадник с закрытыми очами. Колдун был в ужасе — он узнал в рыцаре того, кто явился во время ворожбы. Хотел он скрыться от него, но куда бы ни поехал, дорога вела к Карпатам, и он очутился перед всадником. Открыл тот очи, схватил колдуна, тот сразу умер от страха и был сброшен в пропасть.
Кончается эта история песней бандуриста о том, как завистливый Петро сбросил в пропасть своего названого брата Ивана с маленьким сыном. И когда Ивана призвал Бог, тот попросил, чтобы всё потомство Петра не имело на земле счастья и мучилось после смерти. А последний из рода чтобы был такой злодей, какого ещё не бывало. И сбросит тогда Иван его с самой высокой горы.
Краткий пересказ повести по главам читайте здесь.
Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка
Иван Фёдорович Шпонька в детстве был очень благонравным, за это его всегда хвалили учителя. Но однажды один из них побил Ванюшу по рукам за то, что на уроке тот ел блин. С тех пор на всю жизнь осталась в характере Шпоньки какая-то робость.
После учёбы Иван Фёдорович поступил на военную службу, много лет служил исправно, в свободное время начищал пуговицы мундира и предавался подобным милым его сердцу занятиям. Книг не читал, кроме гадательной.
После смерти матушки в его имении хозяйничала тётушка. Однажды она написала племяннику, чтобы приехал сам хозяйствовать, так как она стара уже стала. Получил Иван Фёдорович отставку с чином поручика и поехал в своё имение. В дороге он познакомился с Григорием Григорьевичем Сторченко, помещиком-соседом по имению.
В своём родном хуторе Шпонька стал вести жизнь очень размеренную, и она ему нравилась. Тётушка оказалась совсем не старой и дряхлой, а энергичной и хозяйственной. Однажды она сообщила, что широкий луг за лесом принадлежит Ивану Фёдоровичу, так как бывший его владелец сделал дарственную запись на Ивана Фёдоровича. Где этот документ, неизвестно, наверно, у соседа Сторченко.
Иван Фёдорович, по совету тётушки поехал к нему, но Григорий Григорьевич сказал, что не знает ни о какой дарственной. У Сторченко Шпонька познакомился с его матушкой и сёстрами, и его угостили обедом.
Приехав домой, Иван Фёдорович сказал тётушке, что у соседа дарственной нет. Услышав от племянника, что сёстры Сторченко красивые, особенно белокурая, тётушка решила его женить.
Дня через четыре поехали они к соседу. Тётушка сделала так, чтобы Иван Фёдорович и белокурая барышня остались в комнате одни, но они почти всё время просидели молча. По дороге домой тётушка сказала, что Ивану Фёдоровичу пора жениться, и этим очень его испугала. Он не представлял, как будет жить с женой, которая всё время будет возле него, а комната уже не будет его личной. Ночью снились Шпоньке кошмары о жене: то она с гусиным лицом, то другие нелепые происшествия.
В голове энергичной тётушки созрел новый замысел, но тут повесть оборвалась.
Краткий пересказ повести по главам читайте здесь.
Заколдованное место
Эта история случилась, когда рассказчик был ещё маленьким. Его отец уехал в Крым торговать, а с семьёй остался дед. Засеял дед баштан. Мимо проезжали его знакомые чумаки, и началась у них гулянка да танцы. Дед тоже пошёл плясать, но когда дошёл до одного места, ноги его остановились. Несколько раз принимался дед плясать, но всё время останавливался на том месте.
Тут осмотрелся дед — оказалось, что он в чистом поле и манит его какой-то огонёк на могилке. Решил он, что там клад, и на следующий вечер пошёл туда с заступом, но найти могилку не смог. На третий вечер пошёл дед копать грядку на своём баштане и, проходя мимо заколдованного места, в сердцах ударил по нему заступом и вмиг очутился у могилки.
Выкопал дед котёл, и его окружила нечисть. Схватив котелок, кинулся старик прочь. Дома открыл котёл, а там один сор.
То место на баштане, где у него не вытанцовывалось, дед загородил плетнём и бросал туда сор. Когда эту землю стали нанимать соседи, то вырастало там всегда что-то чудное, не похожее ни на арбуз, ни на тыкву, ни на огурец.
Заключение к краткому содержанию
В сборнике повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» затронуты следующие темы:
- природная мудрость и находчивость народа;
- противостояние добра и зла;
- освободительная борьба против врагов;
- пустопорожность и ничтожность помещичьего быта.
Общая идея этого цикла состоит в том, что народ силён своей верой в добро и правду.
Краткое содержание сборника повестей может пригодиться для заполнения читательского дневника и для подготовки к уроку литературы.

Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Вий
Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка
Майская ночь, или Утопленница
Миргород (цикл повестей)
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
Пропавшая грамота. Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Сорочинская ярмарка
Старосветские помещики
Страшная месть
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832) — первый сборник повестей Н. В. Гоголя был с восторгом встреченный его современниками. Этот сборник оказался и самой светлой книгой Гоголя, любимой многими поколениями читателей. В цикл вошли рассказы о Малороссии такие как «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед рождеством», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Заколдованное место». Сборник принес Гоголю литературную известность, повести были насыщены украинским этнографическим и фольклорным материалом. Отмечая романтические настроения, лиризм и юмор автора, В.Г.Белинский назвал цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» поэтическими очерками Малороссии, выделив в этом цикле повесть «Ночь перед Рождеством». Как писал критик, «тут вся поэзия жизни народа» .
Как известно, детские годы писатель провел в родительском имении Васильевке, в атмосфере малороссийских народных поверий, фольклорных традиций и исторических сказаний. Диканька располагалась неподалеку. Сюжет повестей основан на народных преданиях и легендах (о черте, выгнанном из пекла в Сорочинской ярмарке, о папоротнике в Вечере накануне Ивана Купалы, о снимающей звезды ведьме в Ночи перед Рождеством, об обманных местах в Заколдованном месте). Молодые герои Вакула, Грицко и Данило Бурульбаш похожи на героев народных сказок. Комические персонажи наделены чертами героев народных театров-вертепов: это плутоватый цыган, хвастливый запорожец, ухаживающий за чужой женой дьяк.
Однако задача Гоголя-романтика не состояла в точном воспроизведении быта и обрядов народа, он хотел передать дух народа, его здоровое гармоничное мировосприятие, его представления о красоте, удали и силе. Не случайно Гоголем изображена не обыденная повседневность, а народно-праздничная и ярмарочная жизнь. Прошлое предстает в ореоле сказочного и чудесного, в нем автор увидел людей, не затронутых жаждой наживы и духовной ленью. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — книга фантастических происшествий. Именно такой взгляд на действительность Гоголь считал проявлением силы и мощи народного духа. Неминуемое торжество человека над злом это мотив из фольклора. Но писатель наполнил его новым содержанием: обуздать зло под силу истинно мощному человеческому духу.
Общеизвестен рассказ самого Гоголя о выходе «Вечеров»: «Любопытнее всего, — писал он Пушкину, — было мое свидание с типографией: только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило; я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что «штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву». Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни» . Пушкин тоже признавался: «Сейчас прочел «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Вот это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился» .
Пушкин первый отметил талант Гоголя, его земной, реальный характер, но с легкой руки его на «Вечера» упрочился взгляд, будто в них только и есть одна непринужденная веселость. Утверждали и утверждают, будто в этих повестях нет смысла, автор не отдавал себе ясного отчета в их художественном значении, писались они для заработка; Гоголь не преследовал в них никакой определенной цели, ни назидательной, ни литературной. Так, например, смотрит на «Вечера» Нестор Котляревский в своей книге «Гоголь» . Этим и подобным утверждениям способствовал и сам писатель, заявив в «Авторской исповеди», что он первое время писал вовсе не заботясь, зачем, для чего и кому из этого выйдет какая польза. Гоголь имел здесь в виду особую пользу, религиозно-нравственного, христианского порядка. Такой пользы в «Вечерах» действительно, нет. Однако отсюда не следует, что первые повести Гоголя случайны, лишены замысла и цели. Цель, иногда ясно не сознаваемая художником, в них бесспорно имеется.
Что веселого и непринужденного, например, в «Вечере накануне Ивана Купала»? В «Пропавшей грамоте»? Также перебивается веселость в «Майской ночи», даже в «Ночи перед Рождеством», картинами, сценами, образами, замечаниями совсем иного порядка, можно сказать демонического, сверхъестественного:
«Погляди на белую шею мою: они не смываются! Они не смываются! Они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее». Точно на шее прекрасной панночки-утопленницы, на повестях Гоголя выступают синие пятна, отметины каких-то железных когтей и сквозь румянец щек, сквозь веселую юность вдруг зрится что-то темное, нездоровое.
Повести Гоголя, сохраняя явные следы романтизма, значительно приблизили литературу к жизни и впервые, хотя и отвлеченно, у нас в искусстве поставили вопросы социального порядка: о богатстве, о деньгах как об источниках корысти, алчности, преступлений и несчастий. В этом Гоголь неизмеримо опередил своих литературных современников. В «Вечерах» Гоголь далек от мысли обвинять самого человека, искать причину преступлений и несчастий в его пороках и страстях. Покуда человек у него виновен, пожалуй, в одном: он слишком наивен и доверчив. Его совращают посторонние, внешние силы; сам по себе человек любит только пожить, повеселиться, посмеяться, подурачиться.
Критика того времени встретила «Вечера» рядом отзывов. Полевой в «Московском телеграфе» объявил, что Гоголь, хотя и разрыл клад малороссийских преданий, но сделал это рукой неискусной и превосходные материалы так и остались материалами. Иначе и не мог оценивать «Вечера на хуторе близ Диканьки» сторонник старого романтизма. Другие отзывы были более благоприятны: «Северная Пчела» сочла Панько искусным: автору хотя и недостает творческой фантазии, но «некоторые места дышат пиитическим вдохновением». «Мы не знаем, — говорится далее, — ни одного произведения в нашей литературе, которые можно бы было сравнивать… с повестями, изданными Пасечником». В «Телескопе» писалось: «Вечера на хуторе близ Диканьки» состоят из прекрасных отрывков народной украинской жизни… Изложение вызывает прелесть очарования…». Якубович в «Литературных Прибавлениях» поздравил читателей с истинно веселой книгой, а Стороженко в «Сыне Отечества» пожелал автору: «дай бог, чтобы опыт земляка моего, Панька, был предвестником неутолимых трудов и будущей славы» . Из этого краткого обзора видно, что современная Гоголю критика, несмотря на положительные отзывы, была далека от истинного понимания «Вечеров» и правильной оценки их значения для русской литературы. В «Вечерах» Гоголь, заключая собой романтизм, делал решительный шаг к общественной действительности.
«Майская ночь, или Утопленница»
Повесть «Майская ночь, или Утопленница» напечатана впервые в 1831 году, в первой книге первого издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
В «Майской ночи» использованы Гоголем фольклорные записи, полученные от матери и родных, а также материал, собранный им в «Книге всякой всячины». В письме к матери от 30 апреля 1829 года Гоголь просит сообщить ему «несколько слов… о русалках» (Н. В. Гоголь, т. X, .). К этому же году относится и работа над черновой редакцией «Майской ночи».
Начало повести (сцена свидания Левко и Ганны) построено на известной народной украинской песне «Солнце низенько, вечiр близенько». В дальнейших главах широко использованы народные предания о ведьмах, об утопленницах и проч. Однако и здесь Гоголь совершенно самостоятелен; он не пересказывает ни одного из известных фольклорных сюжетов, а создает поэтическую картину жизни Малороссии, столь увлекшую Белинского, который писал о понести: «Читайте вы его «Майскую ночь», читайте ее в зимний вечер у пылающею камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес н тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц…» .
В «Майской ночи» противопоставление сил, враждебных чистой и светлой любви Ганны и Левка, подчеркнуто лирическим пейзажем, проходящим через всю повесть, словно аккомпанируя этой песне о любви. Повесть начинается описанием майской ночи, на фоне которой так прекрасна и поэтична любовь Ганны и Левка. «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! очаровательная ночь!» Завершается повесть волшебной картиной украинской ночи, словно благословляющей счастливого Левко, увидевшего в окошке при свете месяца спящую Ганну. «И через несколько минут все уже уснуло на селе; один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала».
«На Украине, — пишет А. Н. Афанасьев, — до позднейшего времени узнавали ведьм по их способности держаться на воде. Когда случалось, что дождь долго не орошал полей, то поселяне приписывали его задержание злым чарам, собирались миром, схватывали заподозренных баб и водили купать на реку или в пруд. Они скручивали их веревками, привязывали им на шею тяжелые камни и затем бросали несчастных узниц в глубокие омуты: неповинные в чародействе тотчас же погружались на дно, а настоящая ведьма плавала поверх воды вместе с камнем. Первых вытаскивали с помощью веревок и отпускали на свободу; тех же, которые признаны были ведьмами, заколачивали насмерть и топили силою…» В «Майской ночи» Гоголь, оставаясь верным украинскому обычаю, превращает ведьму в утопленницу, которая живет в пруду. В «Вечере накануне Ивана Купала» девушки бросают бесовские подарки — перстни, монисто — в воду: «Бросишь в воду — плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки…» .
«Страшная месть»
«Страшная месть» — одно из самых таинственных и магических произведений русской литературы. Во многом гоголевская повесть, написанная совсем молодым человеком (Гоголю всего лишь 23 года), опередила свое время.
«Страшная месть» — это не только история братоубийства и возмездия за содеянное преступление, отсылающая читателя к библейской истории Каина Авеля. Гоголь, едва ли не первым из русских литераторов, почувствовал, что «светлое» и «темное», «ангельское» и «демоническое» сосуществуют не только в душе отдельного человека, но и в «коллективной душе» целого народа («История Пугачевского бунта» Пушкина, в которой говорится про то же, будет закончена годом позднее). Два главных героя повести, — Катерина и ее отец-колдун, — являются своеобразными выразителями этих двух противоположных начал. Отец и дочь в «Страшной мести» не просто любят друг друга вполне традиционной «родственной» любовью. Их словно притягивает (иногда — помимо воли) и одновременно отталкивает, растаскивает по противоположным полюсам какая-то неведомая сила.
Отец и дочь — это единое, цельное существо, своеобразная модель народной души, соединяющая в себе мужское и женское, старое и молодое, демоническое и ангельское начала. Гоголь увидел (или, скорее всего, интуитивно угадал), что в целом народе, как и в отдельном человеке, существуют совершенно разнонаправленные силы и народ принужден вечно разрываться между ними. В глубинах народной души Гоголь углядел некую загадочную порчу, пугающую двойственность, способную приносить самые диковинные плоды. То, о чем писал молодой автор в 1832 году, позже выкристаллизировалось в известную фразу Дмитрия Карамазова: «Здесь Дьявол с Богом борются, а поле битвы — сердца людей».
Как преодолеть подобные страшные всполохи душевной раздвоенности, «душевного демонизма»? 15 лет спустя Гоголь напишет об этом целую книгу — «Выбранные места из переписки с друзьями».
«Ночь перед Рождеством»
Основе повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» лежит малорусская сказка о кузнеце и черте — «Кузнец». Однако в сюжете этой сказки отсутствует любовный конфликт. Черт и кузнец — главные действующие лица «Кузнеца». Все действие завязано вокруг картины с изображением нечистого: кузнец Яремка портит портрет черта, черт пытается отомстить ему, однако попытка не удается. В финале кузнец сжигает изображение черта, а черт вылетает в трубу.
В гоголевском сюжете находим соответствие и с сюжетом волшебной сказки. Как и Иванушка в русских сказках, кузнец Вакула получает трудное, на первый взгляд, невыполнимое задание. Далее в сказке Иванушка отправляется в дорогу на сером волке. Герой Гоголя отправляется в дорогу на сером волке. Герой Гоголя отправляется в путешествие верхом на черте. Как и Иванушка, Вакула успешно справляется с поставленной перед ним задачей, возвращается домой и получает награду — любовь Оксаны (в сказочных сюжетах — Елена Прекрасная, Марья-царевна и т.д.)
Эта сюжетная схема способствует достаточно быстрой смене эпизодов, представляющих звенья основных событий повести: неудавшееся «свидание» Солохи с чертом — объяснение Вакулы с Оксаной и его решение утопиться — мысль кузнеца обратиться за помощью к «нечистой силы» и посещение им Пацюка — путешествие героя верхом на черте в Петербург — получение Вакулой туфелек от царицы — возвращение кузнеца домой — любовь Оксаны и Вакулы.
Характерно, что черт помогает герою в достижении его цели. Здесь возникают романтические мотивы, мотивы Фауста и Мефистофеля. Однако, в отличии от Фауста, Вакула не продает душу дьяволу, а наоборот, заставляет черта себе повиноваться. Кроме того, эта своеобразная помощь получена героем лишь однажды. После этого Вакула «выдержал церковное покаяние».
Как замечает Н.Л.Степанов, «фантастика и «демонология» в «Вечерах» принципиально отличны от мистической фантастики немецких романтиков Тика, Гофмана и др. Для немецких романтиков фантастика, народные предания и легенды являлись лишь средством для своего рода мистической мифологизации, для утверждения ирреальности, иллюзорности действительности…У Гоголя фантастика народного творчества способствует созданию жизненных сатирических образов…».
Гоголевский черт не имеет демонических свойств, напротив, он вполне очеловечен. И это заметно уже в самом портрете его. Спереди черт — «совершенный немец», а сзади — «губернский стряпчий в мундире», хвост его, длинный и острый, Похож на «теперешние мундирные фалды». Ухаживая за Солохой, он нашептывает ей на ухо «то самое, то обыкновенно нашептывает всему женскому роду». Здесь черт выступает в роли незадачливого деревенского кавалера. После порки кузнеца он напоминает мужика, «которого только что выпарил заседатель».
Черт простодушен, он позволяет Вакуле себя одурачить. Кроме того, «демонический герой» честолюбив: заключив сделку с Вакулой, он мечтает превзойти своих собратьев. Так демонические мотивы комически снижаются в повести Гоголя. Характерно, что в финале произведения черт исчезает вовсе — демоническое как бы преодолевается в развитии сюжета. Комическое снижение демонического было обусловлено и мировоззрением Гоголя, его религиозностью. Высмеивая черта, писатель как будто преодолевает «отрицание Бога», «вечное зло» в мире. Д.С.Мережковский писал, что «главная мысль всей жизни и творчества Гоголя» — «как черта выставить дураком».
Все персонажи повести необычайно колоритны, обрисованы Гоголем с юмором, поэзией. Замечательны образы «козака» Чуба, гордой красавицы Оксаны, ловкой Солохи, бесстрашного кузнеца Вакулы. Вакула храбр, настойчив в достижении цели, не теряется в самых сложных жизненных ситуациях. Герой готов заставить служить себе нечистую силу, не робеет он во дворце у царицы. Его воодушевляет большая и чистая любовь к Оксане. Речь Вакулы поэтична и возвышенна: «И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей!»
Таким образом, фантастика у Гоголя отражает народное миросозерцание, языческие верования, культуру. Комическая обрисовка «демонических» образов связана с религиозностью писателя, с сатирическим разоблачением нравов деревенской жизни.
Страшная месть
I
Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церквей Христовых нет… Но он не приехал. Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрыпки и бубны. Между тем молодицы и дивчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, – как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву… как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков – никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик. – Это он! это он! – кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу. – Колдун показался снова! – кричали матери, хватая на руки детей своих. Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы: – Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! – И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик. Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом. – Что это за колдун? – спрашивали молодые и небывалые люди. – Беда будет! – говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и наверно никто не мог рассказать про него. На двор выкатили бочку меду и не мало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодицы, лихое козачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев. II
Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорого́ю и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен. Посереди Днепра плыл дуб.
Сидят впереди два хлопца; черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксендзы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда.
Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался, и рукав кармазинного
жупана опустился из дуба и черпает воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незастланную полотном нарядную сукню серою пылью валится вода. Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те – не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою и над волосами высокое небо. Те луга – не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц. Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою. – Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася в печаль? – Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным… и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, – говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды. Пан Данило ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы. – Не так еще страшно, что колдун, – говорил он, – как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда… Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если у него водится золото… Мы сейчас будем плыть мимо крестов – это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть… – Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!.. – Молчи, баба! – с сердцем сказал Данило. – С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку! – Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. – Пугает меня колдуном! – продолжал пан Данило. – Козак, слава богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? наша жена – люлька да острая сабля! Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи. Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины. – Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь! – сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим. – Мы слышим крики, и кажется, с той стороны, – разом сказали хлопцы, указывая на кладбище. Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы. Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длинее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно!» – простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: «Душно мне!» – и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости… Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул. Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб. – Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! – говорил он, указывая по сторонам. – Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! Дай сюда на руки мне сына! – При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам. – Что, Иван, ты не боишься колдунов? «Нет, говори, тятя, я козак». Полно же, перестань плакать! домой приедем! Приедем домой – мать накормит кашей, положит тебя спать в люльку, запоет: Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачеству на славу,
Вороженькам в расправу!
Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится… Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую волю! не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом и золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина! Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака. III
Вечера на хуторе близ Диканьки, часть вторая
I
Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует
свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В
старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а
еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и
запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля,
где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей
красным вином. Приехал и названый брат есаула, Данило
Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами,
был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном.
Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий
бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого
полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше
дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего
только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без
вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и
родила сына. Он, верно, много нарассказал бы дивного. Да как и
не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и
люди не те, и церквей Христовых нет… Но он не приехал.
Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом
блюде коровай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную
вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя
цимбалы, скрыпки и бубны. Между тем молодицы и дивчата,
утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а
парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы
были понестись им навстречу, — как старый есаул вынес две
иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного
схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит
ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет
прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх,
есаул готовился сказать короткую молитву… как вдруг
закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за
ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на
стоявшего посреди их козака. Кто он таков — никто не знал. Но
уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить
обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все
лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону,
вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок
задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за
головы поднялся горб, и стал козак — старик.
— Это он! это он! — кричали в толпе, тесно прижимаясь
друг к другу.
— Колдун показался снова! — кричали матери, хватая на
руки детей своих.
Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким
голосом, выставив против него иконы:
— Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! —
И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный
старик.
Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду,толки и речи
между народом.
— Что это за колдун? — спрашивали молодые и небывалые
люди.
— Беда будет! — говорили старые, крутя головами.
И везде, по всему широкому подворью есаула, стали
собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но
все почти говорили разно, и наверно никто не мог рассказать про
него.
На двор выкатили бочку меду и не мало поставили ведер
грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули;
дивчата, молодицы, лихое козачество в ярких жупанах понеслись.
Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе
приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до
поздней ночи, и шоровали так, как теперь уже не пируют. Стали
гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось
ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества
заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня,
близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и
лежит и храпит на весь Киев.
II
Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы.
Будто дамасскою дорого»ю и белою, как снег, кисеею покрыл он
гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.
Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца; черные
козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива
огонь, летят брызги во все стороны.
Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят
по Украйне ксендзы и перекрещивают козацкий народ в католиков;
ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда. Как им
петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался,
и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду;
пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а
на незастланную полотном нарядную сукню серою пылью валится
вода.
Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие
луга, на зеленые леса! Горы те — не горы: подошвы у них нет,
внизу их как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними
высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы,
поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется
борода, и под бородою и над волосами высокое небо. Те луга —
не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое
небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается
месяц.
Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую
жену свою.
— Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася в
печаль?
— Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устрашили
чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким
страшным… и никто из детей сызмала не хотел играть с ним.
Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему все
чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный
вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что
он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили
мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я
слушала эти рассказы, — говорила Катерина, вынимая платок и
вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты
ею красным шелком листья и ягоды.
Пан Данило ни слова и стал поглядывать на темную сторону,
где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался
старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая
рука гладила молодецкие усы.
— Не так еще страшно, что колдун, — говорил он, — как
страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла
притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то
крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это
правда… Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется
слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна,
так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он
не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если
у него водится золото… Мы сейчас будем плыть мимо крестов —
это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все
готовы были себя продать за денежку сатане с душою и
ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то
мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть…
— Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго
мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь,
очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..
— Молчи, баба! — с сердцем сказал Данило. — С вами кто
свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку! —
Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из
своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку
своего пана. — Пугает меня колдуном! — продолжал пан Данило.
— Козак, слава богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много
было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли,
хлопцы? наша жена — люлька да острая сабля!
Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер
дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть
середи ночи.
Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу
виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина
не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их
с небесной вышины.
— Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь!
— сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.
— Мы слышим крики, и кажется, с той стороны, — разом
сказали хлопцы, указывая на кладбище.
Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся
берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи.
Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие
жилы.
Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший
мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее
самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у
него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно
мне! душно!» — простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос
его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю.
Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее,
еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее
костяные когти. Еще диче закричал он: «Душно мне!» — и ушел
под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец.
Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода
по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю.
Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца,
и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые
кости…
Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и
пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в
Днепр. Сам пан вздрогнул.
Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго
хлопцы не брались за весла.
Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в
испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и
поцеловал в лоб.
— Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! — говорил он,
указывая по сторонам. — Это колдун хочет устрашить людей,
чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только
одних он напугает этим! дай сюда на руки мне сына! — При сем
слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам. —
Что, Иван, ты не боишься колдунов? «Нет, говори, тятя, я
козак». Полно же, перестань плакать! домой приедем! Приедем
домой — мать накормит кашей, положит тебя спать в люльку,
запоет:
Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачеству на славу,
Вороженькам в расправу!
Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить
в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится…
Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую
волю! не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел
поверить все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь
заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца,
когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу
навстречу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам
дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом и золотом. Я
ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался
мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай!
Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его,
Катерина!
Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то
дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и
поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака.
III
Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине,
сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид как и
у простых козаков, и в ней одна светлица; но есть где
поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и
десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые
полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж
ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото,
дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты,
сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар,
турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан
Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под
стеною, внизу, дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них,
перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо,
привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко
убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило.
На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается
малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше
спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не
перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно
протягивается на траве. Ему весело, проснувшись середи ночи,
взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от
ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам.
Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и
закутывается крепче в теплый кожух.
Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья и,
проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую,
вымененную им, турецкую саблю; а пани Катерина принялась
вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец,
рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к
дочке и сурово стал выспрашивать ее: что за причина тому, что
так поздно воротилась она домой.
— Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена,
а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся! —
говорил Данило, не оставляя своего дела. — Может, в иных
неверных землях этого не бывает — я не знаю.
Краска выступила на суровом лице тестя и очи дико
блеснули.
— Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой! —
бормотал он про себя. — Ну, я тебя спрашиваю: где таскался до
поздней ночи?
— А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что
я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как
сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще
кое-что умею… Умею никому и ответа не давать в том, что
делаю.
— Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто
скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело.
— Думай себе что хочешь, — сказал Данило, — думаю и я
себе. Слава богу, ни в одном еще бесчестном деле не был; всегда
стоял за веру православную и отчизну, — не так, как иные
бродяги таскаются бог знает где, когда православные бьются
насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На
униатов даже не похожи: не заглянут в божию церковь. Таких бы
нужно допросить порядком, где они таскаются.
— Э, козак! знаешь ли ты… я плохо стреляю: всего за сто
сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно: от
человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.
— Я готов, — сказал пан Данило, бойко перекрестивши
воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.
— Данило! — закричала громко Катерина, ухвативши его за
руку и повиснув на ней. — Вспомни, безумный, погляди, на кого
ты подымаешь руку! Батько, твои волосы белы, как снег, а ты
разгорелся, как неразумный хлопец!
— Жена! — крикнул грозно пан Данило, — ты знаешь, я не
люблю этого. Ведай свое бабье дело!
Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами,
будто пылью, обсыпали себя козаки. С плачем ушла Катерина в
особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не
слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы
можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на
части. По всему ее телу слыхала она, как проходили звуки: тук,
тук. «Нет, не вытерплю, не вытерплю… Может, уже алая кровь
бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый;
а я лежу здесь!» И вся бледная, едва переводя дух, вошла в
хату.
Ровно и страшно бились казаки. Ни тот, ни другой не
одолевает. Вот наступает Катеринин отец — подается пан Данило.
Наступает пан Данило — подается суровый отец, и опять наравне.
Кипят. Размахнулись… ух! сабли звенят… и, гремя, отлетели в
сторону клинки.
— Благодарю тебя, боже! — сказала Катерина и вскрикнула
снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили
кремни, взвели курки.
Выстрелил пан Данило — не попал. Нацелился отец… Он
стар; он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит
его рука. Выстрел загремел… Пошатнулся пан Данило. Алая кровь
выкрасила левый рукав козацкого жупана.
— Нет! — закричал он, — я не продам так дешево себя. Не
левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий
пистолет; еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с
стены, старый товарищ! покажи другу услугу! — Данило протянул
руку.
— Данило! — закричала в отчаянии, схвативши его за руки
и бросившись ему в ноги, Катерина. — Не за себя молю. Мне один
конец: та недостойная жена, которая живет после своего мужа;
Днепр, холодный Днепр будет мне могилою… Но погляди на сына,
Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто
приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться
за волю и веру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сын мой,
пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он
отворачивает лицо свое. О! я теперь знаю тебя! ты зверь, а не
человек! у тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала,
что у тебя капля жалости есть, что в твоем каменном теле
человечье чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это
радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с
веселья, когда услышат, как нечестивые звери ляхи кинут в пламя
твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом.
О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкою
огонь, взвихрившийся под ним!
— Постой, Катерина! ступай, мой ненаглядный Иван, я
поцелую тебя! Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты
вырастешь на славу отчизны; как вихорь будешь ты летать перед
козаками, с бархатною шапочкою на голове, с острою саблею в
руке. Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами. Что сделал
перед тобою неправого — винюсь. Что же ты не даешь руки? —
говорил Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не
выражая на лице своем ни гнева, ни примирения.
— Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. —
Не будь неумолим, прости Данила: он не огорчит больше тебя!
— Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он,
поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного
вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск
очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую
свою руку пан Данило, передумывая, что худо и не по-козацки
сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват.
IV
Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось и тонкий
дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась
пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна
и неспокойна.
— Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!
— Какой сон, моя любая пани Катерина?
— Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, —
снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы
видали у есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Таких глупостей не
привидится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и
от каждого слова его стонали мои жилы. Если бы ты слышал, что
он говорил…
— Что же он говорил, моя золотая Катерина?
— Говорил: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди
напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем.
Посмотри, как я поглядываю очами!» Тут навел он на меня
огненные очи, я вскрикнула и пробудилась.
— Да, сны много говорят правды. Однако ж знаешь ли ты,
что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать
снова. Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно
только он заботится; я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту
ночь срубили двенадцать засеков. Посполитство будем угощать
свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батогов.
— А отец знает об этом?
— Сидит у меня на шее твой отец! я до сих пор разгадать
его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что
ж, в самом деле, за причина: живет около месяца и хоть бы раз
развеселился, как добрый козак! Не захотел выпить меду!
слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у
крестовских жидов. Эй, хлопец!— крикнул пан Данило. — Беги,
малый, в погреб да принеси жидовского меду! Горелки даже не
пьет! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в
господа Христа не верует. А? как тебе кажется?
— Бог знает что говоришь ты, пан Данило!
— Чудно, пани! — продолжал Данило, принимая глиняную
кружку от козака, — поганые католики даже падки до водки; одни
только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул меду в
подвале?
— Попробовал только, пан!
— Лжешь, собачий сын! вишь, как мухи напали на усы! Я по
глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, козаки! что за лихой
народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани
Катерина, что-то давно уже был пьян. А?
— Вот давно! а в прошедший…
— Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и
турецкий игумен влазит в дверь! — проговорил он сквозь зубы,
увидя нагнувшегося, чтоб войти в дверь, тестя.
— А что ж это, моя дочь! — сказал отец, снимая с головы
шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными
каменьями, — солнце уже высоко, а у тебя обед не готов.
— Готов обед, пан отец, сейчас поставим! Вынимай горшок с
галушками! — сказала пани Катерина старой прислужнице,
обтиравшей деревянную посуду. — Постой, лучше я сама выну, —
продолжала Катерина, — а ты позови хлопцев.
Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по
левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять
наивернейших молодцов в синих и желтых жупанах.
— Не люблю я этих галушек! — сказал пан отец, немного
поевши и положивши ложку, — никакого вкуса нет!
«Знаю, что тебе лучше жидовская лапша», — подумал про
себя Данило.
— Отчего же, тесть, — продолжал он вслух, — ты
говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя
Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается
есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье!
Все святые люди и угодники божии едали галушки.
Ни слова отец; замолчал и пан Данило.
Подали жареного кабана с капустою и сливами.
— Я не люблю свинины! — сказал Катеринин отец, выгребая
ложкою капусту.
— Для чего же не любить свинины? — сказал Данило. —
Одни турки и жиды не едят свинины.
Еще суровее нахмурился отец.
Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул
вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную
воду.
Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся
только около вечера. Сел и стал писать листы в козацкое войско;
а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке.
Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в
окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром
синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не
далеким небом и не синим лесом любуется пан Данило: глядит он
на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему
почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но
все тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только, как глухо
шумит внизу Днепр и с трех сторон, один за другим, отдаются
удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как
старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменилось
около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами,
лугами и несет на них жалобу в Черное море.
Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова
как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и
выбежал на свист верный хлопец.
— Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку
да ступай за мною!
— Ты идешь? — спросила пани Катерина.
— Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в
порядке.
— Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и
клонит. Что, если мне приснится то же самое? я даже не уверена,
точно ли то сон был, — так это происходило живо.
— С тобою старуха остается; а в сенях и на дворе спят
козаки!
— Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай,
пан Данило, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне
тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями.
— Пусть будет так! — сказал Данило, стирая пыль с
винтовки и сыпля на полку порох.
Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе.
Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами
дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора, промеж спавшими
своими козаками, в горы.
Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть
навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки,
то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох…
Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник,
прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя
пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы.
— Это тесть! — проговорил пан Данило, разглядывая его
из-за куста. — Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько! не
зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец. —
Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к
выдавшемуся мысу. — А! вот куда! — сказал пан Данило. — Что,
Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло.
— Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы
видели его на другой стороне. Но он пропал около замка.
— Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут
чтонибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец
твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный.
Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдавшемся
берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший
замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят
козаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не
видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали
слышно, как гремят цепи и бегают собаки.
— Что я думаю долго! — сказал пан Данило, увидя перед
окном высокий дуб. — Стой тут, малый! я полезу на дуб; с него
прямо можно глядеть в окошко.
Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не
звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще
светилось. Присевши на сук, возле самого окна уцепился он рукою
за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам
чудпые знаки. Висит оружие, но все странное: такого не носят ни
турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ
шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень
от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот
отворилась без скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане и
прямо к столу, накрытому белою скатертью. «Это он, это тесть!»
Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.
Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет.
Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть — и
вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет.
Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого
переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями,
будто на мраморе. Тут поставил он на стон горшок и начал кидать
в него какие-то травы.
Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем
красного жупана; вместо того показались на нем широкие
шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове
какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою
грамотшю. Глянул в лицо — и лицо стало переменяться: нос
вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей;
зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, — и стал перед ним
тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула.
«Правдив сон твой, Катерина!» — подумал Бурульбаш.
Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали
быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз
и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и
совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким
розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет
по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только
шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по
водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И
чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят
звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод ночного
воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он
стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в
светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его
татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках
домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька…
но вместо образов выглядывают страшные лица; на лежанке… но
сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с
чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять
стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали
сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то
белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану
Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только
из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и
земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее
просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки? Вот она
как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее
бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто
светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь
бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет
зари; брови слабо темнеют… Ах! это Катерина! Тут почувствовал
Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но
губы шевелились без звука.
Неподвижно стоял колдун на своем месте.
— Где ты была? — спросил он, и стоявшая перед ним
затрепетала.
— О! зачем ты меня вызвал? — тихо простонала она. — Мне
было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и
прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист
тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и
хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая
любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и
щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу…
Отец! — тут она вперила в колдуна бледные очи, — зачем
ты зарезал мать мою?
Грозно колдун погрозил пальцем.
— Разве я тебя просил говорить про это? — И воздушная
красавица задрожала. — Где теперь пани твоя?
— Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась
тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать.
Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка, как
птица. Зачем ты меня вызвал?
— Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? — спросил
колдун так тихо, что едва можно было расслушать.
— Помню, помнюо; но чего бы не дала я, чтобы только
забыть это! Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что
знает душа ее.
«Это Катеринина душа», — подумал пан Данило; но все еще
не смел пошевелиться.
— Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого
убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?
— Ты опять за старое! — грозно прервал колдун. — Я
поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется.
Катерина полюбит меня!..
— О, ты чудовище, а не отец мой! — простонала она. —
Нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами
твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только бог
может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда
Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на
богопротивное дело. Отец, близок Страшный суд! Если б ты и не
отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему
любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил,
и тогда бы не изменила ему, потому что бог не любит
клятвопреступных и неверных душ.
Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым
сидел пан Данило, и недвижно остановилась…
— Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? — закричал
колдун.
Воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно
на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы.
«Страшно, страшно!» — говорил он про себя, почувствовав
какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошел двор свой,
на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего
на сторо»же и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.
V
— Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! — говорила
Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и
разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. — Какой
страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!..
Мне казалось, что я умираю…
— Какой же сон, уж не этот ли? — И стал Бурульбаш
рассказывать жене своей все им виденное.
— Ты как это узнал, мой муж? — спросила, изумившись,
Катерина. — Но нет, многое мне неизвестно из того, что ты
рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать мою;
ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так
рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!
— И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и
десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой
антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с
ляхами на крымцев (тогда еще я держал руку этого неверного
народа), мне говорил игумен Братского монастыря, — он, жена,
святой человек, — что антихрист имеет власть вызывать душу
каждого человека; а душа гуляет по своей воле, когда заснет он,
и летает вместе с архангелами около божией светлицы. Мне с
первого раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал,
что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя
и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым
племенем.
— Данило! — сказала Катерина, закрыв лицо руками и
рыдая, — я ли виновна в чем перед тобою? Я ли изменила тебе,
мой любый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Не верно разве
служила тебе? сказала ли противное слово, когда ты ворочался
навеселе с молодецкой пирушки? тебе ли не родила чернобрового
сына?..
— Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за
что. Грехи все лежат на отце твоем.
— Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог
свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца! Он
антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он — не подам руки
спасти его. Сохни он от тайной травы — не подам воды напиться
ему. Ты у меня отец мой!
VI
В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит
колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит
бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и
толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за
богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун: им судия
бог; сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами
православной Русской земли — продать католикам украинский
народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун; дума черная,
как ночь, у него в голове. Всего только один день остается жить
ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь.
Не совсем легкая казнь его ждет; это еще милость, когда сварят
его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм
колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед
смертным часом, только не такие грехи его, чтобы бог простил
ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными
палками. Гремя цепями, подвелся он к окну поглядеть, не пройдет
ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, как голубка, не
умилосердится ли над отцом… Но никого нет. Внизу бежит
дорога; по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр; ему ни
до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику
однозвучный шум его.
Вот кто-то показался по дороге — это козак! И тяжело
вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается…
Развевается зеленый кунтуш… горит на голове золотой
кораблик… Это она! Еще ближе приникнул он к окну. Вот уже
подходит близко…
— Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..
Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на
тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире.
Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту
грусть колдун?
День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его.
Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются
звуки, — верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по
Днепру мелькает лодка… кому нужда до колодника! Блеснул на
небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по
дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина.
— Дочь, Христа ради! и свирепые волченята не станут рвать
свою мать, дочь, хотя взгляни на преступного отца своего! —
Она не слушает и идет. — Дочь, ради несчастной матери!… —
Она остановилась. — Приди принять последнее мое слово!
— Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня
дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от
меня ради несчастной моей матери?
— Катерина! Мне близок конец: я знаю, меня твой муж хочет
привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и
страшнейшую выдумает казнь…
— Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди
ее; никто не станет просить за тебя.
— Катерина! меня не казнь страшит, но муки на том
свете… Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае
около бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в
огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: все сильнее и
сильнее будет он разгораться: ни капли росы никто не уронит, ни
ветер не пахнет…
— Этой казни я не властна умалить, — сказала Катерина,
отвернувшись.
— Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою
душу. Ты не знаешь еще, как добр и милосерд бог. Слышала ли ты
про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после
покаялся и стал святым.
— Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу? — сказала
Катерина, — мне ли, слабой женщине, об этом подумать!
— Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул.
Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день
и ночь буду молиться богу. Не только скоромного, не возьму рыбы
в рот! не постелю одежды, когда стану спать! и все буду
молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие
божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или
замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни пития и умру;
а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей
правили по мне панихиду.
Задумалась Катерина.
— Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей.
— Я не боюсь цепей, — говорил он. — Ты говоришь, что
они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман
и вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет
теперь ни одной цепи! — сказал он, выходя на середину. — Я бы
и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой и
не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая
нечистая сила не может отсюда вывесть колодника, не отомкнув
тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую
самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на
волю.
— Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь, —
сказала Катерина, остановившись пред дверью, — и, вместо того
чтобы покаяться, станешь опять братом черту?
— Нет, Катерина, мне не долго остается жить уже. Близок и
без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя
на вечную муку?
Замки загремели.
— Прощай! храни тебя бог милосердый, дитя мое! — сказал
колдун, поцеловав ее.
— Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи
скорее!.. — говорила Катерина. Но его уже не было.
— Я выпустила его, — сказала она, испугавшись и дико
осматривая стены. — Что я стану теперь отвечать мужу? — Я
пропала. Мне живой теперь остается зарыться в могилу! — и,
зарыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. —
Но я спасла душу, — сказала она тихо. — Я сделала богоугодное
дело. Но муж мой… Я в первый раз обманула его. О, как
страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду.
Кто-то идет! Это он! Муж! — вскрикнула она отчаянно и без
чувств упала на землю.
>>
Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:
– Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.
Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его.. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.
– Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?
– Отдай, батько, за меня Оксану!
– Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:
– Добре! присылай сватов!
– Ай! – вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.
– Погляди, какие я тебе принес черевики! – сказал Вакула, – те самые, которые носит царица.
– Нет! нет! мне не нужно черевиков! – говорила она, махая руками и не сводя с него очей, – я и без черевиков… – Далее она не договорила и покраснела.
Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.
Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.
– А чья это такая размалеванная хата? – спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
– Кузнеца Вакулы, – сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.
– Славно! славная работа! – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.
Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалевана!» – и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.
Страшная месть
I
Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церквей Христовых нет… Но он не приехал.
Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрыпки и бубны. Между тем молодицы и дивчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, – как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву… как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков – никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик.
– Это он! это он! – кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.
– Колдун показался снова! – кричали матери, хватая на руки детей своих.
Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:
– Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! – И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.
Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? – закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, – постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.
Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:
– Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.
Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его.. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.
– Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?
– Отдай, батько, за меня Оксану!
– Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:
– Добре! присылай сватов!
– Ай! – вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.
– Погляди, какие я тебе принес черевики! – сказал Вакула, – те самые, которые носит царица.
– Нет! нет! мне не нужно черевиков! – говорила она, махая руками и не сводя с него очей, – я и без черевиков… – Далее она не договорила и покраснела.
Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.
Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.
– А чья это такая размалеванная хата? – спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
– Кузнеца Вакулы, – сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.
– Славно! славная работа! – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.
Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалевана!» – и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.
Страшная месть
Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церквей Христовых нет… Но он не приехал.
Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрыпки и бубны. Между тем молодицы и дивчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, – как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву… как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков – никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик.
– Это он! это он! – кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.
– Колдун показался снова! – кричали матери, хватая на руки детей своих.
Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:
– Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! – И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.
Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом.
– Что это за колдун? – спрашивали молодые и небывалые люди.
– Беда будет! – говорили старые, крутя головами.
И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и наверно никто не мог рассказать про него.
На двор выкатили бочку меду и не мало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодицы, лихое козачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи, и шоровали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.
Сборник состоит из 8 рассказов. Ниже очень краткий пересказ:
Сорочинская ярмарка
На ярмарку приехал мужик со своей новой женой и дочерью красавицей. Влюбляется в девушку молодец, но мачеха против их отношений. Местный цыган предлагает юноше сделку: он помогает ему жениться на любимой девушке, а парень продаёт ему волов дешевле. Молодец согласился. С помощью легенды о чёрте и его красном кафтане цыгану удаётся разыграть отца девушки, и тот с радостью отдаёт дочку замуж за парня. В результате каждый получает то, что хотел: цыган – волов, а молодец – жену.
Повесть учит быть смелым, отважным, находчивым и не отказываться от своей мечты. ()
Вечер накануне Ивана Купала
В одном селе жил богатый казак со своей дочерью красавицей. Работал на него бедный парень сирота, который влюбился в дочь хозяина. Любовь была взаимной. Но отец не хотел бедного зятя — выгнал его. Искушённый дьяволом в человеческом обличье, парень заключает с ним договор. Молодой человек, ослеплённый обещанным золотом, убивает младшего брата любимой девушки. Такая плата была за благополучие. Став богатым женихом, он женился на девушке, но через время за совершённое убийство расплатился своей жизнью.
Повесть учит жить, прислушиваясь к своей совести, добиваться любви с помощью благородных и честных поступков.
Майская ночь или Утопленница
Было это вечером. Левко с Анной встретились возле её дома. Молодые люди хотят пожениться, но отец парня, местный голова, против этого брака. Левко рассказывает девушке историю заброшенного дома возле пруда, о судьбе панночки, которую извела мачеха. Девушка утонула, но её душа не находит покоя и желает мщения.
Случайно Левко узнаёт, что его отец влюблён в Анну и из-за этого не разрешает жениться сыну. Парню снится сон о том, что он помогает утонувшей панночке отомстить мачехе, которая была ведьмой. Панночка в благодарность даёт ему письмо для его отца. Когда Левко проснулся, письмо действительно было у него в руках. Его прочитал голова, тут же согласился на свадьбу. В письме был приказ от комиссара срочно поженить Анну и Левко.
Повесть учит доброте и взаимовыручке.
Пропавшая грамота
Козаков отправляют передать грамоту для царицы, среди них казак Фома. Познакомившись в дороге с запорожцем, они останавливаются с ним на ночлег. Утром запорожец исчезает. Вместе с ним у Фомы пропадает конь, шапка и документ для царицы. По подсказке шинкаря Фома отправляется в лес, где возвращает своё добро, выиграв у нечистой силы в карты.
Повесть учит верности долгу, храбрости и находчивости. ()
Ночь перед Рождеством
Кузнец Вакула любит дочь головы Оксану. Для того, чтобы выполнить её желание, он с помощью чёрта отправляется к царице за черевичками. Царица, восхищённая наивностью и непосредственностью молодого казака, дарит ему свои туфельки. Счастливый Вакула возвращается домой. Там его ждёт Оксана, которой уже не нужен царский подарок, а только его любовь.
Повесть учит безграничной любви и преданности, умению преодолевать все препятствия. ()
Страшная месть
Жили два брата – Иван и Петро. Из зависти к брату, Петро сбросил его с маленьким сыном в пропасть. И тогда мёртвый брат проклял его и его наследников, чтобы из поколения в поколение они отвечали за своё преступление.
Повесть учит при любых обстоятельствах оставаться человеком и не причинять людям зла.
Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка
Иван Фёдорович, получив отставку, возвращается в имение тётушки, чтобы помогать ей. Тётушка радостно встречает его, а потом посылает за дарственной. Этот документ хранится у соседа, который не хочет её возвращать. Он знакомит Ивана Фёдоровича со своими сёстрами, надеясь, что одна из них ему понравится. Тётушка тоже мечтает о внуках, поэтому не против такой свадьбы, но Иван Фёдорович к этому был не готов.
Повесть учит любить близких и понимать их, оставаясь верным своим принципам.
Заколдованное место
В небольшой деревеньке жила семья. Хозяин часто уезжал в город по торговым делам. Следить за хозяйством оставались его жена и сыновья. Им помогал дед. Вечером у них остановились чумаки, и дед на радостях хлебнул лишнего. Ему померещилось, что он в незнакомом месте и его манит за собой какой-то огонёк. Дед бросился к этому месту, стал копать и достал из ямы котелок. Тут появилась нечистая сила. Дед испугался и побежал с котелком, который оказался в итоге пустым. Он посчитал, что это заколдованное место, и больше туда не возвращался.
Повесть учит не верить в чудеса, а зарабатывать богатства своим трудом. ()
Можете использовать этот текст для читательского дневника
Гоголь. Все произведения
- Вечер накануне Ивана Купала
- Вечера на хуторе близ Диканьки
- Шинель
Вечера на хуторе близ Диканьки. Картинка к рассказу
Сейчас читают
- Краткое содержание Стендаль Красное и чёрное
Главный герой книги Жюльен Сорель вырос в семье плотника в маленьком городке Верьер. Был он младшим сыном в семье, и совсем не походил на своих старших братьев. Отец, глядя на него, все время думал, что Жюльен будет обузой
- Краткое содержание Маяковский Про это
В своеобразном предисловии «Про Что – Про Это» В.Маяковский поясняет предмет раздумий поэмы – любовь. Он признается, что не мог более обходить эту тема, поскольку она «заявилась гневная» и «приказала» писать.
- Краткое содержание Гаршин То, чего не было
Действие сказки разворачивается на собрании различных насекомых, среди которых разгорается спор о смысле жизни. Каждое животное — это собирательный образ какого-то слоя людей
- Краткое содержание Игрушечного дела людишки Салтыков-Щедрин
Рассказчик в свободное время часто ездил в город Любезнов. Всеми делами там заправлял человек, который уже пятнадцать лет занимал эту должность. Он держал местное население в ежовых рукавицах.
- Краткое содержание Тургенев Холостяк
В книге описывается жизнь одного человека в Петербурге. Главного героя зовут Михаил Иванович Мошкин. Герой работал чиновником, профессором в колледже, которому исполнилось 50 лет. В один день Мошкин пригласил своих друзей на обед.
Оформление:
- доска украшена портретом Н.В.Гоголя ,
- фотографиями сцен из произведений Гоголя
, , и - рисунками учащихся к произведениям писателя
, .
Музыкальное оформление:
музыка из
оперы Н.Римского-Корсакова “Майская ночь”,
оперы П.Чайковского “Черевички”, оперы
М.Мусоргского “Сорочинская ярмарка”.
На игру приглашаем учителей, воспитателей,
родителей в качестве зрителей. Из них выбираем
жюри.
ВЕДУЩИЙ: Начинаем игру, посвященную творчеству
Николая Васильевича Гоголя. Тема сегодняшней
игры-викторины – повести под общим названием
“Вечера на хуторе близ Диканьки”. В 6 классе мы
изучали только две повести: “Ночь перед
Рождеством” и “Майская ночь, или
утопленница”.Вопросы будут касаться только этих
повестей. Поэтому каждый ученик сможет принять
участие в игре.
(Так как у нас школа небольшая и параллелей
классов нет, в игре будут принимать участие
ученики одного класса.)
Теперь познакомлю вас с условиями игры. Сразу
оговариваем одно условие: никаких выкриков и
подсказок. В случае нарушения дисциплины право
ответа переходит к другому ученику, а нарушивший
пропускает ход. В начале каждого тура выбираем
тройку игроков. Для этого задаю три вопроса
классу. Жюри помогает определить, кто первым
поднял руку и дал правильный ответ.
Три ученика занимают место за дополнительным
столом. Жеребьевка (ребята вынимают листочки с
номером) помогает определить очередность
ответов.
Правильный ответ “оценивается” красочной
“фишкой”. Если в задании слово отгадывается по
буквам, то “фишка” дается за каждую правильно
угаданную букву. ? “фишка”
ВОПРОС ПЕРВЫЙ.
В книге Н.С.Шер “Рассказы о русских писателях”
говорится: “Н.Гоголь в ящике своего письменного
стола хранил большую тетрадь в 490 страниц. Чего
только не было в этой тетради: и мысли знаменитых
писателей, и сведения по истории географии, … но
больше всего здесь записей о жизни русских и
украинских народов – предания, обычаи и нравы,
пословицы, поговорки”.
(“Книга всякой всячины, или Подручная
энциклопедия. Составитель Н.В.Гоголь. 1826 год”)
ВОПРОС ВТОРОЙ.
Почему 1831 год можно назвать одним из самых
знаменательных для Н.В.Гоголя?
(Весной 1831 года он познакомился со своим
кумиром – А.С.Пушкиным.)
ВОПРОС ТРЕТИЙ.
Что значит колядовать? Что такое колядки?
(Колядовать – значит петь под окнами домов
песни накануне Рождества. Эти песни и называют
колядками. В них поют про Рождество. Хозяину,
хозяйке, их детям желают здоровья. Тому, кто
колядует, дают хлеб, колбасу, конфеты или деньги.)
Выбраны участники 1-го тура. Игра начинается.
Вопрос первого тура по повести “Ночь перед
Рождеством”.
(На доске табличка из 5 клеточек)
“Нет, этот, — подумал Вакула, — еще ленивее
Чуба”
Кого Вакула имел в виду?
Ученик, у которого больше всего “фишек”,
становится финалистом. А мы продолжаем набор
учащихся для участия во втором туре:
ВОПРОС ПЕРВЫЙ.
Как звучит полное название произведения, куда
вошла повесть “Ночь перед Рождеством”?
(“Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести,
написанные Пасичником Рудым Паньком”)
ВОПРОС ВТОРОЙ.
Почему черт поклялся мстить Вакуле?
(Вакула “намалевал” его изгоняемым из ада:
испуганный черт метался, а грешники били его
кнутами.)
ВОПРОС ТРЕТИЙ.
(По повести “Майская
ночь, или утопленница”)
Назовите причину, по которой панночка
бросилась в воду и утонула?
(Ее отец привел в дом молодую жену, она
оказалась ведьмой. Панночка, защищаясь, отрубила
ей руку. Отец выгнал дочь из дома.)
Начинается второй тур. На доске табличка из 7
клеточек. Проводится жеребьевка, определяется
очередность ответов.
Вопрос второго тура по повести “Майская ночь,
или утопленница”.
“…Левко посмотрел на берег: в тонком
серебряном тумане мелькали легкие, как будто
тени, девушки, в белых, как луг, убранный
ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты,
дукаты блистали на их шеях; но они были бледны;
тело их было как будто сваяно из прозрачных
облак, и будто светилось насквозь при серебряном
месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе.
Послышались голоса. “Давайте в ворона, давайте
играть в ворона!” — зашумели все, будто приречный
тростник, тронутый в тихий час сумерек
воздушными устами ветра. “Кому же быть вороном?”
Кинули жребий – и одна девушка вышла из толпы.
Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все
на ней такое же, как и на других. Заметно только
было, что она неохотно играла эту роль. Толпа
вытянулась вереницей и быстро перебегала от
нападений хищного врага. “нет, я не хочу быть
вороном!” — сказала девушка, изнемогая от
усталости: “Мне жалко отнимать Цыпленков у
бедной матери!” “Ты не ведьма!” — подумал Левко.
“Кто же будет вороном?” Девушки снова
собирались кинуть жребий. “Я буду вороном!” —
вызвалась одна из середины. Левко стал
пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело
гналась она за вереницею и кидалась во все
стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко
стал замечать…”
Что стал замечать Левко в теле этой
утопленницы?
(чернота)
Задаю вопросы для отбора игроков третьего тура.
ВОПРОС ПЕРВЫЙ.
(По повести “Ночь перед
Рождеством”)
Что обещал Оксане Вакула?
(достать царицыны черевички)
ВОПРОС ВТОРОЙ.
“…Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько
удалился. И через несколько минут все уже уснуло
на селе; один только месяц так же блистательно и
чудно плыл в необъятных пустынях роскошного
украинского неба. Так же торжественно дышало в
вышине, и ночь, божественная ночь, величественно
догорала. Так же прекрасна была земля, в дивном
серебряном блеске; но уже никто не упивался ими:
всё погрузилось в сон. Изредка только
прерывалось молчание лаем собак. …”
Из какого произведения этот отрывок?
(“Майская ночь, или утопленница”)
ВОПРОС ТРЕТИЙ.
(По повести “Ночь перед
Рождеством”)
Чем потчевала Солоха гостей, приходивших к ней?
(жирными, со сметаной варениками)
Начинаем третий тур
Проводится жеребьевка для определения
очередности ответов. На доске табличка из 7 букв.
Вопрос третьего тура по повести “Ночь перед
Рождеством”
“… Казак идет по улице… и подтанцовывает. Вот
он тихо остановился перед дверью хаты.… Тут он
отворотился, насунул набекрень свою шапку и
гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны….
На каком музыкальном инструменте играл Левко?
(Бандура)
ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ
(пока проводится
жеребьевка и финалисты занимают места за столом)
Вопрос по повести “Ночь перед Рождеством”
“Боже мой, сколько тут панства!”
Кем были сказаны эти слова и по какому поводу?
(Вакулой, на улицах Петербурга)
Зритель, получивший за правильный ответ
“фишку”, может передать ее любому
игроку-финалисту.
ФИНАЛ
(по повести “Майская ночь, или
утопленница”)
На доске табличка из 5 букв.
В повести к своей девушке казак Левко
обращается “Галю, Галю”. Назовите ее второе имя.
В конце игры жюри подсчитывает количество
“фишек” у учащихся. Награждаются вышедшие в
финал, все участники игры. Набравшему большее
количество “фишек” предлагается сыграть в
Суперигру и получить суперприз.
СУПЕРИГРА
(На доске две таблицы по 4 и 11 букв каждая.
Разрешается открыть пять букв)
Вопрос: Назовите имя дьяка из повести Н.В.Гоголя
“Ночь перед Рождеством”
(Осип Никифорович)
7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591
Сорочинская
ярмарка
Действие происходит на ярмарке в
местечке Сорочинец. На нее собираются жители окрестных деревень. На ярмарку
приезжают Солопий Черевик с дочкой Параской. На ярмарке к ней сватается
парубок, Черевик дает согласие, но его супруга выступила против такого поспешного
решения. На ярмарке замечают красную свитку-символ проклятия. По легенде каждый
год черт в свином обличии ищет свитку на ярмарке. Такую историю стал рассказывать Черевик своим
гостям, как неожиданно в доме разбилась оконная рама и появилась рожа свиньи.
Все перемешалось в доме, гости разбежались.
Вечер накануне
ивана купала. Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви.
Красавицу дочь козака Коржа полюбил парубок Петрусь. Но
Корж прогнал его. А дочку было решено выдать за богатого ляха. Петрусь в шинке
знакомится с Басаврюком. Как оказалось, он превращался в человека, чтобы с
помощью молодых людей отрывать клады. Петрусь не зная, соглашается помочь ему
найти цветок папоротника в ночь на Иван Купала. В итоге Петрусь сталкивается в
лесу со всякой нечистью и ведьмами. После этого он начинает сходить с ума.
Люди, однажды прибежавшие в дом к Петрусю, обнаруживают лишь пепел вместо него.
В ней местный комиссар приказывает дать согласие на женитьбу Левка на Ганне.
Майская ночь,
или утопленница
Повествование ведется о двух влюбленных – Ганне и Левке.
Против женитьбы выступает его отец. Левко рассказывает девушке историю о
панночке, которую не взлюбила мачеха-ведьма. Панночка бросилась в воду и стала
главной над утопленницами. Левко прощается с Ганной. Через некоторое время в
темноте он слышит разговор его возлюбленной с мужчиной, который ругает Левка.
Незнакомцев оказывается его отец. Левко с парубками решает проучить его. В дом
к голове влетает камень. Вместо зачинщика поймали по ошибке Каленика. А герой
отправляется к дому панночки, поет песню и соглашается сыграть в игру. Он
безошибочно отличает ведьму среди утопленниц. В награду от панночки получает
записку, адресованную отцу-голове.
Ночь перед
рождеством
Ночь перед рождеством традиционное время для колядок. Все
молодые парни и девушки выходят на улицы. Кузнец Вакула влюблен в дочь козака
Чуба, который достаточно богат. Черт, который ненавидит кузнеца, ворует луну в
надежде, что тот по темноте не пойдет к Оксане.
Вакула, все таки отправляется в дом к Чубу, где красавица Оксана насмехается
над ним. Заявляет, что станет женой кузнеца, если тот принесет ей черевички как
у царицы. Случай помогает Вакуле. Ему удается поймать черта. Он приказывает ему
везти в Петербург за черевичками. Кузнецу удается добиться приема у царицы, она
дарит ему заветные башмачки. Возвращению Вакулы радуется вся деревня, он играет
свадьбу с Оксаной.
Страшная месть
На свадьбе сына есаула Горобца собралось много гостей.
Среди них Данило Бурульбаш с женой Катериною и маленьким сыном. В разгар
свадьбы Горобец вынес две иконы для благословения молодых. В этот момент в
толпе показался колдун, но сразу исчез, испугавшись икон. На следующий день,
когда герои вернулись домой, Катерина рассказывает мужу о своем сне, будто
колдуном был ее отец.. Данило решает проверить тестя и следит за ним в его
доме. Опасения подтверждаются, колдуна заковывают в цепи в подвале, а Катерина
отрекается от него. Но пожалев, отпускает его. Колдуну помогают ляхи, они жгут
окрестности, в битве убит Данило. Затем колдун, придя к Катерине в другом
обличии, убивает ее. Колдун отправляется после этого в Карпаты, но и сам по
дороге принимает смерть.
Иван Федорович
Шпонька и его тетушка
Иван Федорович Шпонька, служивший в пехотном полку
получает известие от тетушки, что та уже не в состоянии следить за поместьем.
Герой получает отставку и отправляется в Гадяч. По дороге в трактире герой
знакомится с Григорием Сторченко. Тетушка, встреча с которой, оказалась очень
теплой, отправляет Ивана Федоровича за дарственной в Хортынь. Там он снова
встречает своего знакомого Сторченко, у которого и должен быть документ на
поместье. Сторченко пытается уверить Шпоньку что никакой дарственной не было.
Хлебосольный хозяин пытается увести разговор на другие темы, знакомит Ивана
Федоровича с барышнями-сестрами. Вернувшись к тетушке, Шпонька рассказывает ей
об изворотливом Сторченко. Родственники решают ехать к нему вместе. На этом
повествование завершается.
Заколдованное
место. Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Действие происходит в деревушке. Глава семейства
уехал торговать, дома остались жена, малолетние сыновья и дед. Вечером к дому
подъехали чумаки, стародавние знакомые деда. Началось застолье. Дед пошел в
пляс. Но вдруг, дойдя до определенного места, остановился и не смог сдвинуть
ног. Стал оглядываться — не смог узнать где он, все казалось незнакомым. Дед
определил в темноте тропинку, вдруг увидел огонек. Подумал что это клад, и решил
оставить на этом месте заметку в виде сломанной ветки. На следующий день дед
пошел искать то место, но хлынул дождь, и ему пришлось вернуться домой. На
следующий день дед обнаружил то место и принялся его копать. Вдруг одолела
вокруг нечистая сила, послышались голоса, над головой нависла гора. С
выкопанным котлом дед бросился бежать. Но в нем кроме мусора ничего не
оказалось. Дед решил, что то место заколдовано и больше туда не ходил.
Предисловие
«Это что за невидаль: «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Что это за «Вечера»? И швырнул в свет какой-то пасечник! Слава богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника дотащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».
Слушало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет – батюшки мои! Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть – дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Я вам скажу… Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался – плачь не плачь, давай ответ.
У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасечник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), – у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, – тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалека, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум… Это у нас вечерницы! Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом – подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.
Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком – ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, – и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей… Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать – вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него – лопатус, баба – бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и – хвать его по лбу. «Проклятые грабли! – закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин, – как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посереди комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, – и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями»… «Быть же теперь ссоре», – подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастию, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к книшу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как черта, все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статься может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, – лень только проклятая рыться, – наберется и на десять таких книжек.
Сочинение
Публикация в 1831 году первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а в 1832 году — второй засвидетельствовала появление нового писателя — Н.В.Гоголя, вышедшего на авансцену русского и европейского романтизма. Неподражаемая оригинальность «Вечеров» на долгое время создала им репутацию художественного феномена, не имеющего аналогий. Белинский в 1840 году писал: «Укажите в европейской или русской литературе хоть что-нибудь похожее на эти первые опыты молодого человека, хоть что-нибудь, что бы могло натолкнуть на мысль писать так. Не есть ли это, напротив, совершенно новый, небывалый мир искусства?»
Созданное Гоголем, украинцем по происхождению, вливалось в русло широко распространившегося в русском обществе интереса к украинскому народному творчеству, быту, образу жизни. «Здесь так занимает всех все малороссийское», — писал автор в письме к матери. Публикации «Вечеров» вызвали открытый восторженный отзыв Пушкина. Дружба с великим поэтом стала счастьем для Гоголя и величайшей творческой удачей для всей русской литературы. В их духовной близости, в творческом содружестве выразился прекрасный закон преемственности в художественном процессе. Белинский охарактеризовал это так: «Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, «состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа». Открытие Гоголя состояло в том, что он обнаружил поэзию естественной жизни в людях, наиболее близко стоявших у истоков природного бытия. Это была максимальная естественность.
В «Вечерах» — праздник народного духа. Но в них нет намека на наивный сентиментальный восторг. Достаточно обратить внимание на образ «издателя» Пасичника Рудого Панька, в сказовой интонации которого постоянно звучит ирония. Это — тот смех, где столько же простодушия, сколько и природной мудрости. «Веселое плутовство ума», которое Пушкин считал свойством народа, в «Вечерах» нашло многообразное выражение. Недаром почти в каждом рассказе свой повествователь, оригинальный художественный тип. Эта живописная пестрота стилей близка сложной и веселой гамме чувств и страстей украинских парубков, дивчин и их отцов, соединенных «Вечерами» в праздничный хоровод. Чувство гордости и восхищения своей родиной выражается писателем с исключительной проникновенностью, становится близким и общедоступным любому чуткому читателю, в любое историческое время.
Вспомним знаменитое начало одной из глав «Майской ночи»: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее». Уже много лет русский и европейский читатель с большой отзывчивостью вглядывается в юных героев «Сорочинской ярмарки», Параску и Грицько, напевающих друг другу на глазах всей толпы нежные и наивные песни. Невозможно оторваться от фольклорного сказа Фомы Григорьевича в «Вечере накануне Ивана Купала», где открытие Гоголя состоит в невиданной психологической сложности повествователя — простодушного дьячка и почти романтического поэта. Богат мир народного мышления. В нем фольклор совмещается с трезвостью в восприятии реального, бытовое начало не противоречит национально-историческому чувству.
Поэтому во второй части «Вечеров» совершенно естественно звучит тема освободительной борьбы. Конечно, «Страшная месть», где звучание это всего сильнее, по сюжету полулегенда, но благодаря образу Данилы Буруль- баша повесть претендует на вполне реалистическую трактовку темы. Но для полноты картины украинской ночи Гоголю нужна была в «Вечерах…» и такая повесть, как «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Настроение повести рождено народным мышлением, которое не может не заметить и соответственно оценить унылую пустопорожность прозаического прозябания. «Лукавство ума» здесь в метком 84 литература изображении типов, представляющих ничтожный помещичий быт. Так намечается эскиз «Мертвых душ». Время создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки», их публикация и обсуждение среди читающей публики — счастливейшее в жизни Гоголя. Он полон грандиозных замыслов, многие из которых позже осуществились.
Другие сочинения по этому произведению
Вечера на хуторе близ Диканьки
Историко-бытовой и нравственный элемент в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»
Мистика в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя
Моё первое прочтение Гоголя
Народный характер в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»
Образ Оксаны в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» («Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Разбор произведений Гоголя «Вечера на хуторе близь Диканьки»
Романтика украинских сказок и легенд
Романтика украинских сказок и легенд в творчестве Н. В. Гоголя (По книге «Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Сочинение по сборнику повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близь Диканьки»
Душевная широта героев Гоголя
Историческая тема в повестях «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Сравнение «Миргорода» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки»
Идейный смысл «Вечеров на хуторе близ Диканьки»
Гоголь сочинение – Вечера на хуторе близ Диканьки
Народный характер
Сочинение по книге «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Образ кузнеца Вакулы (по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством»)
Прекрасный образ Украины (Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Сочинение по сборнику Гоголя «Вечера на хуторе близь Диканьки»
ИСТОЧНИК
Книга, которая ввела Гоголя в большую литературу: смесь реальности и фантастики, комедии и хоррора, сформировавшая канонический образ Малороссии для многих поколений русских читателей.
КОММЕНТАРИИ: ПОЛИНА РЫЖОВА
О чём эта книга?
Восемь повестей об украинской народной жизни, в которых реальность мешается с фантастикой, а комедия — с хоррором. Книга, изданная под именем малообразованного пасечника, стала для Гоголя пропуском в большую литературу, а для многих поколений читателей сформировала каноничный образ Малороссии. Чернобровые панночки, удалые парубки с чубом, аппетитные галушки и горилка — всё это мы живо представляем именно благодаря «Вечерам».
Когда она написана?
Гоголь начал писать «Вечера» в 1829 году: юный писатель совсем недавно переехал из Нежина в Санкт-Петербург, где терпит неудачи на актёрском поприще, а затем и на литературном — убитый язвительными отзывами, он выкупает все доступные экземпляры своей первой поэмы «Ганц Кюхельгартен» и сжигает. Спасительной оказывается идея написать что-нибудь на тему Малороссии. Он забрасывает мать просьбами прислать как можно больше подробностей о жизни на родине: как одеваются сельские дьячки и крестьянские девки, как справляют свадьбы, какие существуют народные поверья и предания. Гоголь берётся за тему не из-за ностальгии: в столице в это время бушует мода на всё украинское. Выпускаются книги («Малороссийская деревня» Ивана Кулжинского , «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» Антония Погорельского , «Сказки о кладах» Ореста Сомова ), ставятся оперы («Леста, днепровская русалка» Николая Краснопольского , «Пан Твардовский» Алексея Верстовского , «Козак-стихотворец» Александра Шаховского ). Гоголь заканчивает работу над циклом к концу 1831 года — он успевает не только присоединиться к актуальному литературному тренду, но и, по сути, стать его лицом: со временем начинает казаться, что именно гоголевские «Вечера» открыли тему Малороссии в русской литературе.
Как она написана?
Очень по-разному. Повести «Вечеров» принадлежат нескольким жанрам: сказка-анекдот, сказка-новелла, сказка-трагедия. Гоголь намеренно располагает их в таком порядке, чтобы контраст между повестями выглядел ещё ярче: например, за лихой вертепной историей о кузнеце и чёрте («Ночь перед Рождеством») следует готическая легенда о жутком колдуне («Страшная месть»), а затем — нелепый рассказ о сватовстве великовозрастного поручика («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). В большинстве своём повести написаны простонародным языком с использованием колоссального количества украинских диалектизмов. На хуторе близ Диканьки, по выражению Андрея Синявского, «не могут связать двух слов, не помянув чорта, свата и брата или не увязнув в пришедших на ум невообразимых путрях и пундиках». Гоголевские рассказчики игнорируют не только литературные нормы, но порой и приличия, наполняя содержание повестей руганью, побоями, пошлыми интрижками и бестактными анекдотами («Господи Боже мой, за что такая напасть на нас грешных! и так много дряни всякой на земле, а ты ещё и жинок наплодил»). Наряду с этим здесь то и дело находится место для высокопарного слога («Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он»).
В «Вечерах» впечатляет не столько сюжет, сколько необычная живописность стиля. Это замечал Андрей Белый: сюжет у Гоголя «скуп, прост, примитивен в фабуле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в её красках, в её композиции, в слоговых ходах, в ритме». Эта живописность находит и прямые художественные аналогии: западные литературоведы нередко сравнивают стилистику «Вечеров» с картинами Иеронима Босха и Франсиско Гойи 1 . В частности, открывающая цикл «Сорочинская ярмарка» сопоставляется с картиной Питера Брейгеля Старшего «Страна лентяев» 2 : сквозь ощущение праздности и изобилия, так же как и у Гоголя, здесь всё отчётливее проступает чувство тревоги и страха.
Что на неё повлияло?
Во-первых, этнографические сведения, которые исправно высылала мать писателя по почте, а также комедии отца, Василия Гоголя-Яновского (некоторые цитаты из них стали эпиграфами к «Сорочинской ярмарке»). Во-вторых, книги на малороссийскую тему, которые Гоголь внимательно и методично изучал — в особенности для замысла писателя оказались важны «Русалка. Малороссийское предание» Ореста Сомова (1829) и «Энеида» Ивана Котляревского (последние её части были написаны в первой половине 1820-х). В-третьих, множество украинских песен, вертепных драм, быличек, сказок, легенд. Из народного фольклора Гоголь, к примеру, позаимствовал сюжеты поездки на чёрте, свидания чёрта с ведьмой, поисков цветка папоротника и мотив призрачности богатства, полученного от нечистой силы.
Украинский фольклор в «Вечерах» Гоголь скрещивает с эстетикой немецкого романтизма: важное влияние на писателя оказали литературные сказки Гофмана и Людвига Тика . При этом нельзя сказать, что Гоголь первым догадался совместить романтические установки с украинским колоритом: к концу 1820-х годов Малороссия уже воспринимается литераторами как визитная карточка русского романтизма (конкурируя в этом качестве с Кавказом).
Как она была опубликована?
Самой первой в печати появилась повесть «Вечер накануне Ивана Купала» — она была опубликована в февральском номере «Отечественных записок» за 1830 год. Однако Гоголь остался недоволен многочисленными редакторскими правками Павла Свиньина и от дальнейших журнальных публикаций отказался. Зато благодаря дебюту в престижном издании начинающий писатель обзавёлся знакомствами в литературных кругах, теперь ему покровительствовал критик Пётр Плетнёв , который и посоветовал объединить все повести фигурой вымышленного издателя (примерно в это же время к такому приёму прибегает Пушкин в «Повестях Белкина», а до него — Вальтер Скотт). Гоголь выпустил «Вечера» двумя книжками (первая вышла в сентябре 1831 года, вторая — в марте 1832-го). Любопытно, что книжную версию повести «Вечер накануне Ивана Купалы» Гоголь предварил специальным предисловием, где в шуточной форме дистанцировался от журнального варианта повести. Рассказчик Фома Григорьевич, слушая пересказ своей же истории из «небольшой книжечки», приходит в негодование: «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучый москаль. Так ли я говорил? Що-то вже, як у кого чорт ма клепки в голови». Впрочем, каких-либо других свидетельств жёсткой правки Свиньиным «Вечера накануне Ивана Купалы» не существует — автограф журнальной редакции повести не сохранился, а стилистическая переработка книжной версии в целом соответствует общей эволюции гоголевского стиля 3 .
«Заколдованное место». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год
«Майская ночь». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год
«Страшная месть». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год
«Пропавшая грамота». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год
Как её приняли?
Широко известен восторженный отзыв о «Вечерах» Александра Пушкина: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошёл в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою» 4 . На самом деле историю о наборщиках Пушкину рассказал в письме сам Гоголь 5 :
Любопытнее всего было моё свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. <…> Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни.
Претензии в первую очередь предъявлялись Гоголю насчёт стиля. Об этом, в частности, рассуждал Фаддей Булгарин 6 : «Прочёл предисловие — и утомился. Развёртываю в нескольких местах, и описательная проза с необыкновенным многословием ужасает меня. Не терплю многословия и длинного описания бугров и рощей». Михаил Загоскин (со слов Сергея Аксакова) нашёл в гоголевском дебюте «неправильность языка, даже безграмотность» 7 . Пожалуй, самый гневный отзыв принадлежал Николаю Полевому , в своей критической статье он решил обратиться к анонимному автору напрямую: «Во-первых, все ваши сказки так не связны, что несмотря на многие прелестные подробности, которые принадлежат явно народу, с трудом дочитываешь каждую из этих сказок. Желание подделаться под малоруссизм спутало до такой степени ваш язык и всё ваше изложение, что в иных местах и толку не доберёшься» 8 . Полевой выразил уверенность, что автор «Вечеров» не имеет ничего общего с Малороссией («Довольно, мы видим, что вы самозванец-Пасичник, вы, сударь, Москаль, да ещё и горожанин»), из-за чего позже стал объектом ехидных шуточек.
В целом реакция литературных кругов на книгу была для Гоголя ободряющей. Андрей Синявский в работе «В тени Гоголя» писал, что молодой дебютант «очаровал Петербург галушками, козачком, горилкою, простонародными байками, песнями и легендами, толком не зная ни той страны, откуда всё это вывез, ни той, в которую это привёз». На первых порах в литературных кругах ему простили и фактические неточности, и шероховатость стиля: «Провинция, внушая снисхождение, себя оправдывала, собою прикрывалась (только потом догадались, какое лихо явилось к нам из провинции, да было поздно — Гоголь заполонил столицу)». 9
Что было дальше?
Гоголь довольно быстро охладел к своей дебютной книге — уже в 1833 году в письме Михаилу Погодину он отзывается о ней раздражённо: «Я даже позабыл, что я творец этих «Вечеров», и вы только напомнили мне об этом. <…> Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня». Пренебрежение автора к циклу заметно и в предисловии к первому собранию сочинений, предпринятому в 1842 году: «Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их…»
Такое же снисходительное отношение к «Вечерам» переняла и критика: долгое время ранняя проза Гоголя рассматривалась исключительно в контексте «Шинели» и «Мёртвых душ». Характерно в этом смысле едкое замечание Владимира Набокова: «Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом «Диканьки» и «Миргороды» — о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках». Однако наряду с этим складывалось и совсем другое отношение к «Вечерам» — как к произведению обманчиво простому, наполненному множеством скрытых смыслов. Так воспринимали гоголевский дебют в символистской или околосимволистской среде: многое для более глубокого понимания «Вечеров» сделали работы Василия Розанова, Дмитрия Мережковского, Андрея Белого. Постепенно в литературоведении сложилось понимание (в частности, благодаря работам Юрия Манна и Юрия Лотмана), что гоголевский цикл — не просто собрание сказочных историй из жизни Малороссии, а сложноустроенный универсум, который не стоит воспринимать буквально.
Цикл «Вечеров» был крайне востребован отечественным кинематографом. Экранизировать новеллы начали ещё в эпоху немого кино (см. фильмы Владислава Старевича), но бум экранизаций пришёлся на сталинскую эпоху с её попыткой опереться на фольклор и народные традиции «братских республик» (см. лубочные картины Николая Экка и Александра Роу). После оттепели гоголевские повести воспринимались как пространство для художественных экспериментов (см., например, аллегорическую экранизацию «Вечера накануне Ивана Купалы» Юрия Ильенко, оператора Сергея Параджанова). В постсоветской России «Вечера» стали материалом двухчастного комедийного мюзикла Сергея Горова («Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Сорочинская ярмарка»), где Оксану играет Ани Лорак, Солоху — Лолита Милявская, Хиврю — Верка Сердючка, а роль чёрта отдана Филиппу Киркорову. Не так давно тему Диканьки актуализировала трилогия о Гоголе («Гоголь. Начало», «Страшная месть» и «Вий») — готическая трэш-сказка с мистическими убийствами и расследованиями.
Почему именно Диканька вынесена в заглавие?
Непосредственно в Диканьке развиваются события лишь одной повести из восьми («Ночь перед Рождеством»). Зато близ Диканьки живёт пасечник Рудый Панько, вымышленный издатель «Вечеров»: «Как будете, господа, ехать ко мне, то прямёхонько берите путь по столбовой дороге, на Диканьку. Я нарочно и выставил её на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора». Это не шутка и не фигура речи, в ту пору Диканьку действительно можно было рассматривать как ориентир: со времён Екатерины II через эту деревню лежал путь высочайших особ в Малороссию. Князь Иван Михайлович Долгорукий писал в 1810 году, что Диканька — «лучшее местоположение под Полтавою» и «будто Екатерина II, быв на этом месте, изволила отозваться, что она лучше его ничего не видала» 10 . В 1820 году здесь также побывал Александр I. Диканька в ту пору принадлежала богатому и влиятельному князю Виктору Павловичу Кочубею. В 1828 году Александр Пушкин воспел его прадеда, Василия Леонтьевича, в поэме «Полтава»:
Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Имение Гоголей-Яновских находилось от владений Кочубея в полусотне километров. Вполне закономерно, что Гоголь в заглавии своей дебютной книги апеллировал к влиятельному соседу (и заодно к любимому Пушкину). Впрочем, уже спустя несколько лет Гоголь в письме к матери высказывается о Кочубее довольно заносчиво: «Велика важность, что Кочубей мерял нашу землю! Пусть он хоть всю её поместит у себя на плане! Мы можем поместить его Диканьку у себя на плане». В каком-то смысле именно это Гоголь и сделал благодаря «Вечерам».
Для чего Гоголь устраивает чехарду с рассказчиками?
Рассказчиков в «Вечерах» действительно так много, что можно запутаться. Самый главный из них — Рудый Панько, выступающий собирателем и издателем историй (наделив героя профессией пасечника, Гоголь уподобляет собирательство историй сбору мёда). Его основной и любимый рассказчик — дьяк Фома Григорьевич («Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место»). Ещё несколько историй («Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь») принадлежат «гороховому паничу» — его рассказам, по мнению Рудого Панька, свойственна раздражающая литературность: «Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдёт рассказывать — вычурно, да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападёт. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких!» Во второй книжке «Вечеров» появляется рассказчик Иван Степанович Курочка — его историю про Ивана Шпоньку издатель якобы переписывает с листа, но из-за того, что часть листов жена Рудого Панька использовала для приготовления пирожков, развития и окончания истории мы так и не узнаём. Ещё один рассказчик упоминается, но не называется (он «(нечего бы к ночи и вспоминать о нём) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове»), — вероятно, именно его авторству принадлежит «Страшная месть».
При таком композиционном многоголосии Гоголь умудряется множить рассказчиков уже внутри самой истории. Показательный пример — «Вечер накануне Ивана Купалы»: историю рассказывает Фома Григорьевич, который, в свою очередь, пересказывает рассказ своего деда, в основе которого лежат свидетельства «родной тётки» деда. Благодаря такому усложнению автор будто намеренно запутывает слушателя, сбивает со следа, показывая, что настоящим автором истории выступает не отдельный человек, а целый народ.
У многих героев «Вечеров» довольно экзотические фамилии. Они что-то означают?
Украинские фамилии у Гоголя близки к прозвищам, поэтому большинство из них вполне можно расшифровать. Например, имя Пузатого Пацюка из «Ночи перед Рождеством» — героя, умеющего поглощать галушки и вареники без использования рук, — в переводе с украинского означает толстую крысу. В экранизации Александра Роу сходство с животным персонажу придают серые усы, торчащие в разные стороны. Пацюк наводит на набожного кузнеца Вакулу ужас (даже не из-за левитирующих вареников, а из-за того, что Пацюк объедается скоромной пищей перед Крещением, в день сурового поста), и эта близость героя к нечисти дополнительно подчёркивается именем: крысы в славянской народной традиции считались нечистыми животными, наделёнными дьявольскими свойствами. Смысловую нагрузку у Гоголя несут не только прозвища, но и личные имена. В «Сорочинской ярмарке», к примеру, имя Хиври (сокращённое от Хавроньи) восходит к свинье, а имя её падчерицы Параски в народной этимологии означает «порося», поросёнка. Несмотря на выраженный внешний конфликт двух героинь, связь на уровне имён открывает ещё один смысловой слой рассказа: прекрасная Параска после свадьбы неизбежно превратится в злую бабу Хиврю. Не зря девушка примеряет на себя очипок мачехи, который до этого забрызгал грязью её будущий муж.
Однако не все прозвища героев «Диканьки» столь значимы, некоторые из них, кажется, составляют лишь предмет неприличной шутки (из-за чего на Гоголя нередко сердились критики-современники): например, имя одного из поклонников Солохи казака Свербыгуза означает буквально человека, «часто чешущего задницу», а имя парубка Кизяколупенко из этого же рассказа переводится как «колющий навоз». «У нас, не извольте гневаться — такой обычай, — предупреждал ранимых критиков Рудый Панько («рудый» значит «рыжий») в предисловии «Вечеров», — как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно».
Насколько Украина, описанная Гоголем, была близка к реальности?
Почти все повести «Вечеров» так или иначе соотносятся с историческим контекстом: начиная с «Майской ночи», где мельком упоминается путешествие Екатерины II в 1787 году на юг России, заканчивая «Ночью перед Рождеством», где Екатерина II и князь Григорий Потёмкин-Таврический выступают уже полноценными действующими лицами. Это касается не только XVIII века, но XVI–XVII веков: в «Страшной мести» исторически обоснована и история пана Данила, и даже легенда о двух братьях, Иване и Петре. Всего в «Вечерах» упоминается больше десятка лиц, связанных с историей Украины, среди которых Богдан Хмельницкий, Иван Подкова, Пётр Сагайдачный, Карп Полтора-Кожуха и т. д. Благодаря историческим параллелям и множеству краеведческих подробностей создаётся ощущение, что Малороссия в «Вечерах» описана максимально реалистично, однако всё здесь не так просто.
Буквально сразу же после выхода книги Гоголя начали критиковать за недостоверность изображения родного края: Андрей Стороженко под псевдонимом Андрий Царынный опубликовал обстоятельный разбор под названием «Мысли малороссиянина, по прочтении повестей пасичника Рудого Панька, изданных им в книжке под заглавием «Вечера на хуторе близ Диканьки», и рецензий на оныя», в нём он отметил множество языковых ошибок (например, неправильность использования обращения «пан») и несообразностей в поведении героев. Странным ему показался поступок Грицька в «Сорочинской ярмарке», просто так обругавшего пожилую незнакомую женщину («так бесчинствуют одни лишь горькие пьяницы…»), а также раскованность Параски, обнимающейся на ярмарке с разгульным парубком, который до этого запустил ком грязи в её мачеху («у нас всякая молоденькая девушка имеет стыд и страх Божий»). В 1861 году с похожей критикой выступил поэт Пантелеймон Кулиш, он счёл неправдоподобным сцену сватовства в «Сорочинской ярмарке», время свадьбы (их обычно играют осенью и зимой, поскольку август занят уборкой урожая), да и само описание свадьбы. Однако аномальность поведения героев в этой повести вполне может быть частью авторского замысла: согласно одной из трактовок, Параска выходит замуж не за удалого парубка, а за чёрта (имя Грицько, сокращённое от Григорий, в ту пору служило одним из обозначений чёрта), не зря разудалая весёлость происходящего отдаётся в конце повести тоскливым эхом.
Украинские публицисты отмечали, что «Вечера», как правило, не находят отклика в среде простого народа, читатели видят в них «неправду житьёву» 11 . Такое представление, кстати, отразилось в «Братьях Карамазовых» Достоевского, в сцене, где Фёдор Павлович даёт почитать гоголевскую книжку юному Смердякову:
Малый прочёл, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив, кончил нахмурившись.
— Что ж? Не смешно? — спросил Фёдор Павлович.
Смердяков молчал.
— Отвечай, дурак.
— Про неправду всё написано, — ухмыляясь прошамкал Смердяков.
Малороссия в «Вечерах», несмотря на обилие реальных деталей, предстаёт страной скорее фантастической, где всё основано на принципе чрезмерности: каждая эмоция усилена, каждое действие сопровождено гиперболой. «…Родная Украина становится какой-то неведомой, роскошной страной, где всё превосходит обычные размеры, — писал о цикле Гоголя Валерий Брюсов. — Такова была сила его дарования… что он не только дал жизнь этим вымыслам, но сделал их как бы реальнее самой реальности». Создав свою собственную Малороссию по книгам и воспоминаниям, Гоголь заставил поверить в неё всех остальных.
Почему женщины в «Вечерах» такие властные?
Большинство героинь Гоголя не только не дают себя в обиду, но и сами выступают обидчицами мужчин. Так, к примеру, в «Сорочинской ярмарке» под гнётом жены страдает Солопий Черевик (ещё одно значимое прозвище: «черевик» значит «сапожок», то есть Солопий буквально находится под сапогом у супруги). Он боится излишне перечить жене Хивре, поскольку та может его побить («Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями»). Побоев боятся и другие герои «Вечеров»: дьяк Осип Никифорович из «Ночи накануне Рождества», изменяя жене с Солохой, больше всего переживает, «чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узинькую», жена Кума из того же рассказа регулярно вступает с ним в драку («Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей; и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами»), а жена ткача пробует на муже силу кочерги («Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу; дала пивкопы — та ничего… не больно»). Стоит вспомнить и тётушку Василису Кашпоровну из рассказа про Шпоньку, в присутствии которой все мужчины ощущали робость:
Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить тёмно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день Светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты.
Выводя таких героинь, Гоголь, разумеется, не намекал ни на какую эмансипацию — для него это типичный комический приём в духе вертепной пьесы: муж-слабак под каблуком у властной сварливой жены. Однако исследователь Иван Ермаков, анализировавший «Вечера» с позиций психоанализа, отмечал, что Гоголь не просто шутил, он тяготел к описанию зрелых женщин: в случае с молодыми девушками (Оксана, Ганна, Параска) писатель довольствовался перечислением эпитетов красоты, которые встречаются в народных песнях (блестящие чёрные очи, косы, брови), тогда как в характеристике старух он чувствовал себя куда более свободным, «там вступал в силу его талант» 12 . Любопытно, что в женщинах, властвующих над мужчинами, у Гоголя почти всегда заложено демоническое начало — они постоянно сравниваются с чертями и ведьмами.
Солопий из «Сорочинской ярмарки», напуганный появлением головы свиньи в окне, бросается наутёк из дома: он думает, что за ним гонится чёрт, на самом деле за ним следует испуганная Хивря. Цыгане, обнаружившие их лежащими друг на друге, тоже припоминают чёрта:
— Что лежит, Влас?
— Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них чорт, уже и не распознаю!
— А кто наверху?
— Баба!
— Ну, вот, это ж то и есть чорт! — Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.
В украинском фольклоре женщина часто соотносится с дьяволом. По одной из легенд, женщина была сотворена не из ребра Адама, а из хвоста чёрта. По другой — увидев бабу и чёрта, апостол Пётр отрубил им обоим головы, а затем приставил их наоборот, с тех пор баба ходит с головой чёрта 13 . Мистический ужас перед женщиной, которая может лишить мужчину воли (будь то угрозами, как Хивря, или своим обаянием, как Солоха), распространяется на весь цикл и находит отражение даже в рассказе про Шпоньку, казалось бы избавленном от всякой потусторонности. После сватовства Ивану Фёдоровичу снится страшный липкий сон:
То представлялось ему, что он уже женат, что всё в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею; и замечает, что у неё гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — ещё одна жена. Тут его берёт тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена…
Как известно, сам Гоголь тоже опасался сближаться с женщинами и всю жизнь оставался холостым.
За что герои «Вечеров» клянут «москалей»?
«Москаль» здесь определённо ругательное слово: «если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля», «да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли», «пьяный москаль побоится выбросить их нечестивым своим языком», «когда чорт да москаль украдут что-нибудь — то поминай как и звали» и т. д. Однако «москаль» в речи казаков обозначает не москвича, как можно подумать, и даже не обязательно русского: в старину на Украине так называли офицеров, солдат, чиновников, находящихся на государственной службе 14 . Считалось, что им свойственна склонность к обману и пройдошливость. Однако в «Вечерах» также встречается бранное слово «кацап», которое обозначает как раз человека из России. Его употребляет сосед Шпоньки в светской беседе: «Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами».
Вообще, мир «Вечеров» — плодотворная почва для любого рода ксенофобии. В нелестном контексте упоминаются цыгане (они считались «сродни чорту»), евреи («жиды» в фольклоре воспринимались как черти, только ещё хитрее), немцы (под «немцами» понимались любые иностранцы, и они, сюрприз, тоже соотносились с бесами). Но, пожалуй, самыми лютыми врагами для героев «Вечеров» являются католики и ксёндзы. Эта нетерпимость — эхо Брестской унии 1596 года, по которой православная церковь на Украине перешла в подчинение папе, что привело к столкновениям между казачеством и поляками; для многих (особенно малообразованных) жителей Малороссии того времени слово «католик» превратилось в бранное.
Как устроен у Гоголя мир нечистой силы?
Колдовской мир в фольклорном сознании никак не отделён от мира людей, напротив, он состоит с ним в тесных, а зачастую даже в родственных связях. Ведьма Солоха — мать набожного кузнеца Вакулы, который смог одурачить чёрта. Колдун из «Страшной мести» — отец Катерины, жены главного героя Данилы. Ведьма из «Майской ночи» — мачеха панночки, ставшей утопленницей. В «Вечерах» нечисть ведёт себя как люди, а люди — как нечисть. Статус многих героев из-за такой диффузии остаётся непонятным: например, знахарь Пацюк из «Ночи перед Рождеством» застрял где-то посередине между человеческим и демоническим. Сложно охарактеризовать и Басаврюка из «Вечера накануне Ивана Купалы» — он то ли «бесовской человек», то ли чёрт, обернувшийся человеком, то ли ходячий покойник: такая расплывчатость для фольклора обычно не характерна.
Приметами связи с демоническим миром в «Вечерах», как и в народной традиции, служат самые невинные вещи: растрёпанные волосы, косоглазие, хромота. Любая инаковость объясняется чертовщиной. Всё, что не соответствует принципам и стандартам патриархальной общины, понимается как проделки дьявола: в связях с нечистым чаще всего подозреваются женщины, люди других национальностей или вероисповеданий, безродные отщепенцы. Характерным примером в этом смысле служит рассказ «Страшная месть»: мы наблюдаем, как отец Катерины, находящийся в ссоре с зятем, постепенно раскрывает свою демоническую сущность, будто намеренно подтверждая подозрения Данилы. Отец Катерины возвращается из чужих краёв после двадцати лет скитаний (уже странно!), не ест привычную еду и отказывается от алкоголя, чем сразу же вызывает в зяте возмущение: «Не захотел выпить! слышишь, Катерина, не захотел мёду выпить… <…> Горелки даже не пьёт! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует. А? как тебе кажется?» Ещё сильнее настраивают Данилу против свёкра зловещие предвестия и кошмарные сны жены. Кажется, будто он заковывает в цепь отца Катерины не столько из-за того, что тот колдун, сколько из-за предательства родины и веры. Андрей Белый, к примеру, интерпретировал «Страшную месть» как социальную историю, а не мистическую: «Суть же не в том, что «колдун», а в том, что — отщепенец от рода, «страшно» не оттого, что «страшен», а оттого, что страшна жизнь, в которой пришелец издалека выглядит непременно «антихристом».
Согласно Белому, настоящий ужас «Вечеров» сосредоточен не в изображении чертей и ведьм, а в изображении патриархального общества: «Всякий инако слаженный, — хозяйственник ли, инако мыслящий ли, инако ли одёвый, инако ли сеющий репу, внушает ужас любому скопищу людей, которое тут же «срастается в одно громадное чудовище» (как у Гоголя в «Сорочинской ярмарке». — Прим. ред.); каждому в сросшемся со всем, что ни есть, состоянии кажется, «будто залез в прадедовскую душу» он; а кто не залез, того — бей!»
Где в «Вечерах» прячется сам Гоголь?
Комическое альтер эго писателя можно увидеть в образе панича в гороховом сюртуке, рассказчика нескольких историй из первой части «Вечеров». Иронические комментарии Рудого Панька насчёт излишней литературности историй панича, по сути, предвосхищают упрёки критиков, которых раздражает высокопарный слог Гоголя. В облике героя есть и общие с писателем черты, например способность вынюхать большую порцию табака; в «Вечерах»: «…Захвативши немалую порцию табаку, растёртого с золою и листьями любистка, поднёс её коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца», а вот запись Гоголя в альбоме Елизаветы Чертковой: «…Мой <нос> решительно птичий, остроконечный и длинный… могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки».
Трагическое же альтер эго писателя можно рассмотреть в образе колдуна из «Страшной мести» (о его автобиографизме писали Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Блок, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремизов, Иван Ермаков). И панича, и колдуна роднит друг с другом их статус чужого в диканьковском мире и нежелание соблюдать установленные в нём традиции. Этот бескомпромиссный индивидуализм, чувство отчуждения и инаковости было хорошо знакомо Гоголю (см. у Набокова: «Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все; надевал правый башмак на левую ногу; посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из «Алисы в Зазеркалье»). Панич и колдун, по сути, представляют собой два полюса гоголевского творчества: на одном из которых «настоящая весёлость», по Пушкину, на другом — жуткая дьявольщина, пустота.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Белый А. Мастерство Гоголя. М., Л.: ОГИЗ — ГИХЛ, 1934 // https://imwerden.de/pdf/belyj_masterstvo_gogolya_1934__ocr.pdf
- Виноградов В. В. Язык Гоголя // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 286–376.
- Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь / Предисл. и сост. Л. Аллена. СПб.: Logos, 1994.
- Гоголь в русской критике: Сборник статей. М.: ГИХЛ, 1953.
ИСТОЧНИК
Вечера на хуторе близ Диканьки |
|
|
|
|
| Основная информация | |
| Название |
Вечера на хуторе близ Диканьки |
| Автор |
Гоголь, Николай Васильевич |
| Оригинальное название |
Вечера на хуторѣ близъ Диканьки |
| Годы написания |
1829—1832 |
| Число глав |
8 |
| Жанр |
Повести |
| Страна |
Российская империя |
| Язык |
русский |
| Первое издание |
1831, 1832 |
| Число страниц |
245 |
Вечера́ на ху́торе близ Дика́ньки (оригинальное название — Вечера на хуторѣ близъ Диканьки) — первая книга Николая Васильевича Гоголя. Состоит из двух томов.
Предисловие
«Это что за невидаль: Вечера на хуторе близ Диканьки? Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарали пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».
Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! — Это все равно, как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборвавшийся мальчишка, посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Я вам скажу… Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором, вот уже пять лет, как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался — плачь, не плачь, давай ответ.
У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрыпка, говор, шум… Это у нас вечерницы! Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы, если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом — подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.
Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки, или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком — ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся, накануне праздничного дня, добрые люди, в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка Диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в тонком суконном балахоне, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный, белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю, и прятал в пазуху. А один из гостей… Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать — вычурно, да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата, у него лопатус; баба, бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хвать его по лбу. «Проклятые грабли! — закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин. — Как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! — Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посереди комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, — и все ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя, чуть ли еще не поговорку: «не мечите бисера перед свиньями»… «Быть же теперь ссоре», — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастию, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того, чтоб показать шиш, протянулась к книшу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости Господи, как черта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до Нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину, в православной стороне нашей. Меж ними, статься может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали, да читали, а у меня, пожалуй, лень только проклятая рыться, наберется и на десять таких книжек.
Да вот было и позабыл самое главное. Как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге, на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслушались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?» — «А вот там!» — скажет он, указавши пальцем, и если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу однако ж не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич, третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.
Зато уже, как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, какие вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот — дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя, какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло, так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушовый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или, не случалось ли вам, подчас, есть путрю с молоком? Боже ты мой, какие на свете нет кушаньев! Станешь есть — объеденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года… Однако ж, что я в самом деле разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному.
Пасичник Рудый Панько.
На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.
Банду́ра, инструмент, род гитары.
Бато́г, кнут.
Боля́чка, золотуха.
Бо́ндарь, бочарь.
Бу́блик, круглый крендель, баранчик.
Буря́к, свекла.
Бухане́ц, небольшой хлеб.
Ви́нница, винокурня.
Галу́шки, клёцки.
Голодра́бец, бедняк, бобыль.
Гопа́к, малороссийский танец.
Горлица, малороссийский танец.
Дивчина, девушка.
Дивча́та, девушки.
Дижа́, кадка.
Дрибу́шки, мелкие косы.
Домови́на, гроб.
Ду́ля, шиш.
Дука́т, род медали, носится на шее.
Зна́хор, многознающий, ворожея.
Жи́нка, жена.
Жупа́н, род кафтана.
Кагане́ц, род светильни.
Кле́пки, выпуклые дощечки, из коих составлена бочка.
Книш, род печеного хлеба.
Ко́бза, музыкальный инструмент.
Комо́ра, амбар.
Кора́блик, головной убор.
Кунтуш, верхнее старинное платье.
Корова́й, свадебный хлеб.
Ку́холь, глиняная кружка.
Лысый дидько, домовой, демон.
Лю́лька, трубка.
Маки́тра, горшок, в котором трут мак.
Макого́н, пест для растирания мака.
Малаха́й, плеть.
Ми́ска, деревянная тарелка.
Молоди́ца, замужняя женщина.
На́ймыт, нанятой работник.
На́ймычка, нанятая работница.
Оселе́дец, длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо.
Очи́пок, род чепца.
Пампу́шки, кушанье из теста.
Па́сичник, пчеловод.
Па́рубок, парень.
Пла́хта, нижняя одежда женщин.
Пе́кло, ад.
Пере́купка, торговка.
Переполо́х, испуг.
Пейсики, жидовские локоны.
Пове́тка, сарай.
Полу́табенек, шелковая материя.
Пу́тря, кушанье, род каши.
Рушни́к, утиральник.
Свитка, род полукафтанья.
Синдя́чки, узкие ленты.
Сластёны, пышки.
Сво́лок, перекладина под потолком.
Сливянка, наливка из слив.
Сму́шки, бараний мех.
Со́няшница, боль в животе.
Сопи́лка, род флейты.
Стуса́н, кулак.
Стри́чки, ленты.
Тройча́тка, тройная плеть.
Хло́пец, парень.
Ху́тор, небольшая деревушка.
Ху́стка, платок носовой.
Цибу́ля, лук.
Чумаки́, обозники, едущие в Крым за солью и рыбою.
Чупри́на, чуб, длинный клок волос на голове.
Ши́шка, небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.
Юшка, соус, жижа.
Ятка, род палатки или шатра.
Структура произведения
Окольцовывают обе книги рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича — лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах произведения, пребывая в некой духовной и исторической слитности.
Содержание
Часть первая
- «Сорочинская ярмарка»
- «Вечер накануне Ивана Купала »
- «Майская ночь, или Утопленница»
- «Пропавшая грамота»
Часть вторая
- «Ночь перед Рождеством»
- «Страшная месть»
- «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»
- «Заколдованное место »
Экранизации
- Страшная месть (фильм, 1913)
- Ночь перед Рождеством (фильм, 1913)
- Сорочинская ярмарка (фильм, 1938)
- Черевички (фильм, 1944)
- Пропавшая грамота (мультфильм, 1945)
- Ночь перед Рождеством (мультфильм, 1951)
- Майская ночь, или Утопленница (фильм, 1952)
- Вечера на хуторе близ Диканьки (фильм, 1961)
- Вечер накануне Ивана Купалы (фильм, 1968)
- Пропавшая грамота (фильм, 1972)
- Цветок папоротника (мультфильм, 1979)
- Страшная месть (мультфильм, 1988)
- Вечера на хуторе близ Диканьки (фильм, 2001)
- Сорочинская ярмарка (фильм, 2004)
- Гоголь. Начало (фильм, 2017)
- Гоголь. Вий (фильм, 2018)
- Гоголь. Страшная месть (фильм, 2018)
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»,
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»,
сборник повестей Гоголя в двух частях. Впервые опубликован: СПб., 1831–1832 (2-е изд. — 1836). Имеет подзаголовок: «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком». Работа над В. на х. близ Д. началась весной 1829 г. 30 апреля 1829 г.
Гоголь просил мать прислать ему материалов по Малороссии: «В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов с поименованием, как это называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиан; равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкве одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов; я думаю, Анна Матвеевна или Агафия Матвеевна много знают кое-чего из давних годов. Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей; об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут, прозвища не вспомню), которого мы видели учредителем свадеб и который знал, по-видимому, все возможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов, и проч. и проч. и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно».
2 мая 1831 г. в письме А. С. Данилевскому Гоголь отмечал, что выход В. на х. близ Д… задерживается по совершенно непредвиденной причине: «Моя книга вряд ли выйдет летом: наборщик пьет запоем». 21 августа 1831 г. в письме А. С. Пушкину Гоголь запечатлел процесс печатанья В. на х. близ Д.: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидев меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору (распорядителю работ. — Б. С.), и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни».
Сам Пушкин в письме А. Ф. Воейкову в конце августа 1831 г. признавался: «Сейчас прочел „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель зашел в типографию, где печатались „Вечера“, то наборщики стали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу». Здесь изложен эпизод, рассказанный самим Гоголем в письме от 21 августа 1831 г. Пушкин предпочел назвать Гоголя не автором, а издателем сборника, памятуя, что пасичник Рудый Панько, от лица которого написаны повести, именуется в заглавии их издателем. Тем самым подчеркивается, что писатель лишь собрал и издал то, что было изречено народом.
19 сентября 1831 г., посылая экземпляр В. на х. близ Д. матери, Гоголь писал: «…Я прошу вас принять эту небольшую книжку. Она есть плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Она понравилась здесь всем, начиная от государыни; надеюсь, что и вам также принесет она сколько-нибудь удовольствия, и тогда я уже буду счастлив». 2-е издание В. на х. близ Д. Гоголь собирался осуществить еще в 1832 г.
20 июля 1832 г. Гоголь писал из Васильевки М. П. Погодину в Москву: «Если будете в городе, дайте знать книгопродавцам, авось-либо не купят 2-го издания Вечеров на хуторе. Много из здешних помещиков посылало в Москву и Петербург, нигде не могли достать ни одного экземпляра. Что это за глупый народ книгопродавцы! Неужели они не видят всеобщих требований? Отказываются от собственной прибыли! Я готов уступить за 3000 р., если не будут давать более. Ведь это им приходится менее, нежели по три рубли за экземпляр, а они будут продавать по 15 р., итого 12 р. барыша на книжке. Пусть они вдруг продадут только 200 экземпляров, то вырученная сумма за эти экземпляры уже вдруг окупит издержки. Остальные 1000 экземпл. в течение года или двух, верно, разойдутся, особливо когда еще выйдет новое детище. Теперь я бы взял от них только 1500 р. потому, что мне очень нужны, а остальных я бы мог подождать месяца два или три». Однако книгопродавцы не проявили интереса к изданию. 1 февраля 1833 г. Гоголь в письме М. П. Погодину невысоко оценивал В. на х. близ Д., как и другие свои ранние произведения, и заявил об отказе от переиздания: «Вы спрашиваете об Вечерах Диканских. Чорт с ними! Я не издаю их. И хотя денежные приобретения были бы не лишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекуляционными оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих Вечеров, и вы только напомнили мне об этом. Впрочем, Смирдин напечатал полтораста экземпляров 1-й части, потому что второй у него не покупали без первой. Я и рад, что не больше. Да обрекутся они неизвестности, пока что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня».
В. Г. Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) подчеркивал: «Г. Гоголь сделался известным своими „Вечерами на хуторе“. Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви…» В другой статье, «Русская литература в 1841 году», В. Г. Белинский писал, что в В. на х. близ Д. «комизм веселый, улыбка юноши, приветствующего Божий мир. Тут все светло, все блестит радостию и счастием: мрачные духи жизни не смущают тяжелыми предчувствиями юного сердца, трепещущего полнотою жизни. Здесь поэт как бы сам любуется созданными им оригиналами. Однакож эти оригиналы не его выдумка, они смешны не по его прихоти; поэт строго верен в них действительности. И потому всякое лицо говорит и действует у него в сфере своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого оно находится. И ни одно из них не проговаривается: поэт математически верен действительности и часто рисует комические черты без всякой претензии смешить, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту действительности».
В рецензии на второе издание В. на х. близ Д., опубликованной в 1 томе «Современника» за 1836 г., А. С. Пушкин писал: «Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над нами появлением „Вечеров на хуторе“: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал „Арабески“, где находится его „Невский проспект“, самое полное из его произведений. Вслед за тем явился „Миргород“, где с жадностию все прочли и „Старосветских помещиков“, эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и „Тараса Бульбу“, коего начало достойно Вальтер Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь говорить о нем в нашем журнале».
В письме В. А. Жуковскому от 29 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.) Гоголь следующим образом обрисовал генезис В. на х. близ Д.: «…Еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединились к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целые сословия и классы общества…» По свидетельству О. М. Бодянского, незадолго до смерти Гоголь собирался не включать В. на х. близ Д. в собрание сочинений, находя в книге «много незрелого».
Из критиков, может быть, наиболее полно и близко к авторскому замыслу охарактеризовал В. на х. близ Д. А. А. Григорьев в статье «Гоголь и его последняя книга» (1847): «Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо, — все в них ясно и весело, самый юмор простодушен, как юмор народа, еще не слыхать того злобного смеха, который после является единственным честным лицом в произведениях Гоголя, — хотя в то же самое время и здесь, уже в этих первых поэтических впечатлениях, выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта — свойство очертить всю пошлость пошлого человека и выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросаются на глаза (слова последней книги Гоголя); это свойство здесь не выступило еще карающим смехом, оно добродушно, как шутка, и потому как-то легко, как-то светло на душе читателя, как светло и легко на душе самого поэта, еще не вышедшего из-под обаяния родного неба, еще напоенного благоуханием черемух его Украйны. Ни один писатель, может быть, после древних, не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою, как Гоголь; ни один писатель не носит в себе, как он, такого пластического постижения красоты (вспомните только Аннунциату в его „Риме“, это создание могущественной кисти мастеров древней Италии), красоты полной, существующей для всех и для всего, — никто, наконец, как этот человек, призванный очертить пошлость пошлого человека, не полон так сознания о прекрасном человеке, прекрасном физически и нравственно, и по тому самому ни один писатель не обдает вашей души такою тяжелою грустью, как Гоголь, когда он беспощадно разнимает трупы, обливается желчью и негодованием над утраченным образом Божиим в человеке, образом вечно прекрасного. Но в „Вечерах на хуторе“… все еще светло и наивно, в самом пороке отыскивает еще поэт добродушную сторону, и образ пьяного Каленика, отплясывающего трепака на улице в ночь на Рождество Христово, — еще чисто гомерический образ. В этом быте, простом и непосредственном быте Украйны, поэт видит свою Галю чудное существо, которое спит в божественную ночь, очаровательную ночь, раскинув черные косы под украинским небом, на котором серпом стоит месяц… все еще полно таинственного обаяния — и прозрачность озера, и фантастические пляски ведьм, и образ утопленницы, запечатленный какой-то светлой грустью. А Сорочинская ярмарка, с шумом и толкотнею ее повседневной жизни, а ночь на Рождество Христово, с молодцом кузнецом Вакулой и с его гордой красавицей Оксаной, а исполинские образы двух братьев Карпатских гор, осужденных на страшную казнь за гробом, эти дантовские образы народных преданий, — все это еще и светло, и таинственно, как лепет ребенка и сказки старухи няньки».
К. В. Мочульский в работе «Духовный путь Гоголя» (1933) писал, что в В. на х. близ Д. «повести можно расположить по степеням нарастающей мрачности. В „Пропавшей грамоте“ и „Заколдованном месте“ — чертовщина уморительная и „домашняя“: обе повести являются своего рода демонологическими анекдотами. В „Майской ночи“ и „Ночи перед Рождеством“ борьба добра со злом уже труднее: нужна святая панночка, чтобы победить страшную ведьму, нужен благочестивый кузнец-иконописец, чтобы одолеть черта. И, наконец, в „Вечере накануне Ивана Купала“ и в „Страшной мести“ смех совсем замолкает. Забавное уступает место ужасному. Независимо от народной традиции автор создает чудовищные и зловещие образы Басаврюка и колдуна, отца Катерины. Описание мертвецов, выходящих лунною ночью из могил на берегу Днепра, рассказ о схватке колдуна с всадником, сцена вызова души Катерины — самые сильные страницы в „Вечерах“. Это первые звуки не заученной, а своей художественной речи».
А. К. Воронский в книге «Гоголь» (1934) утверждал по поводу В. на х. близ Д.: «Фантастическое у Гоголя отнюдь не внешний прием, не случайное и не наносное. Удалите черта, колдуна, ведьм, мерзостные, свиные рыла, повести распадутся не только сюжетно, но и по своему смыслу, по своей идее. Злая, посторонняя сила, неведомо, со стороны откуда-то взявшаяся, разрушает тихий, безмятежный, стародавний уклад с помощью червонцев и всяких вещей вот в чем этот смысл. В богатстве, в деньгах, в кладах, — что-то бесовское: они манят, завлекают, искушают, толкают на страшные преступления, превращают людей в жирных скотов, в плотоядных обжор, лишают образа и подобия человеческого. Вещи и деньги порой кажутся живыми, подвижными, а люди делаются похожими на мертвые вещи; подобно Чубу, куму, дьяку они благодаря интригам черта превращаются в кули».
Читайте также
Близ Насирии
Близ Насирии
Насирия — город на берегу реки Евфрат в Южном Ираке, примерно в 125 милях (200 км) к северо-западу от Кувейта. Сам город был взят морской пехотой еще 31 марта, но боевые действия в его окрестностях продолжались еще довольно долго, поскольку небольшие группы
2. БЛИЗ ТЕБЯ
2. БЛИЗ ТЕБЯ
Мне хочется, мне хочется с тобой остаться вместе,
Глядеть в твои глаза, в лучистое лицо.
Мне хочется надеть тебе, моей невесте,
На пальчик маленький красивое кольцо.
Когда я близ тебя, я тихо воскресаю.
Я делаюсь цветком, раскрывшим лепестки.
Я словно вдруг
Зимовье на хуторе
Зимовье на хуторе
Короткий день.
А вечер долгий.
И непременно перед сном
Весь ужас ночи за окном
Встает. Кладбищенские елки
Скрипят. Окно покрыто льдом.
Порой без мысли и без воли
Смотрю в оттаявший глазок
И вдруг очнусь — как дико в поле!
Как лес и
«Это было в сентябре, на хуторе…»
«Это было в сентябре, на хуторе…»
Это было в сентябре, на хуторе.
(Боже мой, какие были дни!)
Ты возилась с глиняною утварью,
Были мы на хуторе одни.
В тёплый полдень шли тропинкой узкою.
Огородами мы шли к пруду.
И стояла осень — южно-русская.
Это — в девятнадцатом
На хуторе
На хуторе
Население станицы в те годы составляло, видимо, тысяч шесть, а земельные угодья отдаленных участков находились в десяти и более километрах. Езда на такие расстояния на волах занимала по два часа в одну сторону. Община решила предоставить молодым семьям
НА РАЗЪЕЗДЕ БЛИЗ ВОЙБОКАЛО
НА РАЗЪЕЗДЕ БЛИЗ ВОЙБОКАЛО
Ночь выдалась холодной, свежий восточный ветер всю ночь омывал нас холодным душем. Переход должен был пройти незаметно для противника, поэтому на всем пути нас сопровождала почти полная тишина. Шли молча, тихо, но быстро, с боковым охранением и
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Общеизвестен рассказ самого Гоголя о выходе «Вечеров»: «Любопытнее всего, — писал он Пушкину, — было мое свидание с типографией: только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку,
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»,
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»,
сборник повестей Гоголя в двух частях. Впервые опубликован: СПб., 1831–1832 (2-е изд. — 1836). Имеет подзаголовок: «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком». Работа над В. на х. близ Д. началась весной 1829 г. 30 апреля 1829 г.Гоголь просил мать
ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ ПОВЕСТИ, ИЗДАННЫЕ ПАСИЧНИКОМ РУДЫМ ПАНЬКОМ. ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ
ПОВЕСТИ, ИЗДАННЫЕ ПАСИЧНИКОМ РУДЫМ ПАНЬКОМ. ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени, поющего и пляшущего, этим свежим
«На Мойке, близ Конюшенного мосту»
«На Мойке, близ Конюшенного мосту»
В сентябре 1836-го Пушкины переехали на новую квартиру. Последнюю.«Нанял я, Пушкин, в собственном ее светлости княгини Софьи Григорьевны Волконской доме… от одних ворот до других нижний этаж из одиннадцати комнат состоящий со службами…
На хуторе Юзефа
На хуторе Юзефа
Солнце покидало землю, но вдалеке ещё светились цинковые кровли. Туда, петляя, тянулась полевая дорога. В стороне от дороги торчал сломанный журавль колодца. Лёгким холодком тянуло из низинок. Выставили круговое охранение, и взвод, вернее, его остатки
Близ старой Смоленской дороги
Близ старой Смоленской дороги
В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.Клубы золотисто-зеленой пыли, почему-то пахнущей ванилью, закрывали какую-то
Глава II Боровск близ Соликамска
Глава II
Боровск близ Соликамска
Живи, умей всё пережить:
Печаль и радость и тревогу.
Что делать? И о чём тужить?
День пережит — и слава богу!
Ф. И. Тютчев
Боровск того времени, о котором идет моё повествование, был довольно большим рабочим посёлком, возникшим в 30-е годы на
Близ озера Балатон
Близ озера Балатон
Генерал-лейтенанту Александру Степановичу Осипенко мы, испанские летчики, глубоко благодарны за ту огромную помощь, которую он оказал нам в начале Великой Отечественной войны, содействуя зачислению нас в действующие на фронтах авиационные части. Он,
Детство на хуторе (1974–1978)
Детство на хуторе (1974–1978)
Становление автора в глухой деревнеВ ссылке я провела все детство – несколько лет до школы, впрочем, помню их смутно. Дед купил дом на окраине отдаленой деревни, так что оттуда видны были только несколько крыш на горизонте. В традиционной хате