Теперь, когда сюжет романа более или менее уяснен, можно приступить к подробному его рассмотрению. Начать надо, мы уже говорили, с появления романа Мастера. Это центр всего, от него и к нему сходятся все нити: тьма, когда-то 2000 лет назад накрывшая Ершалаим и прокуратора Иудеи, обернулась еще более страшной тьмой, накрывшей теперь Москву и Мастера. Что ж, за каждое деяние надо расплачиваться, за распятие добра и света — тем более. Казнь Иешуа обернулась появлением Воланда. И хорошо еще, что дьявол смог появиться и ему волей-неволей приходится вести разговор об Иисусе (Христе), потому что то безверие, на котором так настаивают и о котором столько говорят герои романа Булгакова — прежде всего, Берлиоз и Иван, оказывается на поверку ненастоящим, поддельным и при первом же серьезном ударе начинает разваливаться на глазах. В нынешнее время, думается, и появление дьявола, во всяком случае, появление его, так сказать, в благородном виде, вряд ли уже возможно. Кстати, Воланд у Булгакова просматривается и в своем настоящем облике — в облике подлинного князя тьмы, только вот опоры и отзыва (полного отзыва) он ни в одном из булгаковских героев не находит и таким образом реализоваться не может. Даже у барона Майгеля — и у того при встрече с Воландом в конце концов не выдерживает сердце.
О непосредственном влиянии появления романа Мастера на события, развертывающиеся в самом романе Булгакова, мы уже говорили. Роман Мастера дал толчок ко всему действию романа Булгакова — и к поэме Ивана, и к разговору о Христе, и, через это, к появлению Воланда, и так далее. Роман Мастера появился в самый пик Берлиозова «управления», на самой, казалось бы, вершине его благополучия. (Характеристику романа Булгакова мы начнем с Берлиоза; думаю, что этот образ не менее важен, чем образ Мастера: именно Берлиоз — вольно или невольно — становится идейным руководителем и вдохновителем всей тьмы, которая обрушивается на Мастера и вообще на Москву, он же первый встречается с Воландом и для него первого эта встреча заканчивается смертью.) Я говорю «казалось бы», потому что о полном благополучии все-таки, пожалуй, говорить невозможно, раз за пределами его правления мог появиться роман Мастера. Но высшая точка этого благополучия, несомненно, была достигнута, как, с другой стороны, наверное, и высшая точка неблагополучия Мастера. Так, собственно, и должно было быть: благополучие одного неизбежно влечет за собой неблагополучие другого и наоборот. Это два прямо противоположных, антагонистических образа, хотя надо сказать, что главное сражение Берлиоз все-таки, думается, ведет не против Мастера и даже не против Иешуа, а против… самого себя: Берлиоз против Берлиоза, иначе бы вряд ли для него была возможна встреча с Воландом. Но пока не будем об этом. Берлиоз и Мастер, повторяю, два антагонистических образа: безжизненные теории Берлиоза и живая жизнь в романе Мастера — вот главное противоречие. И, конечно, еще более антагонистичны образы Берлиоза и Иешуа. Мастер только угадывал, гениально угадывал то, что уже было, то есть уже сотворенное. Иешуа творил из себя, из собственной своей природы и сути, так Бог, наверное, творил свет. Берлиоз творцом не был. Как-то Иван, сочиняя заявление на Воланда, запутался, по своему неумению выразить мысль, в двух Берлиозах — в том, о котором сейчас идет речь, и в другом — композиторе, и вынужден был прибавить в пояснение к фамилии Берлиоза слово «не композитор». В том-то все и дело, в конце концов все и обусловлено тем, что он — «не композитор». Хотя фамилию он носил творческую — был однофамильцем композитора. Была ли это действительная его фамилия или литературный псевдоним? Очень возможно, что и псевдоним: Берлиоз ведь (на то он и был Берлиоз — виртуоз) умел, когда надо, очень быстро менять обстановку: он и Киев, скорее всего, когда-то поменял на Москву, и прежнее свое жилье — на квартиру ювелирши, возможно, и фамилию поменял на псевдоним, тем более, когда стал «управлять» творческими писательскими организациями, — здесь, конечно, и фамилия должна была стать соответствующей, творческой. В этом отношении Берлиоз, как скажет о нем Мастер, был очень хитрым человеком.
Впрочем, фамилия «Берлиоз» вполне ему соответствовала. К ней (мы уже говорили) тут же напрашивается рифма «виртуоз». Возможно, в какой-то мере, он и рассчитывал подменить виртуозностью (в том числе и в познаниях — они у него были солидные, и он ловко ими манипулировал) отсутствие творческого начала. На первых порах это могло и удаться, и удавалось, но только до тех пор, пока рядом не оказался истинный творец, истинный «управитель». Берлиоз, еще раз повторим, не был «композитором», не был творцом, а претензии, между прочим, имел большие — хотел «управлять» творцами, руководить творческим процессом. Правда, надо сказать, эти «творцы» были, как говорится, не ахти, но, каков поп, таков и приход, — иными они не могли быть под берлиозовским началом. Он не был «композитором», а тот другой, казненный, которого он захотел объявить несуществующим, был творцом. Конечно, по-настоящему Берлиоз этого понять не мог, отозваться на ту, другую жизнь, другую истину, которая стояла за Иешуа, хотя бы как Сальери отзывался на музыку Моцарта, — не говоря уже об Иване, после рассказа Воланда о Пилате, по сути, перечеркнувшем и всю свою прежнюю жизнь, и все свое творчество, и самого себя, — он был не в состоянии, но кое-что он все-таки разумел. Он не был ни Сальери, ни Иваном, но он не был и совсем уж никудышным Рюхиным. И самое главное — он не мог не чувствовать опасности, исходящей от того — творца, истинного управителя, для себя, никоим образом ни в творцы, ни в управители не подходящего. Он ощущал это своим внутренним беспокойством, все нарастающей тревогой, а потом и прямым страхом. Ему бы прислушаться к этой внутренней тревоге, к внутреннему — настойчивому — голосу и отступить, как спешно отступил его действительно «умный» дядя Поплавский. Тот ведь тоже однажды захотел «поплавать» — после смерти Берлиоза завладеть его квартирой, перебраться из Киева в Москву и т. д., но предпочел отступить при первом же серьезном предупреждении, бросив все и только повторяя про себя: «Все понятно, все понятно», — хотя по-настоящему понятно ему было только одно — что надо поскорее убираться восвояси. Упрямый же Берлиоз продолжает сопротивление даже на рельсах. Надо отдать ему должное — он идет до конца, до последней возможности сопротивляется тому, другому — вечному. Впрочем, следует иметь в виду и то, что речь ведь идет не о престиже, не о квартире и тому подобном, а, собственно, обо всей его жизни — ставка-то велика. Берлиоз не захотел отступить, но он захотел заставить отступить того, другого — истинного «управителя» и творца, разумеется, не в прямом сражении, как это во многом сделал Мастер в романе о Пилате, — на это Берлиоз не годился, — а объявив его несуществующим, то есть попробовав еще раз уничтожить его. В какой-то мере здесь повторяется все та же история пушкинских Моцарта и Сальери. Сальери, подсыпая яд в бокал Моцарту, оправдывал себя тем, что мало пользы, если Моцарт останется в живых и напишет еще одну-две вещи, дескать, лучше будет (для таких, как Сальери), если он умрет. Берлиоз в отношении Иисуса идет дальше, полагая, что еще лучше, чтобы тот никогда не появлялся на свет. Он и пытается всеми средствами это доказать: не рождался, не существовал, все рассказы о нем — обыкновенные выдумки, никакого творца, никакой другой истины, другой жизни, противоположной его жизни, никогда не было. А значит, и беспокоиться не о чем, значит, все правильно, все как надо, значит, собственное существование, собственная (такая!) жизнь оправданны. Хотя нет: все правильно, все как надо — это формула Воланда. Там действительно «все правильно», хотя и по-дьявольски, то есть все выверено до последней точки, до последней возможности. Ошибки там (я имею в виду свиту Воланда) дорого стоят. Коровьев вон за свою ошибку — не очень удачный каламбур насчет света и тьмы — поплатился тем, что на целые столетия из мрачного темно-фиолетового рыцаря превратился в шута, в Фагота, оттого, кстати, он и пьет теперь, кажется, только кофе. Да и все они — и Бегемот, и Азазелло, и Гелла — так или иначе расплачиваются за свои ошибки. У Берлиоза же все оправдано и все, по крайней мере, многое, дозволено. Вопрос (повторю еще раз) о существовании или несуществовании Иисуса становится для Берлиоза вопросом собственного существования. Недаром стоит ему — уже на рельсах, в самый последний момент — признать это другое существование — даже не Иисуса, а дьявола, да и то в виде предположения: «Неужели?», — как его собственное существование тут же заканчивается: трамвай накрывает Берлиоза. Поэтому он так и сопротивляется, и сражается. Это сражение (мы уже говорили) ведется прежде всего внутри Берлиоза: то, что Иисуса никогда не существовало, он пытается доказать прежде всего самому себе, ибо Иисус (существующий) мешает Берлиозу чем дальше, тем больше.
Началось это, скорее всего, еще в раннем детстве. Здесь, думается, надо искать истоки отношения к Богу (к Иисусу). И не только у Берлиоза, а у Ивана, у Мастера, у Маргариты — у всех у них есть свой счет к Богу. Возможно, здесь сыграло главную роль их, хотя и не полное, но сиротство, которое они не могут простить Богу: как известно, ни у кого из них не упоминаются родители, как ни у кого из них потом не будет и детей. У Булгакова об этом нигде ничего не говорится, но кое-что предположить можно. Итак, родители ни у кого из них не упоминаются. У Берлиоза есть дядя, уже названный нами Поплавский, у Ивана тоже упоминается какой-то дядя Федя, пивший когда-то в Вологде запоем. У Мастера и Маргариты не упомянут никто. Прямых отцов нет, но вот своего рода «крёстные отцы», на наш взгляд, есть у каждого. У Мастера, пожалуй, даже два отца: Иешуа и Воланд; у Маргариты — Пилат; у Ивана — скорее всего, Бегемот, а потом, в конце, возможно, и Николай Иванович. У Берлиоза (вернемся к нему) таким «крёстным отцом» можно счесть Коровьева. Коровьев — это его мирское имя (Воланд зовет его Фаготом). Возможно, он сам взял себе это имя, как Берлиоз, предположительно, — свой творческий псевдоним. Маг, регент, переводчик, сразу, как говорится, во всех ипостасях (как, кстати, и сам Берлиоз, и, конечно, не случайно они очень напоминают друг друга), он все видит, все знает, все первым разъясняет, потом обычно к нему присоединяются Бегемот и Азазелло, но обосновывает их действия, подводит под них, так сказать, теоретическую платформу — не хуже Берлиоза — именно он. Он, повторяю, готовит почву и для Бегемота, и для Азазелло, и для самого Воланда. И пота, и крови все это ему стоит, как и Берлиозу, немало. И красноречив он также не менее, если не более, Берлиоза. Именно он первый появляется перед Берлиозом, во многом приготовляя появление Воланда, — он, «клетчатый», сквозь которого видно, не давая Берлиозу отклониться ни вправо, ни влево, показывая (сквозь себя), собственно всю его жизнь, как Бегемот потом на мгновение покажет Ивану его самого. Он же под конец указывает не внявшему Берлиозу путь на рельсы и тут же снимает перед ним свой картузик, — конечно, попрошайничая и глумясь, но, похоже, одновременно и прощаясь, провожая Берлиоза в его последний путь (ведь как-никак тоже когда-то был человеком). Он, повторяю, «крёстный отец» Берлиоза, но он мог быть (если домыслить то, чего у Булгакова, разумеется, нет) и прообразом действительного его отца. Он не раз называет себя бывшим регентом — дирижером церковного хора. И как регент, дирижер, он также напоминает Берлиоза, стремящегося дирижировать, руководить, управлять.
Возможно, Берлиоз вырос в семье какого-нибудь церковнослужителя (или раввина), такого же, скорее всего, красноречивого, как в будущем его сын; в атмосфере постоянных разговоров о Христе. Особо глубокой веры, конечно, у него в детстве не было — довольно «темно и скромно» было, скорее всего, происхождение Берлиоза, но и о безверии, думается, также речи идти не могло. А вот недостаток внимания самолюбивый мальчик мог очень хорошо чувствовать, и одновременно — зависть и ревность к тому, Распятому, который постоянно мог находиться в центре внимания. К тому же Берлиоз, возможно, рос без матери. Если счесть матерей персонажей прообразами их жен (думается, это вполне допустимо), то мать Берлиоза, как потом и его жена, должно быть, не выдержала красноречия мужа и покинула Берлиозова отца. Впрочем, возможен и другой вариант: мать — тихая, истинно верующая, — молилась одна где-нибудь в уголке… Влияния особенного она, скорее всего, не имела, но чувствительное сердце (именно оно поддалось первым) — видимо, у Берлиоза все-таки от матери: та самая «слезинка ребенка», которую они не могли простить Богу. Итак — недостаток внимания, хотя и не полное сиротство. И вполне можно допустить, что самым заветным желанием маленького Берлиоза стало, чтобы этого другого, так или иначе стоящего в центре внимания, никогда не было. Дальше, как говорится, больше. Иисус — творящий, существующий — все больше был помехой Берлиозу — не творцу, «не композитору». И он начал собирать факты и доказательства против его существования. Этому, собственно, он и посвятил жизнь. Ну, а здесь, как нельзя кстати, произошла революция, и все доказательства, все теории Берлиоза против существования Христа оказались более чем востребованы. Время работало на Берлиоза, и он пошел в гору. Думается, на этих «теориях» он и сделал себе карьеру. А что касается отца, возможно, тот поплатился за свое неумеренное красноречие. Это ведь до революции можно было рассуждать о Боге сколько угодно, а после революции какой-нибудь (как у Коровьева-Фагота) не очень удачный каламбур насчет света и тьмы — и лишился Берлиозов отец и крова, и места, превратившись в «клетчатого» попрошайку, пьяницу и пр. Берлиоз, возможно, каким-нибудь очень осторожным образом отказался от отца и сменил поскорее Киев на Москву, а заодно и фамилию на псевдоним. Все это, конечно, только домысливание, но так вполне могло быть и на самом деле. Так или иначе, он пошел в гору, хотя и повертеться для этого ему пришлось, думается, немало. Между тем к началу повествования, вернее, к моменту появления романа Мастера (потому что к началу повествования он уже кое в чем оказывается разоруженным), по сути, возникла трещина в его благополучии.
Итак, к моменту появления романа Мастера Берлиоз находится, по видимости, на вершине своего благоденствия: он председатель самой большой писательской организации, именуемой МАССОЛИТ, редактор толстого журнала, он руководит, управляет, распоряжается судьбами десятков и сотен людей и судьбами их литературных произведений. Сама внешность его вполне уже к этому времени определилась: маленького роста, упитан, лыс, на лице, вдобавок, сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. К нему трудно, почти невозможно ни с какой стороны подступиться. А дальше уже проглядывают и дача, и квартира, и поездки в Кисловодск… правда, надо сказать, все это в довольно скромных размерах — по сравнению с квартирами и дачами, например, Латунских и Лавровичей… Берлиоз осторожен. А главное, его больше интересуют, пожалуй, не дачи, не квартиры, а возможность руководить, управлять и еще больше — ораторствовать. Недаром Булгаков говорит о его ужасном красноречии. Кстати, для Иешуа тоже главным было «слово». Самым заветным его желанием, как известно, было «поговорить бы с ним». Но там разговор шел об истине, ради истины, там само слово была истина, а здесь, у Берлиоза, — слово ради слова, красноречие ради красноречия. Кстати, как в романе Булгакова разнятся сами «слова». Слово-истина у Иешуа; безжалостное слово Воланда; слово-боль, сплошная боль у Пилата; беспокойное слово Мастера; пока еще слово-поиск у Ивана; слово-преступление у Латунских; совсем уж никудышное слово Бескудниковых; отсутствие вообще всякого слова у Рюхиных… И слово-пустота, слово ради слова — у Берлиоза. Вернее, здесь — слово, прикрывающее пустоту. Прикрыться, загородиться, забаррикадироваться, и прежде всего тем (словом), что Иисуса никогда не было на свете. Загородиться самому, загородить всех, кто был под его идейным началом. Это удалось сделать. Оттого-то они так развернулись.
«Грибоедов», надо сказать, хорош. Булгаков был непревзойденным мастером сатиры. «Грибоедов» — дом, принадлежавший (по слухам) тетке Грибоедова, где когда-то великий писатель читал свое великое «Горе от ума». Теперь здесь расположился руководимый Берлиозом МАССОЛИТ. Всякий, входящий сюда, прежде всего, знакомился с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов МАССОЛИТа, коими были увешаны стены лестницы, ведущей на 2-й этаж. На дверях первой же комнаты на этом верхнем этаже виднелась крупная надпись: «Рыбно-дачная секция». И тут же был изображен карась, попавший на уду. На дверях комнаты № 2: «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М.В. Подложной». Дальше: «Перелыгино» (то есть дачи наиболее удачливых членов МАССОЛИТа). Еще на одной двери, к которой тянулась очередь, начинающаяся еще внизу, в швейцарской: «Квартирный вопрос». Еще на одной, где очередь была чуть поменьше: «Полнообъемные творческие отпуска» (Ялта, Суук-су и т. д.). В общем, чем жили члены МАССОЛИТа, понятно. А что они писали? О том, что они писали, что они могли писать, говорят, прежде всего, их фамилии — у Булгакова все фамилии, как известно, говорящие. Прежде всего, члены правления МАССОЛИТа: беллетрист Бескудников, поэт Двубратский, автор популярных скетчей Загривов, новеллист Иероним Попихин, московская купеческая сирота Настасья Лукинична Непременова, сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж»… Дальше — виднейшие представители поэтического подраздела: Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и в конце неизвестно откуда выскочившая Адельфина Буздяк… Ну, еще бесконечные заседания под водительством Берлиоза, а в его отсутствие — все больше склоки… Ни одна свежая струя, говорит Булгаков, не проникала даже в настежь открытые окна… Это днем. Ну, а вечером… Вечером главным становился ресторан. Весь нижний этаж был занят рестораном (и каким рестораном!). И ровно в полночь ударял знаменитый грибоедовский джаз… Кто-то тоненьким голоском отчаянно кричал: «Аллилуйя» — и начинался всеобщий пляс. Кто-то из критиков, помнится, назвал его «поганым плясом» — в котором они все и отводили (по прошествии дня) и одновременно выказывали свою душу. И было в полночь видение в аду: выходил на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой (это Арчибальд Арчибальдович, директор ресторана). Говорили мистики, продолжает Булгаков, что было время, когда красавец был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, и плыл под его командой пиратский бриг… Но нет, врут мистики, не было никакого брига, не было пирата, не было черного флага, но было еще что-то похуже: налитые кровью чьи-то бычьи глаза, мясистое лицо… Может быть, прибавим мы, одно из тех, по которому очень скоро изо всех сил ударит разошедшийся Иван, чтобы хотя одного (а заодно и себя) чуть-чуть привести в память…
Это было, так сказать, непосредственное подчинение Берлиоза, самый, если можно так выразиться, низ. А выше шли темные Ариманы, мстительные Лавровичи, воинствующие новообрядцы Латунские… А сбоку мостился еще один вариант «Грибоедова», театральный, Варьете, с едва выносящими самих себя Стёпами Лиходеевыми, сверхподозрительными Римскими, вытягивающими из себя последние соки Соковыми… Это «лихо» уже не только для других, а прежде всего и больше всего, может быть, для себя самих. Но почему бы им не примоститься и не прилепиться, если все оправдано и все дозволено? А еще дальше дело дойдет до чумы-Аннушки и даже до прямого негодяя (наушника и шпиона) барона Майгеля. И идейным вдохновителем этой «тьмы» оказывается вольно или невольно Берлиоз. Потому Воланд и карает его жестоко, как никого другого, — лишая головы (впрочем, лишается головы Берлиоз сам: именно в тот момент, когда у него вырывается невольное признание, что что-то другое существует, тут же и отлетает голова) и тем самым обезглавливая тех, кто так или иначе стоял за ним. И, действительно, после гибели Берлиоза очень скоро приходит и их гибель: сгорает дотла «Грибоедов», а его завсегдатаи разбегаются в панике кто куда (исключая, пожалуй, одного Арчибальда Арчибальдовича: надо отдать ему должное, он самый безжалостный, каким и положено быть командиру пиратского — именуемого МАССОЛИТом — брига, но и самый честный из них; он последний покидает объятый огнем «Грибоедов», только и взяв с собой, что свое летнее, на шелковой подкладке, пальто да на память о «Грибоедове» две палки балыка подмышкой). Превращается из воинственного безбожника в поднимающего глаза к небу Латунский, затаивается темный Ариман, притихает Мстислав Лаврович… Что же касается Лиходеевых, Римских, Соковых, в их судьбах тоже наступают перемены, и вряд ли к лучшему. Но это будет не скоро. А пока все это находится, так сказать, в самом пышном цвете, огражденное берлиозовскими теориями о том, что никакого другого начала — живого, творческого, божественного, вечного — нет и никогда не было. А значит, еще раз повторю, все оправдано и все, по сути, дозволено. И вот роман Мастера…
Да, и вот роман Мастера — с его живым Иисусом, с другой жизнью, с вечной истиной света и добра, с тоской человека по этой истине. Первыми завопили менее выдержанные Ариманы, Лавровичи, Латунские, которых все это коснулось непосредственно. Но, думается, главный удар Мастер нанес, прежде всего, по Берлиозу. Была пробита первая брешь в такой, казалось бы, надежной ограде. Начинается разлад в, казалось бы, налаженной жизни. Ему вдруг все как-то перестает удаваться (хотя у Булгакова прямо об этом не говорится). Конечно, Берлиоз сопротивляется (он будет, мы уже говорили, сопротивляться даже на рельсах). Нет, в непосредственной травле Мастера он как будто не участвовал. Да ему, собственно (пока!), этого и не надо делать — за него и лучше него это сделали Латунские. Пока он только старается изменить обстановку. Как когда-то он, должно быть, сменил Киев на Москву, собственную фамилию на псевдоним, теперь он, кажется, меняет квартиры — свою прежнюю на более комфортабельную, более, как ему кажется, подходящую к сложившимся обстоятельствам. Но то, что помогало еще недавно, теперь уже не срабатывает. Квартира эта оказывается, как выражается Булгаков, «нехорошей квартирой». И как только Берлиоз поселяется в ней, так сразу же начинаются неприятности. В первые же дни сбегает жена Берлиоза — с каким-то заезжим балетмейстером, возможно, не выдержав его красноречия и предпочитая уж лучше работающего ногами, чем языком. Рядом с ним поселяется «лихо» в лице упомянутого директора Варьете Стёпы Лиходеева. Очень возможно, что втайне Берлиоз в чем-то и рассчитывал на Стёпу — как-никак театр, но Стёпа уже дошел до такого состояния, что и сам себя, повторю, едва выносит, и (вместо помощи) начинаются какие-то «ненужные» разговоры на «ненужную» тему. Вдобавок Стёпа (совершенно разлаженный) вручает Берлиозу какую-то свою — неизвестно о чем — статью. Все это было совсем не то или, по крайней мере, не совсем то, что надо. А этажом ниже, прямо под Берлиозом, оказывается чума-Аннушка. Очень скоро они неразрывно соединятся — благодаря знаменитому подсолнечному маслу. Но какое-то их сопряжение могло ощущаться уже тогда. Иван-то, кстати, стоит только Воланду заговорить о подсолнечном масле и Аннушке, сразу почувствует, в чем дело, и объявит чуть ли не войну Воланду. Мог что-то подспудно ощущать и Берлиоз (он мог встречать Аннушку и на лестнице, и у дома, совершенно не зная ее; Иван же, скорее всего, что-то слыхал, иначе как бы мог заговорить о ней Воланд?): она ведь очень напоминает Берлиоза — прежде всего, своей красно-(чумно)речивостью; и вертеться ей, как и ему, приходится немало — из-за куска хлеба. Она и хлопнет о вертушку турникета бутылку с подсолнечным маслом, на котором поскользнется Берлиоз. Но главная неудача Берлиоза — с заказанной Ивану поэмой против Христа. Поэма, несомненно, была каким-то откликом (и со стороны Берлиоза, и со стороны Ивана) на роман Мастера. Мастер и его роман были как будто уничтожены руками Латунских, но тревога в Берлиозе, скорее всего, не проходила, а, возможно, и нарастала, раз потребовалось принимать (а Берлиоз это делать умел) новые меры. Кстати, поэма, кажется, была и заказана, и написана как раз к моменту появления (после ареста) Мастера в Москве. Знал ли что-нибудь об этом Берлиоз? Он многое знал, хотя о многом молчал. И еще больше чувствовал — прежде всего, внутренней своей тревогой и страхом. Надо сказать, рассчитал он все правильно (он умел рассчитывать, здесь ему, пожалуй, равных не было): учел и талант Ивана (заказал-то не Рюхину, и даже не Богохульскому), и одновременно его отношение к Богу: Иван, скорее всего, был известен своими антирелигиозными стихами. Но расчет, увы, и здесь не удался: Иисус, мы уже говорили, вышел у Ивана, ну, совершенно как живой. Это был еще один удар — сначала сам (что называется, постоянно путающийся под ногами) Иисус, потом роман Мастера, теперь вот поэма Ивана, тем более, что последнего он, думается, не ожидал, — всюду живой Иисус. Разумеется, Берлиоз сразу бросится в сражение, попробует доказать Ивану его ошибку, заговорит о переделке поэмы. Но чувствуется уже какая-то разоруженность в Берлиозе — когда он идет с Иваном к Патриаршим прудам: и очки у него в черной роговой оправе, вот и шляпу снял, сделав более уязвимой свою упрямую голову. Во всяком случае, состояние Берлиоза перед началом разговора с Иваном, кажется, было далеко не из лучших. А тут еще жара, духота, такое же безжалостное солнце когда-то сжигало Ершалаим. Пилат-то, если помните, упирает голову в самое солнце. Берлиоз же и Иван спешат поскорее в тень, под липы, выпить освежающего: Берлиоз — нарзану, Иван — пива (без этого ему очень трудно во всем разобраться) — и усаживаются лицом к пруду, чтобы ощутить хоть какую-то прохладу. Но и этого им не удается. Вернее даже, все оборачивается против них же, прежде всего, против Берлиоза. Чуть зеленеющие липы не дают почти никакой тени, нарзану не оказывается, а принятая вместо него теплая абрикосовая только усугубляет его состояние. Что касается пруда, то в нем, как в зеркале, отражались, наверное, их не очень веселые физиономии. Кроме того, дьявол ведь, по поверью, появляется из зеркала, и мнительный Берлиоз, конечно, не мог этого не знать. Но главное было все-таки не в этом. Это потом уже все присоединилось — и теплая абрикосовая, после которой они стали немедленно икать, и пруд, и прочее. А прежде всего Булгаков называет одну странность этого, как он говорит, страшного майского вечера: «…не только у будочки, но и во всей аллее… не оказалось ни одного человека». «В тот час, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея» (курсив мой. — С.М.). Действительно ли она была пуста или… Во всяком случае, несомненно, была внутренняя пугающая пустота, которой прежде Берлиоз, думается, не ощущал. Не тревога уже, а пустота, разоружающая пустота — на нее-то, кстати, и явился «клетчатый». И не выдержало Берлиозово сердце: «стукнуло и провалилось куда-то». Потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил такой страх, что захотелось вдруг «бежать с Патриарших без оглядки…» Разумеется, Берлиоз снова найдет и объяснение, и выход, иначе бы он не был Берлиозом: «Я переутомился… Бросить все к черту — и в Кисловодск». Вот тут-то и сгустится воздух и появится «клетчатый» — гражданин престранного вида, сквозь которого видно, не касаясь земли, закачается перед ним, не давая ему ни уклониться ни вправо, ни влево, ни опереться о землю, показывая сквозь себя — что он мог показать? — разваливающуюся Берлиозову жизнь? Уж если профессор Кузьмин будет в испуге спрашивать своего коллегу профессора Буре, что могут означать такие (вдруг появившиеся) воробушки в шестьдесят лет, то Берлиоз, думается, наверняка знал, что может означать «клетчатый». Ну, а если еще представить, что этот «клетчатый» мог быть неким прообразом отца Берлиоза, то страх Берлиоза — даже ужас, вспомните тень отца Гамлета, — станет понятным вдвойне. «Этого не может быть!» — была первая реакция Берлиоза на «клетчатого» (чего «этого?» — можно было бы спросить его). Вслед за этим он в ужасе просто закроет глаза. Надо сказать, что это помогло (иногда, наверное, и дьявол вынужден бывает отступить), и когда Берлиоз снова открыл их, то увидел, что все кончилось: «клетчатый» исчез, а заодно тупая игла выскочила из сердца. И Берлиоз постепенно приходит в себя, «обмахивается» и снова начинает прерванный разговор о Христе. Здесь он, пожалуй, превосходит самого себя. Никогда он не был столь красноречив, никогда не пускал в ход стольких фактов и доказательств, не упоминал имен стольких древних ученых, свидетельствующих против существования Христа. Возможно, дело было уже не столько в самом Христе, сколько в стремлении во что бы то ни стало заговорить себя от этого «клетчатого». «Высокий тенор Берлиоза, — пишет Булгаков, — разносился далеко по пустынной аллее». Уже не пустота, заметим, а пустынность, в сочетании же с этим его «высоким тенором», пожалуй, двойная пустынность. И теперь, наверное, сопротивляясь этой пустынности, он все больше расцвечивает свою речь. Приводя все более интересные подробности, рассказывая и про египетского Озириса, и про финикийского бога Фаммуса, и про Мардука, и, наконец (разошедшись или с отчаяния), доходя до черты, — про грозного бога Вицлипуцли, про то, как ацтеки в Мексике лепили из теста фигурку Вицлипуцли. «Живой Иисус» — у Ивана, фигурка даже не из глины, а из теста — у Берлиоза. Он действительно делает шаг «за черту», как когда-то те в «Грибоедове» — в поганом плясе, под возгласы «Аллилуйя!». Тогда это прервалось известием о Берлиозовой гибели. Теперь — наконец — появился в аллее первый человек.
Он появился сразу как бы в двух видах или планах: действительном (Берлиозу все-таки отчасти удалось «заговорить» призрак) — в виде иностранца, ученого, профессора, и в другом — разные брови и глаза, кривой рот и т. д. «Его нельзя не узнать, друг мой», — сразу же скажет Мастер Ивану. Берлиоз не узнал? Думаю, узнавал и не узнал. Разумеется, узнавал не прямо, не явно, не разумом, ведь в области разума, как он скажет Воланду, никаких доказательств существования Бога (или чего-то похожего) быть не может. А подспудно, тайно, внутренним беспокойством, страхом своим. А отталкивался он от этого тайного подсознательного узнавания всей своей жизнью. Слишком уж он загримировал себя, слишком, — всем, чем только можно, забаррикадировался, так что и сам до себя добраться был уже не в состоянии. «Немец?» — первое, что мелькнет в голове Берлиоза, когда иностранец, покосившись, усядется рядом с ними на соседнюю скамейку. Немцем он покажется Берлиозу, возможно, по каким-нибудь внешним признакам: немцы — они всегда обычно из ученых, и еще, наверное, по каким-нибудь политическим — с немцами-то мы тогда уже замирились. Но «немец» еще и потому, что, думается, главным здесь был для Берлиоза не первый, а второй, тайный, план: Мефистофель у Гёте тоже немец.
Начинается разговор о Боге, о доказательствах бытия Божия, о том, кто кем и всем управляет. Это, собственно, центральный вопрос и, кстати, он параллелен разговору (спору) о подвешенном волоске, о том, кто подвесил волосок, — между Иешуа и Пилатом, который происходил в романе Мастера. Но какая все же разница! Пилат, разговаривая с Иешуа, даже о непосредственных обязанностях забывал. А Берлиоза не занимают доказательства бытия Божия (он оживляется только тогда, когда слышит неприятные вещи, касающиеся его самого: про трамвай, про отрезанную голову). Отвечает он Воланду почти механически, а думает, кажется, больше об одном: «кто же он такой?»
Надо сказать, что Воланд почти прямо называет себя, предъявляя несомненные, неоспоримые доказательства, и чем дальше, тем прямее и неопровержимее. Но эти доказательства одновременно и отталкивают Берлиоза. Уже сама внешность Воланда… его действительно «нельзя не узнать». И тут же перечеркивается это узнавание: «одним словом, иностранец». Дальше: на внутренний смятенный вопрос Берлиоза: «Так кто же он такой?!» — Воланд вытаскивает из кармана огромных размеров портсигар, на крышке которого изображен бриллиантовый треугольник. Ну, Иван-то по своему невежеству мог и не знать, но сверхначитанный Берлиоз, не мог не знать (и наверняка что-то внутри него, при его мнительности, на это отозвалось), что треугольник означает какую-то дьявольскую символику, — и опять в сторону: «Нет, иностранец!» На вопрос, по какой специальности его к нам (консультантом) пригласили, Воланд отвечает: «Я специалист по черной магии». «На тебе!» — тут уж прямо стукает в голове Берлиоза. А Воланд еще разъяснит, что в библиотеке обнаружены рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского и он должен их разобрать. Ну, об Иване опять-таки речи нет, но Берлиозу имя Герберта Аврилакского наверняка было известно — был ли он сожжен или каким-то другим образом казнен, и наверняка что-то подсознательное, подспудное могло связать имя Гербета Аврилакского с именем Мастера, недаром его перекинет сразу на мысль о существовании Иисуса. Заговорит об этом Воланд, но мысленно прозвучит это и в Берлиозе (и в Иване), иначе Воланд вряд ли бы смог поднять эту тему. И снова то же отталкивание, переброс и даже явный вздох облегчения: «А, вы историк…» Повторяю, подспудно, страхом своим Берлиоз многое угадывал, но всей жизнью отталкивался. Да и страхом отталкивался тоже.
Центром разговора Берлиоза и Ивана с Воландом, несомненно, является рассказ Воланда о встрече Пилата с Иешуа. Собственно, это не что иное, как одна из первых глав романа Мастера. Видимо, испытав тщету всех фактов и доказательств, в конце концов отскакивающих от Берлиоза, Воланд прибегает к живому рассказу об Иисусе: просто он существовал — и все. Этот рассказ — поворотная точка во всем споре, да и во всем действии, и в судьбах Берлиоза и Ивана с этого начинается почти прямое их расхождение. Ивана этот рассказ потряс, он просто не может прийти в себя (да и вообще уже по-настоящему не может прийти в себя). Многое, конечно, по своему невежеству он поймет слишком буквально, но самое главное он почувствовал верно и сразу: что это правда — от первого до последнего слова. С этого начинается, собственно, уже прямая переоценка всей Ивановой жизни. Правда, ужасная смерть Берлиоза, последовавшая почти вслед за этим рассказом, снова как будто повернет Ивана в прежнюю сторону, но это будет уже ненадолго. Что же касается Берлиоза, то здесь тоже произойдет поворот, только поворот вспять. Иван, как мы сказали, просто не может прийти в себя. Берлиоз же, наоборот, как раз начнет приходить в себя! «Это очень интересно», — скажет он после рассказа Воланда (это, повторим, в то время, когда Иван едва мог очнуться). Но этот интерес уже несколько иной (скорее внешний, а не внутренний), чем тот, что был до рассказа Воланда: тогда он хоть страхом своим что-то мог чувствовать, теперь же он не к себе прислушивается, а внимательно начинает всматриваться в лицо профессора. Что он мог вдруг найти в нем такого интересного? Рассказ Воланда, мы уже говорили, совпадает по крайней мере с первыми главами романа Мастера. В отличие от Ивана, Берлиоз, конечно, роман читал, и, наверное, очень внимательно. И, возможно, у него могла мелькнуть мысль о какой-то неслучайной связи иностранного профессора с Мастером. Правда, уже в следующий момент, после категорического заявления выведенного из себя Воланда, что он сам при встрече Пилата с Иешуа был и все сам видел, оба они начнут вглядываться не в лицо, а в глаза профессора, заподозрив неладное. Иван, опрокинутый рассказом Воланда, не очень-то поверит своему учителю, что профессор — сумасшедший, но Берлиоз сразу же за это ухватится. Этим ведь все выяснялось и объяснялось: и дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказание, что голова будет отрезана, и все прочее. У Берлиоза тут же созреет план (и план, как всегда, верный, только вот обернется он, опять же, против Берлиоза): добежать до ближайшего телефона и сообщить в бюро иностранцев о сумасшедшем немце. Вдобавок, в следующий момент, когда он услышит, как профессор окликнет его по имени-отчеству, у Берлиоза мелькнет еще одна мысль: а уж не прав ли был Иван, когда говорил о шпионах, белоэмигрантах и т. п.? «А что, если эти документы его липовые?» — И решение позвонить куда надо усиливается. Собственно, теперь Берлиоз и Иван как бы меняются местами. Ведь совсем недавно на всем этом — шпионах, эмигрантах, на том, чтобы сообщить куда следует, — настаивал Иван, а Берлиоз его слегка одергивал — из вежливости по отношению к собеседнику; теперь же он сам приходит к этому решению, все меньше внимая своему внутреннему голосу. Кстати, интересно проследить, как Берлиоз постепенно скатывается со ступеньки на ступеньку — все дальше вниз: от первых общих теорий — к идейному руководству, от него — к очень осторожным собственным действиям (та же поэма, заказанная Ивану), потом — к действиям, все более решительным, и, наконец — к этому решению: звонить, сигнализировать. Правда, на этом он и поскальзывается. И хорошо, что поскальзывается, иначе дальше бы был, наверное, уже барон Майгель — прямой наушник и шпион.
Итак, звонить, звонить… Конечно, кое-какие сомнения у Берлиоза еще оставались, оставались и неуверенность, и прямой страх. Недаром его то и дело передергивает. Окликнет Воланд его (уже бегущего к телефону) по имени и отчеству — и он вздрогнет; услышит вслед за этим от него же предложение послать телеграмму дяде в Киев — и снова передернет Берлиоза; в последний момент, уже у самого края, поднимется ему со скамейки навстречу тот самый, столь напугавший его «клетчатый», только теперь уже не воздушный, а действительный (тоже готовый к действию) — по сути, уже прямо указывающий ему путь на рельсы, — он так и попятится. Но и здесь не остановится и не внемлет — как ничему уже не внимала все теснее соединяющаяся с ним чума-Аннушка, понесшая потом на допросе у следователя всякую чепуху про нечистую силу, пока на нее все не замахали руками и не выставили за дверь. От прямо мчавшегося трамвая Берлиоз отступит (и снова, кстати, это окажется его ошибкой), а вот разлитого Аннушкой подсолнечного масла не ощутит. Да и как ему было это почувствовать, если вся жизнь его (как и, в прямом смысле, Аннушки) была замешена на этом подсолнечном масле. Впрочем, может быть, отчасти и намеренно проигнорирует — слишком уж непереносимо было это предсказание (Иван-то, мы уже говорили, при упоминании о подсолнечном масле объявит Воланду открытую войну) — и покатится. Его еще как следует подбросит в воздухе, потом он ударится затылком (упрямым своим затылком) о рельсы и только тогда увидит луну, то есть весь этот свой замешенный на подсолнечном масле обман. Он, опять же, бешено повернется набок, прижмет ноги к животу — защищая живот — эту свою жизнь, не желая видеть луну, но тут же увидит еще худшее — несущееся на него, белое от ужаса, лицо женщины-вагоновожатой (второе предсказание Воланда; первое — о подсолнечном масле и Аннушке, второе — что голову отрежет женщина, комсомолка). Но и здесь Берлиоз не сдастся, не вскрикнет. И надо будет, чтобы вокруг него истерическими голосами завизжала вся улица, чтобы ткнулся носом в землю трамвай, чтобы, наконец, посыпались из его окон разбитые вдребезги стекла — те самые стекла, которыми всю жизнь загораживал себя Берлиоз, — только тогда в мозгу у него кто-то (или что-то) отчаянно крикнет: «Неужели?!» То есть «неужели» есть все-таки что-то еще, пусть не Иисус, пусть дьявол, но какая-то другая жизнь, другая истина. Тут же мелькнет еще раз луна, но уже разваливающаяся на куски — разваливающийся на куски обман, — и трамвай накроет Берлиоза. Посыпавшиеся из окон стекла — вырвавшееся признание другой жизни — и, сразу же, конец жизни собственной.
Правда, это еще не все. Воланд отрывает эту упрямую голову, протаскивает ее по булыжнику, потом выкрадывает из гроба и, наконец, извлекает перед собравшимися на своем великом балу, доводя спор с Берлиозом до конца. И только тогда, наконец, на лице у этой головы можно будет увидеть «полные мысли и страдания глаза», череп же Берлиозов Воланд превратит в чашу и подставит под струю крови только что убитого барона Майгеля. Череп для крови баронов Майгелей — и для той, наверное, что пролили они, и для их собственной крови: у Воланда, как всегда, «все правильно». Это последнее, чем наказан Берлиоз во искупление своего прошлого, как будто последний его итог. Но остается кое-что и еще. «Не мучьте его!» — воскликнет при виде этой страдальческой головы Маргарита — единственный человек, заступившийся за Берлиоза. Ну, а Ивану, думается, останутся в наследство эти (впервые) «полные мысли и страдания глаза». Сумеет Иван сквозь все пробиться к ним — тогда, может быть, сумеет в какой-то мере и оправдать Берлиоза, то есть дать ему другую жизнь — пусть только в нашей памяти (как Пилат дал другую, легендарную, жизнь Иуде, пустив слух о его самоубийстве). Скажем несколько слов в его оправдание и мы. Он не был «бессовестным атеистом», как когда-то сказал о нем писавший о Булгакове критик. Он был всего лишь «не композитор», захотевший управлять «композиторами», управлять вообще, управлять там, где мог управлять только истинный, подобный Иешуа, Творец, — отсюда все и пошло. Он дорого заплатил за все, дороже, может быть, всех остальных. А его сопротивление Воланду — до последней возможности, думается, все-таки, достойно признания и уважения. Разберется ли во всем этом Иван, кто знает… Следующая наша глава о нем.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
«Последний закатный роман». Последняя пьеса. (1938—1940)
1
С поздней осени 1937 до весны 1938-го Булгаков уже не оставлял, как в предшествующие годы, работы над романом — напротив, ради этой работы, видимо, были оставлены — на самом начале второй части — «Записки покойника», которые так и не были дописаны впоследствии. Ежедневно занятый своими служебными обязанностями в Большом театре (не только писанием отзывов, исправлением чужих либретто, но и напряженным участием в репетициях), по-прежнему постоянно озабоченный неудачной судьбой своих собственных либретто, Булгаков систематически продвигает шестую редакцию романа дальше и дальше, главу за главой. Определилась композиция: в романе, дописывавшемся зимой и весной 1938 г., он же сам и отражался — роман о Пилате и Иешуа не сразу, не в виде единой вставной новеллы сообщался читателю, а будто дописывался на его глазах. Роман Мастера приобретал черты некоего пратекста, изначально существовавшего и лишь выведенного из тьмы забвения в светлое поле современного сознания гением художника. Самой композицией читатель принуждался поверить, что и создатель Мастера, автор «другого» романа, вместившего этот, с тою же силой провидения и верностью всех деталей постигал современную ему жизнь и ее перспективу. Само творчество представало как процесс безусловного постижения истинного облика действительности.
30 марта вечером автор читает Ермолинскому главу «На Лысой горе». Тот «говорит, что древние главы — на необыкновенной высоте, — записывает Елена Сергеевна и прибавляет: — Я тоже люблю их бесконечно». Теперь в дневнике Елены Сергеевны нередко вслед за датой одно только слово — «Роман». Работа над ним идет почти ежедневно. Вечером 7-го апреля слушать главы романа, относящиеся к Иванушке и его болезни, пришли врач Самуил Львович Цейтлин (видимо, психиатр, —для него и было предназначено это чтение), А. А. Арендт, Я. Л. Леонтьев с женой, Ермолинский, Н. Эрдман (приехавший на сутки в Москву), Вильямc с женой. «Чтение произвело громадное впечатление… Исключительно заинтересовали и покорили слушателей древние главы, которые я безумно люблю. Всех поразило необычайное знание М. А. эпохи. Но как он сумел это донести! Коля Эрдман остался у нас. Замечательные разговоры о литературе ведут они с Мишей. Убила бы себя, что не знаю стенографии — все бы записала».
22 апреля. «Сегодня у нас Николай Радлов… Радлов— Мише: «Ты — конченый писатель… бывший писатель… все в прошлом…» Это — лейтмотив. Потом предложение — «почему бы тебе не писать рассказики для «Крокодила», там обновленная редакция, хочешь, я поговорю с Кольцовым?» Миша — «я тебя умоляю никогда не упоминать моего имени при Кольцове».
Так жизнь его, давно уже разветвившаяся, с этого года уверенно потекла по двум параллельным руслам, и одно из них доступно было взгляду лишь немногих.
2 мая пришел Н. С. Ангарский (он вновь был видным издательским работником) и с места заявил — «не согласитесь ли написать авантюрный советский роман? Массовый тираж, переведу на все языки, денег тьма, валюта, хотите сейчас чек дам — аванс?» Миша отказался, сказал — это не могу. После уговоров, Ангарский попросил М. А. читать его роман («Мастер и Маргарита»), М. А. прочитал 3 первых главы. Ангарский сразу сказал — «а это напечатать нельзя». — Почему? — Нельзя».
22—23 мая закончена последняя рукописная редакция романа. После редакции 1932—1936 года он был переписан с начала до конца и составлял 30 глав, заключенных в шести толстых тетрадях, готовых к перепечатке. Роман заканчивался теперь тем, что к последнему своему пристанищу Мастер и Маргарита улетали на коне: «Мастер одной рукой прижал к себе подругу и погнал шпорами коня к луне, к которой только что улетел прощенный в ночь воскресенья пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
26 мая, проводив утром Елену Сергеевну с Сережей в Лебедянь, куда они ехали на все лето, Булгаков начал готовить текст романа к перепечатке. К счастью, сохранились его почти ежедневные письма к жене, и мы можем сегодня представить себе, как шла работа. 27 мая он пишет ей: «Ночью — Пилат. Ах, какой трудный, путанный материал!» 30 мая. «Роман уже переписывается. Ольга работает хорошо. Сейчас жду ее. Иду к концу 2-й главы». Это была не диктовка готового текста — сличение рукописи и машинописи показывает, как многое в тексте менялось в процессе печатания. Представить себе, как шла работа, помогают страницы «Театрального романа» («Записки покойника»), где в образе Торопецкой навеки запечатлена Ольга Сергеевна Бокшанская: «Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит». Автор, «диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите…» — менял написанное… бормотал и говорил громко, но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки — хоть сейчас отдавай в типографию».
31 мая: «Пишу 6-ую главу. Ольга работает быстро. …Бешено устал».
1 июня: сообщает, что отменяет свою предполагавшуюся поездку на 4 дня в Ялту: «Утомительно, и не хочется бросать ни на день роман. Сегодня начинаю 8-ую главу». В ночь на 2-е: «Хотел сейчас же после окончания диктовки приняться за большое свое письмо, но нет никаких сил. Даже Ольга, при ее невиданной машинистской выносливости, сегодня слетела с катушек. …Напечатано 132 машинных страницы. Грубо говоря, около 1/3 романа (учитываю сокращение длиннот)». 2 июня. «Мы пишем по многу часов подряд, и в голове тихий стон утомления, но это утомление правильное, не мучительное». Боится, что Немирович-Данченко отвлечет свою секретаршу — хотя бы на день. «Остановка переписки — гроб! Я потеряю связи, нить правки (еще одно доказательство того, что изменения нигде в промежуточных текстах не фиксировались, происходили непосредственно, во время диктовки. —М. Ч.), всю слаженность. Переписку надо закончить, во что бы то ни стало»; «Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!» В ночь на 4-е: «Перепечатано 11 глав». В ночь с 8-го на 9-е: «…сейчас уже 16… Устал, нахожусь в апатии, отвращении ко всему, кроме» (далее тщательно залито черной тушью Еленой Сергеевной). 13 июня. «Диктуется 21 глава. Я погребен под этим романом. Все уже передумал, все мне ясно. Замкнулся совсем. Открыть замок я мог бы только для одного человека, но его нету!» 15 июня 1938 года, воспользовавшись однодневным перерывом в переписке, в большом письме к Е. С. Булгаковой писатель давал роману свою оценку — первое и едва ли не единственное из дошедших до нас такого рода свидетельств:
«Передо мною 327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное — корректура (авторская), большая, сложная, внимательная, возможно, с перепиской некоторых страниц.
«Что будет?» — ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего.
Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика.
Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно».
Ответ на вопрос о предполагавшемся адресате романа — и определенном, и неопределенном (т. е. обычном читателе литературного произведения) — несомненно, менявшийся в процессе работы над текстом, дан автором, быть может, наиболее отчетливо, именно в этом письме.
15 июня: «На рассвете: «завтра, то есть, тьфу, сегодня, возобновляю работу. Буду кончать главу «При свечах» и перейду к балу. Да, я очень устал и чувствую себя, правду сказать, неважно». 15-го: «Под вечер»: «Чувствую себя усталым без меры. Диктую 23-ю главу». 19-го: «Пишется 26-я глава (Низа, убийство в саду) ». В ночь на 22-е: «Чувствую себя неважно, но работаю. Диктуется 28-я глава». 22 июня утром: «Если сегодня Ольга придет пораньше, постараюсь продиктовать большой кусок, и тогда конец переписки станет совсем близок. Одно плохо во всем — это что мне нездоровится. Но ничего!»
24 июня 1938 года перепечатка романа была закончена, и конец его был теперь почти тот самый, который мы знаем сегодня по последнему тексту.
На другой день, 25 июня, Булгаков выехал в Лебедянь и взялся там за новую работу — инсценировку «Дон-Кихота», начатую еще 8 декабря 1937 г., но оставленную на 15-й странице рукописи — по-видимому, ради «Мастера и Маргариты».
2
21 июля 1938 года Елена Сергеевна писала матери: «Миша прожил здесь почти месяц… Пока здесь был, написал пьесу, инсценировку «Дон-Кихота» (первая редакция была закончена уже 18 июля. — М. Ч.), получилось очень хорошо. Сейчас он едет в Москву, потому что должен работать с композитором над одним либретто для Большого театра. Кроме того, он хочет окончательно выправить свой роман, который он закончил этим летом, — вещь очень оригинальную, философскую, которую он писал почти десять лет». 24 июля Булгаков пишет жене из Москвы: «Сплавив нудное дело с квартирными бумажками, почувствовал себя великолепно и работаю над Кихотом легко. Все очень удобно. Наверху не громыхают пока что, телефон молчит, разложены словари. Пью чай с чудесным вареньем, правлю Санчо, чтобы блестел. Потом пойду по самому Дон-Кихоту, а затем по всем, чтоб играли, как те стрекозы на берегу, помнишь?» 15 августа вернулась из Лебедяни Елена Сергеевна, и уже 16-го, возобновив свой дневник, записывает бегло разговор с Булгаковым П. А. Маркова. «Ось: надо бы дать что-нибудь для МХАТ. Миша говорил о том зле, которое ему устроил МХАТ». В эти дни Булгаков начал диктовать ей «Дон-Кихота» и 27 августа закончил вторую редакцию, а 8 октября — еще одну перепечатку.
23 августа. «…Встретили в Лаврушинском Катаева — Валентина. Газированная вода. Потом пошли пешком и немедленно Катаев начал разговор о Мишином положении. Смысл ясен: Миша должен написать, по мнению Катаева, небольшой рассказ, представить, вообще вернуться в лоно писательское с новой вещью — «Ссора затянулась» и так далее. Все уже слышанное, все известное, все чрезвычайно понятное! Все скучное».
4 сентября вахтанговцы дома у Булгакова слушают «Дон-Кихота». «Явно понравилось! …И, конечно, разговор о том, что все прекрасно, но вот вместо какой-то сцены нужно поставить другую… На лицах написан вопрос — как пройдет, да под каким соусом, да как встретит это начальство и так далее».
На четырнадцатом году драматургической работы, надо думать, все это было уже и более чем привычно, и, может быть, потому же почти непереносимо.
Читать пьесу всей труппе или Худсовету театра Булгаков «категорически отказался… говорил, что не желает себя подвергать травле. Пусть рассматривают экземпляр и дают ответ». По просьбе В. В. Кузы согласился прочесть только ведущим актерам (запись 8 сентября).
9 сентября вечером — П. А. Марков и В. Я. Виленкин. «Пришли после десяти и просидели до пяти утра… Они пришли просить Мишу написать пьесу для МХАТа. — Я никогда не пойду на это, мне это невыгодно сделать, это опасно для меня. Я знаю все вперед, что произойдет… Миша сказал им все, что он думает о МХАТе, в отношении его… Прибавил — но теперь уже все это прошлое, я забыл и простил. Но писать не буду.
Все это продолжалось не меньше двух часов. И когда около часу мы пошли ужинать, Марков был черно-мрачен. За ужином разговор как-то перешел на общемхатовские темы, тут настроение у них поднялось. Дружно возмущались Егоровым. А потом опять о пьесе. «Театр гибнет… Пьесы нет, театр показывает только старый репертуар. Он умирает, и единственное, что его может спасти и возродить, это современная замечательная пьеса». Марков это назвал — «Бег» на современную тему, т. е. в смысле значительности этой вещи, самой любимой в театре. И конечно, такую пьесу может дать только Булгаков. — Говорил долго, волнуясь, по-видимому, искренно. — Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине? — Миша ответил, что очень трудно с материалами, нужно, а где достать? Они предлагали и материалы достать через театр, и чтобы Немирович написал письмо И. В. с просьбой о материале. Миша сказал: «Это очень трудно, хотя многое мне уже мерещится из этой пьесы. Пока нет пьесы, не стоит говорить и просить не о чем». Они с трудом ушли в 5 ч. — как Виленкин сказал Ольге на следующий день — Так было интересно».
10 сентября в рукописи пьесы о Сталине, получившей сначала название «Пастырь», отмечено начало работы над ней, не получившее, однако, в тот год продолжения.
12 сентября Булгаков рассказывает жене, что «вернули в Большой театр арестованных несколько месяцев назад актеров; «будто бы привезли на Линкольне. Теперь они будто получают жалованье за 8 месяцев и путевки в дом отдыха.
А в МХАТе, говорят, арестован Степун». (Это был брат Федора Степуна, высланного осенью 1922 года, В. А. Степун, добрый знакомый Булгакова).
14 сентября Елена Сергеевна записала: «После очень долгого перерыва (эти слова в ее дневнике не случайны — при необходимости они должны были послужить оправдательным документом. — М. Ч.) позвонила Лида Р(онжина) и сказала, что Иван Ал(ександрович) и Нина Р(онжина) арестованы и что у нее на руках остался маленький Нинин Андрюша. Просила зайти». Речь шла о Троицком и жене Добраницкого, арестованного за год с лишним до этого.
В сентябре Булгаков все время занят по службе балетом «Светлана» — возвращается поздно ночью то из балетного техникума, то из театра. «Усталость, безнадежность собственного положения!» (17 сентября 1938 г.).
19 сентября вечером «сел за авторскую правку июньского экземпляра «Мастера и Маргариты». И опять Большой театр, Самосуд, вечером 20-го дома — правка либретто С. Городецкого «Думы про Опанаса»… «Между всеми этими делами — постоянное возвращение к одной и той же теме — о загубленной литературной жизни. Миша обвиняет во всем самого себя (вспомним слова о «пяти роковых ошибках» в письме к П. С. Попову 1932 г. —М. Ч.), а мне это тяжело — я-то знаю, что его погубили».
23 сентября — начало работы над новым либретто — по новелле Мопассана «Мадемуазель Фифи».
27 сентября. «…Засиделись поздно. Пришли Марков и Виленкин, старались доказать, что сейчас все по-иному — плохие пьесы никого не удовлетворяют, у всех желание настоящей вещи. Надо Мише именно сейчас написать пьесу. Миша отвечал, что раз Литовский опять выплыл, опять получил место и чин — все будет по-старому, Литовский это символ. После ужина Миша прочитал им три первые главы «Мастер и Маргарита». Они слушали совершенно замечательно, особенно Марков. …Марков очень хорошо потом говорил об этих главах, все верно понял. Он говорил — «Я все это так ясно увидел». Условились, что первого опять придут слушать продолжение». 28 сентября. «Сегодня утром Миша читал присланное ему для отзыва либретто «Ледовое побоище»… Сюжет путанный, нелепый, громоздкий. Чего-чего не приходится читать Мише и ломать над этим голову!» Почти ежедневно он возвращается домой поздно ночью — разбитый служебными занятиями, не имеющими отношения к его собственному творчеству. Силы его, видимо, уже в значительной степени подточены. 4 октября Елена Сергеевна фиксирует в дневнике и свое, и его «убийственное» настроение с самого утра; «Все это, конечно, естественно, нельзя жить, не видя результатов своей работы».
В эту осень все следят по газетам за военными событиями, разворачивающимися в Европе, думают над будущим. 9 октября. Вечером — А. М. Файко и Волькенштейн, играли до трех часов ночи в винт, потом «начались разговоры. Пошли они с того, что Л. А. (жена драматурга Файко. — М. Ч.) спросила — «Зачем вы повесили на стенах все эти статьи — «Ударим по булгаковщине», «Положить конец „Дням Турбиных» и тому подобные?» Проговорили о литературной Мишиной жизни до половины шестого… У Миши мрачное состояние». А 14 октября проводят вечер с Леонтьевыми, Мелик-Пашаевым и Дунаевским и Елена Сергеевна записывала: «Ужинали весело. Миша изображал, как дирижирует Мелик, от чего все помирали со смеху, а Дунаевский играл свои вальсы и песенки». 19 октября. Разговор дома с Ф. Михальским «о том, что Миша должен написать для МХАТ пьесу. Все понятно. МХАТу во что бы то ни стало нужна пьеса о Ленине и Сталине и так как пьесы других драматургов чрезвычайно слабы — они надеются, что Миша их выручит. Грустный для нас и тяжкий разговор о «Беге», в числе прочего Миша говорил, что ему закрыт кругозор, что он никогда не увидит остального мира кроме своей страны и что это очень худо. Ф. растерянно ответил — Нет, нет, вы, конечно, поедете! — не веря, конечно, ни в одно слово, что говорит».
Шли ни к чему не ведущие телефонные переговоры с вахтанговцами о «Дон-Кихоте», об отношении Реперткома, и умудренный Булгаков говорил директору театра: «мне не нужны одобрительные отзывы о пьесе, а мне нужна бумага о том, разрешена ли эта пьеса или не разрешается» (22 октября) .
Это были дни юбилея МХАТа; «Ведь подумать только! — записывала с пылкостью Елена Сергеевна 26 октября. — В число юбилейных спектаклей не включили «Турбиных», идущих 13-й год — уже больше восьмисот раз! Ни в одной статье, посвященной юбилею, не упоминается ни фамилия, ни название этой пьесы». На юбилейный вечер в МХАТ Булгаков не пошел, как и ни на один из юбилейных спектаклей. 5 ноября В. Куза сообщил, что «Дон-Кихот» разрешен и Реперткомом, и Комитетом по делам искусств, 9-го пришла и вожделенная официальная бумага. 10-го днем автор читает пьесу вахтанговцам; много аплодируют; «После финала — еще более долгие аплодисменты. Потом Куза встал и торжественно объявил «Все!», то есть никаких обсуждений. Этот сюрприз они, очевидно, готовили для того, чтобы доставить Мише удовольствие, не заставлять его выслушивать разные, совершенно необоснованные мнения».
Он и правда устал за свою литературную жизнь выслушивать суждения о своих сочинениях.
Вернулись домой, и в половину двенадцатого ночи пришли посланцы МХАТа — Сахновский и Виленкин. «Начало речи Сахновского: «Я прислан к вам Немировичем и Боярским (Я. О. Боярский, в 1937—1939 гг. — директор МХАТ. —М. Ч.) от имени МХАТа сказать вам — придите опять к нам работать для нас… Мне приказано стелиться как дым перед вами… Мы протягиваем вам руки… Я понимаю, что не счесть всего свинства, хамства, которое вам сделал МХАТ, но ведь они не вам одному…»
[7 ноября 1938 года позвонил Н. С. Ангарский (работавший в «Международной книге») о том, что «Дни Турбиных» идут в Лондоне под названием «Белогвардейцы» и Булгаков должен протестовать. Е. С. записала его слова: «Против чего? Ведь я же не видел этого спектакля.
Вот к чему приводит такое ненормальное положение. Ведь обычно, если пьеса какого-нибудь нашего автора идет за границей, он едет туда и как-то руководит постановкой. Но что я могу сделать, если меня упорно не пускают за границу? Как можно протестовать против того, чего не видел?»]
Весь ноябрь — напряженная работа в Большом театре, продолжающаяся нередко до двух ночи. Иногда приезжал из Калинина Николай Эрдман, говорили до 6 утра, а днем — если день был свободный — играли до упаду на биллиарде; 20 ноября вечером в ресторане Клуба писателей подошел литератор Чичеров, возглавлявший секцию драматургов: «Почему, М. А., вы нас забыли, отошли от нас?— И в ответ на слова Миши о 36-м годе, когда все было снято, сказал — вот, вот, обо всем этом надо нам поговорить, надо собраться вчетвером — Вы, Фадеев, Катаев и я, все обсудим, надо, чтобы вы вернулись к драматургии, а не окапывались в Большом театре».
[24 ноября. Обедали в Союзе писателей по приглашению В. Дмитриева. «С удовольствием ели раков. Дмитриеву вернули паспорт (НКВД на несколько месяцев задержало ему паспорт.— М. Ч.). Но какие лица попадаются в этой столовой, что-то страшное! (…) Вечером Миша зашел на «Кавказского пленника», говорит, что ему показалось, что в правительственной ложе видел В. Молотова и И. В. Сталина».]
12 декабря «Советское искусство» публикует статью (за подписью «А. Кут» — псевдоним критика А. В. Кутузова) «Пьеса о Сервантесе», высоко оценивающую пьесу Э. Миндлина «Сервантес» — только что состоялась и ее читка. «В начале статьи, — записывала Елена Сергеевна, — строки о драмоделах, стряпающих сотые переделки «Дон-Кихота». 13 декабря. «Сегодня Миша позвонил к Чичерову и спросил, кто такой Кут. Тот ответил, что не знает. Просил Мишу придти на совещание по поводу пьес и репертуара. Миша ответил, что не придет и не будет ходить никуда, покуда его не перестанут так или иначе травить в газетах». Об этом эпизоде пишет в своих воспоминаниях и С. Ермолинский. «Кто такой А. Кут? Еще один псевдоним?» «Заметь, — говорил Булгаков, — меня окружают псевдонимы…»
20 декабря — нездоров. «Конечно, лежать в кровати не хочет, бродит по квартире, прибирает книги, приводит в порядок архив. За ужином — вдвоем — говорили о важном. При работе в театре (безразлично, в каком, говорит Миша, а по-моему, особенно в Большом) — невозможно работать дома— писать свои вещи. Он приходит такой вымотанный из театра — этой работой над чужими либретто, что, конечно, совершенно не в состоянии работать над своей вещью. Миша задает вопрос — что же делать? От чего отказаться? Быть может, переключиться на другую работу? Что я могу сказать? Для меня, когда он не работает, не пишет свое, жизнь теряет всякий смысл». 21 декабря. «Вечером разбор Мишиного архива. От этого у Миши тоска. Да, так работать нельзя! А что делать — не знаем». И снова — 24 декабря: «Сейчас вечером занимаемся разборкой архива. Миша сказал — «Знаешь у меня от всего этого (показав на архив) пропадает желание жить».
В конце года образовалось новое знакомство — соседи сверху, Сергей Михалков и его жена Наталья Кончаловская. 25 декабря Елена Сергеевна записывала: «Он — остроумен, наблюдателен, по-видимому талантлив, прекрасный рассказчик. …Она — очень живой, горячий человек, хороший человек». 26 декабря Михалковы у Булгаковых с ответным визитом — «Засиделись поздно».
31-го с братьями Эрдманами и четой Вильямсов встретили Новый 1939-й год.
5 января. Вечером звонок Михальского — «У нас дорогие гости на Вашем спектакле» — это означало, что на «Днях Турбиных» вновь был Сталин; «Разговор о Чулкове, который умер на днях (Г. И. Чулков — автор исторических и историко-литературных работ. —М. Ч.). Миша говорит — «он был хороший человек, настоящий писатель, небольшого ранга, но писатель». Вечером — Н. Р. Эрдман; опять разговоры всю ночь, до шести утра; «Когда Н. Р. стал советовать Мише, очень дружелюбно, писать новую пьесу, не унывать и прочее, Миша сказал, что он проповедует, как „местный протоиерей». Вообще их разговоры — по своему уму и остроте, доставляют мне бесконечное удовольствие». 8 января — у М. А. «в эти дни тягостное пессимистическое настроение духа».
9 января записано, что был В. В. Дмитриев — «нездоров, говорил, что его вызывали повесткой в НКВД. Ломал голову, зачем?»
То и дело приходилось заниматься переговорами с чиновниками относительно заграничных постановок пьес Булгакова. «Ездили с Мишей поговорить с Уманским в Литагентство, — записывала Елена Сергеевна 10 января. — Как все это нелепо! Судьба — пьес своих не видеть, гонорара за них не получать, а тут еще из ВОКСа присылают письма, которые только раздражают».
14 января она — в Моссовете, в связи с обменом квартиры. Секретарь «сказал, что бумага (посланная на имя Молотова. — М. Ч.), наверное, пошла к инспектору квартирному, туда и надо обратиться.
Из роскошного особняка (подъезд № 2 Моссовета) с громадными комнатами, -коврами, тяжелыми дубовыми дверями — пошла в подъезд № 3 — грязное неуютное помещение, в комнате № 102 застала очередь, повернулась и ушла.
— Нет, так квартиру не получить!»
Ежедневно она, несомненно, говорила мужу о том, что нужны иные, действенные средства.
20 января Елена Сергеевна, проводив Булгакова в Клуб писателей на выборное собрание, «сама пошла на хоры и оттуда смотрела на собрание. Ужасно не понравилось — галдеж, склока идет все время, вообще литературой, по-моему, не дышит место».
В ее дневнике запечатлелась одна таинственная история этих дней. 21 января она отвозит рукопись «Дон-Кихота» в «Литературную газету» к Евгению Петрову — он надеялся напечатать фрагмент пьесы в газете и обещал отдать рукопись для чтения Ольге Войтинской (тогдашнему редактору газеты). 27 января Елена Сергеевна записала, что звонила Войтинская — ей пьеса понравилась, «условились, что Миша приедет в редакцию в 10 ч. вечера (в те годы на это время приходился самый разгар работы московских учреждений — в соответствии с режимом дня Сталина. — М. Ч.), чтобы поговорить, какой фрагмент печатать». 28 января Елена Сергеевна записывает: «Вот так история! Поехали ровно к 10-ти часам, в редакции сидит в передней швейцар, почему-то босой, вышла какая-то барышня с растерянным лицом и сказала, что «Войтинской уже нет в редакции… Она не будет сегодня больше… Она вчера заболела…», а лучше всего обратиться к ответственному секретарю… Обратились, тот сказал, что он готов от имени Войтинской принести свои извинения, что причина ее отсутствия такова, что приходится ее извинить — и мы так и не поняли, что с ней, собственно, случилось».
29 января Елена Сергеевна записывает, как, будучи в МХАТе, сказала Ф. Михальскому и О. С. Бокшанской, «что дом наш наверно будут сносить. На Федю это произвело большое впечатление и даже на Ольгу». И тут же Михальский спросил ее, «не пишет ли Миша пьесу современную? (вопрос заключал в себе прямую ассоциацию с ее словами — и все трое понимали это. — М. Ч.).Я сказала, что есть замысел о Сталине, но не хватает материала. Он тут же стал подавать советы, как достать материал.
Петров Евгений Петрович по телефону сказал: — У Войтинской, видите ли, force-majeur,[95] — какой это форс-мажор?!
Ничего не понимаем, но отрывок, кажется, они будут печатать».
Обстоятельства были действительно чрезвычайными.
Попробуем сначала представить себе, что же именно могли предполагать Булгаковы. Арест? Нет, в этом случае не могло быть и речи, чтобы ответственный секретарь изъявлял свою готовность принести извинения от ее имени — имя ее должно было бы с того момента по регламенту этих лет исчезнуть из обихода.
Однако неудобосказуемость обстоятельств, странное почтение, с которым о них говорилось в газете, и некоторая доза юмора в реплике Е. Петрова могла указывать им, искушенным (как и все, кто в те годы так или иначе соприкасался с «верхней» сферой) в тонкостях околокремлевского этикета не хуже, чем придворные французских королей в этикете двора, на то, что в событии так или иначе участвует имя Сталина.
Разгадка форс-мажора, несомненно, вскоре же облетела всю литературную Москву.
Оказалось, что Войтинской в редакцию неожиданно (как и во всех подобных случаях) позвонил Сталин. Как только его абонентка поняла, кто именно с ней говорит, она в ту же секунду лишилась дара речи — не в фигуральном, но в буквальном смысле этого выражения.
Так и не сумев вымолвить ни единого слова, она пребывала в этом параличе еще неделю или две.[96]
Так сограждане Булгакова разыгрывали в жизни — и самым непреднамеренным образом — те ситуации, которые он придумывал в своих гротескных рассказах о мнимых встречах со Сталиным.
Легко понять, что этот реальный анекдот подробно обсуждался в доме Булгакова: хотя впечатления от собственного разговора со Сталиным в 1930 году, сотни раз заново пережитые и переосмысленные, потеряли, надо думать, к этому времени свою остроту, всякое известие о сходной ситуации, несомненно, оживляло его внимание и воображение. К тому же теперь фигура Сталина разместилась уже, можно сказать, непосредственно на его письменном столе.
16 января. «…Вечером Миша взялся после долгого перерыва за пьесу о Сталине. …Только что прочла первую (по пьесе — вторую) картину. Понравилось ужасно! Все персонажи — живые!»
Далее записи в дневнике Елены Сергеевны о работе над этой пьесой будут неизменно ликующие. Сбывалась ее мечта; зарождались надежды.
[Замысел пьесы возник в одной ситуации, а реализовывался в другой. В начале 1936 г. (которое было иным, чем лето того же года) Булгаков думал писать о человеке, на счету которого он числил недавние гуманные жесты, еще более гуманные обещания, который, как бы жестко не оценил его пьесу «Дни Турбиных» в письме к Билль-Белоцерковскому 1929 года,— видно, все же питал к ней какие-то симпатии (иначе разве ходил бы смотреть столько раз!), что не могло не льстить автору. И, наконец, Сталин был для него в этот момент очередным воплощением российской государственности — и он стремился найти ему место в истории этой государственности, обратясь к замыслу учебника.
Имело личное значение само место действия — Батум. Недаром в тетради, где размечается хронология курса истории, последняя запись относится к Батуму 1921 года — летом того года именно оттуда стремился Булгаков уехать за границу. Теперь он старался найти нелживые слова для описания ситуации, хорошо ему известной, и неуверенность в слове (столь несвойственную ему в его сочинениях!) отразили вопросительные знаки: «…25.П. Меньшевистское правительство Грузии бежало (?) уехало (?) из Тифлиса в Батум. Ревком Грузии вступил в переговоры, но меньш(евики), ведя переговоры, приготовились к эвакуации и поки¬нули пределы СССР» (хотя, заметим, СССР тогда еще не было; ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 268). Два с половиной года спустя, принимая решение писать о Сталине пьесу, автор был в иной ситуации. Прежде всего, те¬перь не он выбирал эту тему, как в 1936 году (вот почему он будет потом настойчиво говорить о том, что у него есть документальные доказательства возникновения замысла в то именно время), а ему ее предлагали, о переговорах с ним знали в театральной среде — и замаячила угрожающая ситуация отказа от темы вождя. Теперь это могло повести к непредсказуемым последствиям.
В физиологии известно явление «запредельного торможения» (за указание благодарим чл.-корр. АН СССР В. П. Скулачева): при повторяющемся и все усиливающемся воздействии каких-либо раздражителей — например, высоких температур — живой организм перестает на них реагировать (скажем, человек уже не отдергивает руку от огня).
Кровавые события превысили возможности объяснений (это ощущение запечатлено в эпилоге последнего романа) и каких-либо живых реакций — это и было «запредельное торможение».
В 1921 году он писал «революционную пьесу из туземного быта», а в 1923-м, перечитав, «торопливо уничтожил». В 1927 — 1928 гг. он написал пародию на революционные пьесы, а в 1929-м пояснял «тайному другу»: «для того чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника». Теперь он хладнокровно, умело возбуждая воображение, воссоздавал пьесу, которая была объектом пародирования в его «Багровом острове» (сцена Николая II и министра в «Батуме» почти буквально воспроизводит диалоги Сизи и Кири).
Работа над пьесой шла в то же самое время, что и работа над эпилогом романа, но в иной «литературе»: здесь не было свободы художественного выбора, непременной для творчества. Восемнадцать лет назад, притиснутый во Владикавказе к стенке новым, утверждавшим себя жизнеустройством, он писал сестре Вере: «Дело в том, что творчество мое разделяется резко на две части: подлинное и вымученное». Он потратил последующую жизнь на то, чтобы доказать возможность единого творчества — в любых условиях. Теперь он был вновь отброшен к началу своего литературного пути — владикавказская модель взаимоотношений с победившей властью оказалась верной.]
18 января. «И вчера и сегодня вечерами Миша пишет пьесу, выдумывает при этом и для будущих картин положения, образы, изучает материал. Бог даст, удача будет!»
19 января позвонил Илья Судаков: «Я не могу успокоиться с «Бегом», хочу непременно добиться постановки, говорил уже в Комитете…» Он интересовался также «Дон-Кихотом» и, как записала Елена Сергеевна, «вообще всей продукцией Михаила Афанасьевича», а через несколько дней Юдкевич из Ленинградского театра им. Пушкина просил любую пьесу… Булгаков ответил, по записи Елены Сергеевны 24 января, что «завален работой — пусть напишут в марте — если будет готова пьеса, над которой сейчас работает…»
24 января позвонил Р. Симонов и сказал, «что начинает работать «Дон-Кихота», что новому директору (Ванееву выперли) пьеса страшно понравилась, что ставить будет ее Симонов… Кроме того, сказал: «А вот „Турбины» — какая хорошая пьеса! Очень ее Анастас Иванович хвалил! Настоящая пьеса! (Речь шла о Микояне).
Работа над «Батумом», протекавшая, казалось бы, в тиши его кабинета, уже электризовала самый воздух вокруг него.
Прокомментируем решение, принятое Булгаковым, отрывками из воспоминаний С. Ермолинского: «В тридцатых годах, когда в репертуарных планах почти всех театров страны стали появляться пьесы о событиях, касающихся исторической роли Сталина или о нем самом, обойти эту тему Художественному театру, который почитался эталоном для всей нашей театральной жизни, конечно, было нельзя. Руководители МХАТ поняли, что именно он, Булгаков, может выручить, как никто другой, потому что не сделает казенной и фальшивой пьесы. …Сидели у него дома и разговаривали до рассвета. Говорили о том, что постановка такой пьесы будет означать полный переворот в его делах. Мхатовцы затронули его самые чувствительные струны; разве мог он не мечтать о воскрешении своих произведений…
Втайне он уже давно думал о человеке, с именем которого было неотрывно связано все, что происходило в стране…
Он избрал для пьесы романтический рассказ о молодом революционере, о его мятежной юности. В воображении рождался образ героя прямодушной стремительности и упорства. Дерзкого юношу изгоняют из тифлисской семинарии, и он сразу погружается в революционную работу, возглавляет знаменитую стачку в Батуме (в 1902 году). Стачка разгромлена, и его ссылают в Туруханский край».
В. Я. Виленкин напишет впоследствии: «Когда в первый раз мы заговорили с ним о теме пьесы, он ответил: — Нет, это рискованно для меня. Это плохо кончится. — И тем не менее начал работать».
1 февраля — отказано в обмене их квартиры на четырехкомнатную (Булгаков посылал письмо Молотову, просьба пошла по обычным каналам и завершилась отказом). В тот же день — в газетах сообщение о награждении орденами очень большой группы писателей, на другой день — киноработников; Елена Сергеевна фиксирует эти события в дневнике бесстрастно.
16 февраля Булгаков — в Большом театре, на «Лебедином озере» с Галиной Улановой. Какие-то женщины обращаются к нему, записывала Елена Сергеевна, со словами: «Вы — первый!» Что означает эта чертовщина? Оказалось — дамы хотели утешить Мишу по поводу того, что ему не дали ордена. Господи, господи! Зачем Мише орден? Почему?» Событие волновало, раздражало, потому хотя бы что на долгие месяцы осталось темой дня, предметом обсуждения в литературной и около литературной среде. В дневнике И. Н. Розанова — запись рассказа жены H. H. Асеева (когда в мае того же года они оказались вместе в доме писателей в Ялте): «Оксана рассказывала про то, как проходило назначение орденоносцев. О Лебедеве-Кумаче Сталин спросил, это который «куплеты пишет» (так наскоро, для себя записано автором дневника. — М. Ч.)
Утк(ин). За него был Молотов. Уткина забраковали. Он плакал, узнав об этом.
Об Асееве Сталин сказал: — Что вы его обижаете! — У него были некоторые уклоны, — сказал будто бы Фадеев. — А у кого их не было? Но ведь он наш…»
9 февраля H. H. Лямин пишет Булгакову: «Из дальних странствий воротясь, я нашел тихий приют в г. Калуге».
[19 февраля 1939 г. Булгаков с 10 часов до 4-х пробыл на генеральной репетиции «Ивана Сусанина». Е. С. записывала его слова: «Почему не было бешеного успеха «Славься»? — Публика не знала, как отнестись».]
В конце февраля и начале марта вновь обращается к роману «Мастер и Маргарита», работает над ним.
4 апреля 1939 года Елена Сергеевна записывала, что накануне вечером «Миша был в Большом, где в первый раз ставили «Сусанина» с новым эпилогом (эпилог переделывался по замечаниям Сталина и в новом виде являл собой картину необходимого морально-политического единства всех слоев народа. — М. Ч.).Пришел после спектакля и рассказал нам, что перед эпилогом правительство перешло из обычной правительственной ложи в среднюю большую (бывшую царскую) и оттуда уже досматривало оперу. Публика, как только увидела, начала аплодировать, и аплодисмент продолжался во все время музыкального антракта перед эпилогом. Потом с поднятием занавеса, а главное, к концу, к моменту появления Минина и Пожарского — верхами. Это все усиливалось и, наконец, превратилось в грандиозные овации, причем правительство аплодировало сцене, сцена — по адресу правительства, а публика — и туда, и сюда.
Сегодня я была днем в Дирекции Большого, а потом в одной из мастерских и мне рассказывали, что было что-то необыкновенное в смысле подъема, что какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: «Вот увидела все-таки!», что люди вставали ногами на кресла.
Говорят, что после спектакля Леонтьев и Самосуд были вызваны в ложу, и Сталин просил передать всему коллективу театра, работавшему над спектаклем, его благодарность, сказал, что этот спектакль войдет в историю театра.
Сегодня в Большом был митинг по этому поводу».
8 апреля Булгаков пишет В. В. Кузе: «Положение с „Дон-Кихотом» серьезно начинает беспокоить меня, и я прошу Вас написать мне, что будет у вас с этой пьесой. Когда она пойдет? и пойдет ли она вообще?» Разрешенная, всеми одобренная пьеса не двигалась с места.
26 апреля и 1 мая читает роман «Мастер и Маргарита» (с начала) чете Файко, П. А. Маркову, В. Я. Виленкину, чете Вильямс, пришедшим на второе чтение, о котором Елена Сергеевна записывала: «Было очень хорошо. Аудитория замечательная, М. А. читал очень хорошо. Интерес колоссальный к роману. Миша за ужином говорил: „Вот скоро сдам, пойдет в печать». Все стыдливо хихикали». 14 мая. «…Чтение — окончание романа. …Последние главы слушали, почему-то закоченев. Все их испугало — Паша (Марков. — М. Ч.) потом в коридоре меня испуганно уверял, что ни в в коем случае подавать нельзя — ужасные последствия могут быть».
В опубликованных недавно воспоминаниях В. Я. Виленкина — детали тогдашних впечатлений слушателя: «Иногда напряжение становилось чрезмерным, его трудно было выдержать. Помню, что когда он кончил читать, мы долго молчали, чувствуя себя словно разбитыми. И далеко не сразу дошел до меня философский и нравственный смысл этого поразительного произведения… Последнее чтение длилось до утра. За столом, на котором был наспех накрыт не то ужин, не то завтрак, я сидел рядом с Михаилом Афанасьевичем, и вдруг он ко мне наклоняется и спрашивает: «Ну, как по-вашему, это-то уж напечатают?» И на мое довольно растерянное: «По-моему, нет» —» совершенно неожиданная бурная реакция, уже громко: «Но почему же!»
Об этом рассказывала нам в 1968—1969 гг. и Елена Сергеевна: после чтения, разливая гостям водку из графинчика, автор говорил — не тихо, а именно громко, на весь стол: «Ну, вот, скоро буду печатать!» И оглядывал весело смущенных гостей.
С. Ермолинский в своих воспоминаниях написал, что некоторые из слушателей потом говорили ему «шепотком: „Конечно, это необыкновенно талантливо. И, видимо, колоссальный труд. Но посудите сами, зачем он это пишет? На что рассчитывает? И ведь это же может… навлечь!.. Как бы поосторожнее ему сказать, чтобы он понял. Не тратил силы и времени так расточительно и заведомо зря…» Тогда говорили испуганно, сокрушаясь, что «заведомо зря», а теперь слышу восторженные воспоминания о незабываемом чтении поразительного романа».
3
То, что работа над романом растянулась на долгие годы, имело последствия не только для самого текста (в последней редакции можно различить, как пласты позднейшей трансформации замысла наползают, наплывают на предшествующие), но и для читательского восприятия. Почти не осталось детализированных свидетельств о реакции слушателей на чтения первых редакций, происходившие, видимо, в 1928—1929 гг. (мы рассказывали о них в третьей главе), но никто из тогдашних слушателей, беседовавших с нами, не говорил о какой-либо непонятности, загадочности героя первой сцены — Воланда. Введение евангельского сюжета хоть и было неожиданным, но вряд ли ошеломляющим — напротив, вызвало профессиональный разговор об источниках, которыми пользовался автор.
Десятилетие спустя реакция была иной. Первые главы романа предстали перед слушателями как нечто нуждающееся в разгадывании. Непосредственности восприятия не было — было огромное напряжение, желание понять, «что бы это значило». Автор, несомненно, чувствовал это напряжение — и шел ему навстречу. Об этом свидетельствует Елена Сергеевна, записавшая на другой день после первого чтения: «Миша спросил после чтения: а кто такой Воланд? Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не скажет».
Цитируя эту запись, В. Я. Виленкин снабжает ее дополнением: «Отвечать прямо никто не решался, это казалось рискованным». Поэтому слушатели пишут разгадку на бумажках, обмениваются этими бумажками и Виленкин вспоминает далее: «Михаил Афанасьевич, не утерпев, подошел ко мне сзади, пока я выводил своего „Сатану» и, заглянув в записку, погладил по голове».
Так, с одной стороны, повторялось описанное в романе неузнавание Воланда всеми кроме Мастера и Маргариты. Мало того — будто предвидя реакцию первых слушателей романа, его автор еще поздней осенью 1934 г., описывая встречу Ивана с Мастером, повествовал, как тот признался Ивану, что пробовал читать свой роман «кой-кому, но его и половины не понимают».
С другой же стороны, очевидно, что автор замечал своеобразную дефектность восприятия романа слушателями-современниками: именно из-за этого неузнавания они были чрезмерно сосредоточены на разгадывании Воланда, испуганы неизбежными ассоциациями, к которым вело их всемогущество героя в наказании одних и поощрении других. Кроме того, все или почти все слушатели, как можно видеть по всем уцелевшим свидетельствам, испытывали род недоумения по поводу непохожести романа на текущую литературную продукцию.
Булгаков стремился вернуть слушателей к утраченной ими непосредственности восприятия как предварительному условию его полноты. Он хотел повернуть внимание слушателей (читателей как таковых не было — ибо читать роман Булгаков, кажется, в это время не давал никому) вглубь романа. Приведем слова Булгакова, запомнившиеся Ермолинскому: «…У Воланда никаких прототипов нет. Очень прошу тебя, имей это в виду».
Трудности, испытываемые аудиторией, были связаны еще и с тем, что в поздних редакциях автор освободил фигуру Воланда от прямых ассоциаций с дьяволом (хромота, копыта — вспомним первые названия романа: «Копыто инженера», «Консультант с копытом») — и при этом рассчитывал на отождествление.
Примерно двумя годами раньше Булгаков, как рассказывала нам Елена Сергеевна, читал роман (или часть его) И. Ильфу и Е. Петрову. И едва ли не первой их репликой после чтения была такая: «Уберите «древние» главы — и мы беремся напечатать». Реакцию Булгакова Елена Сергеевна передавала своим излюбленным выражением: «Он побледнел».
Он был поражен именно неадекватностью реакции на услышанный текст тех людей, которых он числил среди слушателей квалифицированных. Их добрая воля была вне сомнения, но это-то и усугубляло, надо думать, состояние автора: соображения слушателей о возможностях и условиях напечатания романа на его глазах не только опережали бескорыстное читательское впечатление (которого он, несомненно, ожидал), но и в значительной мере разбивали его. Роман при первых же чтениях оказывался непонятым. Реакция автора была насмешливой, с тщательно скрываемой саркастичностью («это-то уж напечатают?»).
Прагматическая деловитость одних слушателей или растерянность (не менее прагматическая по происхождению) других говорили об одном — о какой-то нарушенности связей завершаемого или уже завершенного романа с современной читательской аудиторией. Характерно это чувство почти физической разбитости, зафиксированное В. Я. Виленкиным: и здесь, как и в случае с Ильфом и Петровым, эстетическую реакцию подавляла, деформировала какая-то другая, преодолеть которую слушатели были не в состоянии.
И тем не менее роман пленял, будоражил, не давал покоя тем, кто его услышал. Именно в день последнего чтения был напечатан на машинке, по свидетельству Елены Сергеевны (и по авторской датировке), эпилог романа. Елена Сергеевна подчеркивала внезапность для нее этого решения автора: «Мне так нравились последние слова романа! Я не понимала, зачем что-то добавлять после них».
С лета 1938 года, когда роман был целиком напечатан на машинке, внимание Булгакова должны были привлечь разнообразные должностные перемещения, которые казались значимыми: 20 июля Берия стал заместителем Ежова, а 8 декабря сменил его на посту наркома; «в середине февраля 1939 г. Ежов бесследно исчез» (Р. Конквест. Большой террор. 1974. С. 858). Вкус к разгадыванию, который весьма был свойствен Булгакову, ощутим в эпилоге, писавшемся весной 1939 года, ощутимы в нем и следы психологической усталости и от самих событий, и от постоянных гаданий.
Роман «мастер и маргарита»
К концу
30-х годов Булгаков закончил роман,
прочитав который (в рукописи) А.А.Ахматова
сказала об авторе: «Он гений». Роман
«Мастер и Маргарита» принёс писателю
мировую известность, он стал достоянием
широкого советского читателя с опозданием
почти на три десятилетия. Первая
публикация романа, да и то в сокращённом
виде, состоялась на страницах журнала
«Москва»: № 11 за 1966 № 1 за 1967 год.
Содействовал публикации К.М.Симонов,
бывший председателем комиссии по
литературному наследию Булгакова.
К
роману
о Боге и дьяволе
писатель обратился, когда понял, что
театр «съел его всего», как он
выразился. Роман пришёл вовремя и спас.
В свой самый тёмный год Булгаков увидел
свет надежды. Начата работа над романом
была, по-видимому,
ещё в 1928 году. «Здесь же, на Большой
Пироговской, был написан «Консультант
с копытом» (первый вариант в 1928 году),
лёгший в основу романа «Мастер и
Маргарита».
Насколько помню, вещь была стройней,
подобранней: в ней меньше было «чертовщины»,
хотя событиями в Москве распоряжался
всё тот же Воланд с верным своим спутником
волшебным котом. Начал Воланд также с
Патриарших прудов, где не Аннушка, а
Пелагеюшка пролила на трамвайные рельсы
роковое постное масло. Сцена казни Иешуа
была так же прекрасно-отточенно написана,
как и в дальнейших вариантах романа. Из
бытовых сцен очень запомнился аукцион
в бывшей церкви…» (Л.Е.Белозёрская). Эту
редакцию романа автор потом почти
полностью сжёг. Но
мысли сохранились, зажили собственной
жизнью. Писатель упорно продолжал работу
над книгой и оставил нам её многочисленные
редакции и варианты.
В своё
время критик П.В.Палиевский писал: «Стоит
спросить себя, кто герой этого «невозможного
романа». Вопрос точный, хотя исчерпывающий
ответ на него пока не найден. Но вслед
за этим надо спросить о другом: кто же
автор романа о Иешуа и Понтии Пилате,
который все, от Бога и дьявола до
трусливого редактора и наушника Алоизия
Могарыча, с увлечением читают в «Мастере
и Маргарите»? Ведь
в первых редакциях этот роман рассказывает
(а не читает) сам Воланд.
Иванушка
Бездомный предлагает ему написать
Евангелие от Воланда (то есть от сатаны),
а красноречивый редактор охотно берётся
это кощунственное Евангелие напечатать
в «Богоборце». Но далее Булгаков делает
всё, чтобы передать роман другому автору
– Мастеру, который, как сказано в книге,
«сочинял то, чего никогда не видал, но
о чём наверно знал, что оно было». Очень
важно, что на себя принять это авторство
Булгаков не может и не хочет.
Дьявол,
что по-древнегречески значит «клеветник»
и «обольститель», может написать только
кощунственное и клеветническое Евангелие.
Сам тон Воланда, рассказывающего о казни
Иешуа, ёрнический, коровьевский. От
этого тона надо было избавиться, ибо он
мельчил и снижал главную идею, к которой
автор шёл через все редакции и варианты,
отсекая лишнее. Идея, как и образ Иешуа,
тяготела к возвышению. Ведь само слово
«Евангелие» означает «добрая весть».
От Воланда такая весть исходить не
может.
Поэтому
Булгаков создаёт Евангелие от Мастера,
гениальную творческую догадку земного
человека об Иисусе Христе как о личности.
В этом портрете богочеловека и эпохи
много точно найденных и отобранных
исторических деталей. Евангелие
перерастает в роман, но не уходит из
него. Добрый Бог помогает слабому
человеку установить необходимую гармонию
между высшей нравственностью и личным
счастьем и вносит в беспорядочную и
бренную земную жизнь понятие нравственного
закона и возмездия. Он отрицает архаичные
законы, формальную обрядность, унижающее
людей фарисейство служителей Храма,
которых даже язычник Пилат в одной из
редакций романа назвал «тёмными
изуверами».
Булгаков
сознательно писал свой роман как итоговое
произведение («последний закатный
роман»),
вобравшее в себя многие мотивы его
предшествующего творчества, а также
ценнейший художественно-философский
опыт русской классической и мировой
литературы. Задуманный
с самого начала как «роман о дьяволе»
(под таким названием он упоминается в
переписке Булгакова с близкими ему
людьми), «Мастер
и Маргарита» лишь постепенно обрёл
своих истинных героев, обозначенных в
его заглавии. Новые герои органично
вошли в ранее сложившийся сюжет, где
уже действовали Воланд и его свита. Тема
«дьяволиады», начатая Булгаковым в 20-е
гг., нашла своё завершение в московских
сценах романа.
Истёкшие годы ещё резче выявили в облике
людей печальные последствия духовной
и культурной самоизоляции «нового
общества», революционной нетерпимости,
отбрасывания целых пластов всемирной
истории ради ложно понятых ценностей.
Похождения
Воланда и его свиты в Москве позволили
писателю оттенить всё несовершенство
земного мира, начиная с отнюдь не
безобидного отрицания существования
Бога и дьявола (Берлиоз, Иван Бездомный)
и кончая такими известными общественными
и человеческими пороками, как взяточничество
(Босой), стяжательство (буфетчик варьете),
воровство под маской респектабельности
(Арчибальд Арчибальдович), приспособленчество
и зависть (литераторы), нравственная
нечистоплотность (Лиходеев, Семплеяров),
«пустое место» вместо руководителя
(Прохор Петрович) и т.д. Московские
эпизоды романа – это яркая сатира
Булгакова, но сатира
(и в этом её особенность) весёлая,
не злобная, не исключающая и возможности
преодоления порока. Автор не знает
пощады лишь там, где обнаруживаются
трусость, предательство, донос (критики,
Алоизий Могарыч, барон Майгель). У
Булгакова есть и Бог, и дьявол. Его Иешуа
неразрывно связан с Воландом. Бог
неуловимо меняется, и с дьяволом
происходят важные последовательные
перемены.
Булгаков по-своему переосмыслил богатую
традицию изображения дьявола в мировой
литературе, взяв эпиграфом к роману
строки из «Фауста» Гёте:
«…
так кто ж ты, наконец?
– Я –
часть той силы, что вечно хочет зла и
вечно совершает благо».
Воланда
не Бог послал людям. Дьявол и его чёрная
свита являются на короткий миг из
«опасной вечной бездны» и снова исчезают
в ней, сделав свою страшную «работу».
В ранней редакции романа Коровьев и
есть ангел бездны, беспощадный убийца.
А Азазелло, этот демон безводной пустыни,
собственноручно зарезал Иуду в
Гефсиманском саду.
Но все
они – лишь исполнители, один Воланд
знает всю силу и меру идеи зла. Его
возможности тоже ограничены. Он обретает
полноту власти только там, где очень
многого нет, где последовательно
истребляются честь, вера, совесть,
подлинная культура. Люди сами открывают
ему умы, души и двери.
Полнота
чёрного знания Воланда требует от его
образа в романе строгости и своеобразного
величия. Иначе он не может стоять рядом
с Иешуа.
И потому Булгаков, создавая эту мрачную
мощную фигуру, следует тем же путём
восхождения по лестнице знания. Он
помнит мысль Достоевского, высказанную
в «Идиоте»: «Закон саморазрушения и
самосохранения одинаково сильны в
человечестве! Дьявол одинаково
владычествует человечеством до предела
времён, ещё нам не известного. Вы смеётесь?
Вы не верите в дьявола? Неверие в дьявола
есть французская мысль, есть лёгкая
мысль». За это легкомыслие и расплатился
номенклатурный хитрец Берлиоз.
К
такому пониманию дьявола надо было
прийти. В ранних редакциях «Мастера и
Маргариты» Воланд ещё порывист, неспокоен,
кривляется и даже пританцовывает.
Этого
зловещего клоуна пришлось очищать от
комических излишеств, и он превратился
в безукоризненно вежливого, отрешённого
от прекрасно известных ему земных и
небесных дел мессира, чья нечеловеческая
жестокость имеет границы, ибо есть
Иешуа, и есть добрая, свободная воля
человека. Без согласия людей, без их
злой воли дьявол бессилен творить зло,
и понимание этого грустного для него
обстоятельства делает Воланда мудрым,
терпимым и в своём роде величественным
и благородным. Он понимает и уважает не
поддавшихся его проискам людей. Но без
страшной «работы» Воланда невозможно
то сложное ощущение полноты и конечной
справедливости жизни, которое Булгаков
в романе именовал «гармонией страдания».
Воланд
Булгакова отличается тем, что он не
только не творит зла, но и оказывается
способным на милосердные деяния, что
совсем не согласуется с привычным
обликом «губителя человеческих душ».
Недаром известным литературовед
В.Я.Лакшин писал о «мрачном обаянии»
булгаковского Воланда. Наличие в романе
образа «симпатичного дьявола» некоторые
исследователи связывают с природой
художественного таланта Булгакова-сатирика,
который «был, пожалуй, больше сродни
сатане, чем Иисусу Христу» (Боборыкин
В.Г.). В суждениях Воланда и в самом деле
иногда отчётливо слышна авторская
интонация (диалог с Левием Матвеем,
обобщённая характеристика москвичей
и т.д.).
Основополагающей
для нравственно-философской концепции
романа является мысль о вечном равновесии
добра и зла, света и тени; в их постоянном
и неизбежном сопутствии друг другу –
залог гармонии бытия.
Утверждению
этой идеи служат и библейские главы
романа, где ощутимы следы тщательного
изучения Булгаковым истории Рима и
раннего христианства по книгам историков
и философов. В центре этих глав –
своеобразный поединок между прокуратором
Иудеи Понтием Пилатом и «безумным
философом» Иешуа Га-Ноцри.
Обращение Булгакова к библейским мотивам
для выяснения сложнейших нравственных
проблем наводит исследователей на мысль
об использовании им опыта Достоевского
в романе «Братья Карамазовы» («Легенда
о Великом инквизиторе»). Тем более, что
имя Достоевского тоже упоминается в
романе, хотя его творчество оказалось
неугодным революционной эпохе. Библейские
мотивы у Булгакова так или иначе сопряжены
с глубоким драматизмом его собственной
судьбы. Это не значит, что автор
отождествляет себя с Иешуа, такая
параллель наблюдается скорее между
Иешуа и Мастером.
Булгаков
делает своего Иешуа очень человечным
(«злых людей нет на свете»). За это и
подсылает к нему своего корыстолюбивого
исполнительного сыщика Иуду первосвященник
Каифа. Каифа отличался завистливостью,
изощрённой мстительностью и служил
жестокому, не имеющему человеческого
облика богу. К тому же он был достойным
духовным вождём народа, назвавшего себя
в своих священных книгах «жестоковыйным».
Пилат
(а не сам Булгаков) ненавидел этот древний
народ, его лицемерных служителей и
истеричных пророков, их чудовищный
храм, коварный восточный город Ершалаим
и потому смело сказал могущественному,
сильному своими тайными связями в Риме
и на Капри Каифе: «Вы предпочитаете
иметь дело с разбойником!» Римский
прокуратор знал, что Иешуа пользовался
только Словом и тем самым спас жизнь
Пилата и сотен римлян.
Трагическая
фигура пятого прокуратора Иудеи лишена
всех «низких», смешных черт. Это сильный,
умный, но живущий без веры, уставший,
бесконечно одинокий человек, который
однажды испугался за свою жизнь и власть,
слишком поздно возрождается к жизни и
должен вынести многовековую пытку
мучительным бессмертием и угрызениями
совести. Прокуратор обречён на тысячелетнее
размышление о смысле своего поступка
и встрече с Иешуа. Его каменную тюрьму
на скалистой вершине горы посещают
Мастер и Воланд, чтобы отпустить
измученную преступную душу на волю.
Только такой Пилат может быть достойным
собеседником Иешуа. Но при всём его уме,
бесстрашии и силе характера воин Пилат
– сознательный служитель и пленник
идеи власти. И потому он посылает на
смерть своего великодушного спасителя.
Люди власти привыкли предавать друзей
и близких, это их натура. «Нет греха
горшего, чем трусость. Этот человек был
храбр, и вот, испугался кесаря один раз
в жизни, за что и поплатился», – говорит
о Пилате Коровьев.
Потому-то
Булгаков делает прокуратора одиноким,
поддавшимся трусости, этому главному
пороку людей власти. Пилат поклоняется
не Богу, а дьяволу, ибо совершает обряд
в честь обожествлённого императора,
плеснув вино в блюдо с мясом. А в черновой
редакции есть эпизод, где мелкие демоны
свиты Воланда на московской квартире
лихо пьют за здоровье своего всесильного,
казалось бы, мрачного хозяина и проливают
капли водки на дымящееся мясо, стол их
кощунственно покрыт вывернутой наизнанку
церковной парчой. Иешуа же служит лишь
Слову и Свету. Он всегда с человеком и
за человека. Поэтому Воланд и говорит
о медленно прозревающем и обращающемся
к Иешуа Понтии Пилате: «Он исправит свою
ошибку».
Своей
убеждённостью и бесстрашием Иешуа
напоминает Дон Кихота, о котором Булгаков,
работая над романом, много думал и
написал пьесу. Но ещё больше похож Иешуа
на князя Мышкина из романа Достоевского
«Идиот», мягкого, мечтательного,
по-человечески слабого, но сильного
чистотой души, всеведением и спокойной
верой, и особенно явственно это сходство
в сцене распятия: «Он всё время пытался
заглянуть в глаза то одному, то другому
из окружающих и всё время улыбался
какой-то растерянной улыбкой».
Но
после распятия Иешуа совсем другой,
стоит вспомнить его улыбающиеся глаза
во время прогулки с Пилатом. Это уже
Свет, чистый, святой, ясный, воплотившийся
в личности. Этот Христос молчит, слушает
своего жаждущего обманчивого покоя
собеседника и в который раз удивляется
ослеплённости бедного земного ума.
Так
рождается, постепенно освобождаясь от
хлёсткой иронической шелухи и споря с
примитивным советским богоборчеством
воинствующих невежд, высокий образ
доброго, мудрого и ироничного Христа
ХХ столетия, один из самых интересных
в мировой литературе. Он преисполнен
веры, надежды и любви, противостоит идее
отчаяния и всеобщей погибели. Это свет
во мраке, показывающий заблудшему и
отчаявшемуся человеку правильный путь.
Образ
Мастера и связанная с ним тема одинокого,
ненужного и не понятого миром творца
имеет несомненно автобиографическое
происхождение. «Покой», обретённый
ценою ухода из земной жизни, – не
единственный дар и утешение Мастеру.
Высшей наградой для него является любовь
его верной подруги Маргариты, имя которой
подчёркнуто совпадает с героиней Гёте.
Однако, в отличие от гётевского «Фауста»,
сделку с дьяволом в булгаковском романе
совершает сама Маргарита, как бы заранее
предуготовленная к этой миссии (ведьмины
черты в её облике и поведении). Не в
пример Мастеру, она хотя и по-своему, но
активно сопротивляется миру низменных
стремлений и страстей, не теряя при этом
любви и милосердия. Наличие в романе
героев, наиболее близких Булгакову
(Иешуа, Мастер, Маргарита), всё же не
закрепляет за кем-либо из них исключительного
права на выражение авторской точки
зрения. В целом она может быть адекватно
воспринята и осмыслена лишь с учётом
всего многообразия персонажей романа.
Злу реальному, часто торжествующему
Булгаков противопоставляет не какого-либо
«идеального» героя, а традиционные
гуманистические ценности: творческий
дар, любовь, сострадание, нравственный
стоицизм. Эти ценности всеобщи и
непреходящи, о чём свидетельствует опыт
почти двух тысячелетий человеческой
истории, отражённой в романе. Они же
прочно соединяют его и с сегодняшней
нашей действительностью, для которой
характерно переосмысление советского
прошлого и устремлённость к общечеловеческим
нормам бытия.
Фантастика
и сатира романа, сделавшие его одной из
самых читаемых в мире книг, для автора
не самоцель, а средство глубочайшего
творческого постижения бытия и души
человека.
«Последний
закатный роман», как называл Булгаков
«Мастера и Маргариту», через блистательную
фантастику и сатиру даёт поучительную
картину сложнейшей механики текущей
жизни, вечной борьбы в ней сил созидания
и разложения, избравших полем битвы умы
и души людей.
Авторское
внимание в книге разумно распределено
между пенрсонажами, и потому так важна
для понимания романа судьба самого
Мастера, ни в коем случае не равного
Булгакову.
За
Мастером нет никакой трагической,
безусловной вины, и потому его тема в
романе – отнюдь не тема искупления. И
всё же он не заслужил свет, он получил
только покой, очень интересно описанный
в черновых редакциях книги (вечный
сельский дом, увитый диким виноградом
и плющом, любовь Маргариты, вишнёвые
сады в цвету, тихая река, реторты и колбы,
старый слуга, музыка Шуберта, писание
при свечах – и полное забвение всего
виденного, и прежде всего Иешуа).
Очевидно,
этот благоустроенный вечный покой и
потухшая память писателя – отнюдь не
высшее счастье. Ибо Мастер лишён полного
понимания глубинной сути происходящих
событий, и все необходимые разъяснения
ему вынужден давать не кто иной, как
сатана. Булгаков всегда жаждал покоя,
но глубокое и полное знание ценил превыше
всего и именовал его выразительным
словом «свет».
Из
светлого света соткан облик Иешуа,
всезнающего и потому бесстрашного в
своём мудром спокойствии. Тихий ровный
свет доброго вечного всезнания возрождает
живого мертвеца Понтия Пилата, даёт
ему, как и Мастеру, долгожданный покой
и вовремя лишает силы бесчеловечное,
чёрное и потому неполное знание Воланда,
указывая злу его настоящее место и
назначение в мире.
Мастер
же лишён света, истинного знания. Он
лишь догадывается о его существовании,
постигая истину творческим проницанием.
Недаром в черновом варианте романа
Воланд говорит Мастеру: «Тебя заметили,
и ты получишь то, что заслужил… Ты
никогда не поднимешься выше, Иешуа не
увидишь, ты не покинешь свой приют… Это
дело не твоего ума». Значит и в судьбе
Мастера была капитальная ошибка, над
которой стоит задуматься.
По
всей видимости, ошибка эта – в малодушии,
в отказе от выполнения своей трудной
писательской задачи («если писатель
замолчал, значит, был не настоящий»), от
каждодневной борьбы за свет знания, за
истину и любовь, за свой роман, и рассказ
о мужестве Маргариты, спасшей отчаявшегося
замолчавшего Мастера, подтверждает
справедливость такого предположения.
Романтическому Мастеру не хватило
стойкости, он сломался там, где устоял
его творец (Булгаков), не поднялся выше
и получил покой, вполне им заслуженный.
Но может ли он таким покоем удовлетвориться
– вот главный вопрос…
Один
из самых значимых в романе – образ
Маргариты. Он поэтичен и привлекателен.
Мы видим, что это молодая, умная и красивая
женщина, до встречи с Мастером жившая
во лжи и без любви, меняется, развивается,
движется вместе с книгой, приходит к
Мастеру, Воланду, а затем и к Иешуа. Это
сложный и трудный путь испытания,
восхождения и возрождения. Роман
разворачивается как Евангелие, а сквозонй
образ всех канонических Евангелий –
это исцеление, спасение и духовное
возрождение грешницы. Избавление от
земных грехов через великие испытания,
которым по собственной воле и во имя
любви и веры подвергается Маргарита в
романе Булгакова – это путь Марии
Магдалины. Булгаковская героиня – образ
собирательный, хотя многие женщины,
знавшие писателя, хотели быть прообразами
Маргариты. Но храбрая, верная и любящая
Маргарита давно отделилась от своих
многочисленных прототипов и живёт в
булгаковском романе и сознании его
читателей сама по себе, увлекая, удивляя
и восхищая.
Булгаковские
образы глубоки и многомысленны и в то
же время реалистичны. Они раздвигают
внутреннее пространство романа и дают
простор мысли и чувству писателя, ибо
им, их жизненности веришь. Воланд и его
компания, стягивая художественное время
и пространство, помогают людям разных
эпох встретиться и понять друг друга и
самих себя. Узлы событий мгновенно
стягиваются и развязываются.
В
«Мастере и Маргарите» соединены
роман-трагедия и роман-комедия. С самого
начала Булгаков задумывал книгу как
роман исторический, и это верно в
отношении не только «евангельских» и
«воландовских», но и «московских» глав.
Это ещё и философский, и сатирический
роман, но всё это помогает булгаковскому
творческому историзму глубоко проникнуть
в современную ему жизнь и души людей.
Булгаков
писал «Мастера и Маргариту» как
исторически и психологически достоверную
книгу о своём трудном и страшном времени
и его людях. Этот роман исторический
ещё и потому, что насыщен точнейшими
деталями быта и неповторимыми характерами
людей.
Эмигрантский
критик Вяч.Завалишин писал о Булгакове:
«Я не знаю другого сатирика, который
создал бы столь смелые, правдивые и
выразительные карикатуры на советского
человека и на ту атмосферу 30-х годов,
которая сплющивала и уродовала и жизнь,
и духовный и нравственный облик человека».
Булгаков
именовал себя мистическим писателем и
оставил нам роман о дьяволе, но в авторе
и его творении нет ничего демонического.
Зло и дьявол здесь, как и у Гоголя,
вынуждены служить человеку и добру, и
этика Булгакова не противоречит
нравственным идеалам русской классики.
«Мастер
и Маргарита» при всём своём беспощадном
реализме и прорывающейся местами
глубокой печали – книга светлая и
поэтичная. Высказанные в ней вера,
надежда и любовь способны рассеять
любой мрак. Ибо человек здесь не унижен,
не растоптан силами зла, он и на дне
тоталитарной бездны сумел выстоять,
понял и принял жестокую педагогику
жизни.
О ПРОБЛЕМАТИКЕ, КОМПОЗИЦИИ
И ЖАНРЕ РОМАНА
Задание 1
«Роман М. Булгакова –
открытая, ясная, свободная и глубокая
философско-художественная мысль,
обращенная к важнейшим и общезначимым
проблемам человеческой жизни. <…>
Его тема – это тема общей человеческой
ответственности за судьбу добра, красоты,
истины в человеческом мире».
(И.
Виноградов. Завещание Мастера. 1968).
«Восстановление забытых
имен – естественный процесс обогащающейся
наследием культуры. Но то, что случилось
с Булгаковым, не имело, пожалуй, у нас
прямой аналогии. Им зачитывались студенты
и пенсионеры, его цитировали школьники;
кот Бегемот, Воланд, Азазелло и Маргарита
переходили в бытовой фольклор. <…>
Одна из коренных мыслей
романа “Мастер и Маргарита” – мысль
о справедливости, которая неизбежно
торжествует в жизни духа, хотя иной раз
и с опозданием, и уже за чертой физической
смерти творца».
(В. Я. Лакшин. Михаил
Булгаков. 1988).
-
Чем, по-вашему, интересно
это произведение, созданное в 30-е годы,
читателю начала ХХI
века? -
Если вы согласны с трактовкой
И. Виноградовым и В. Лакшиным основной
проблематики романа, продолжите
рассуждения на эту тему с опорой на
примеры из “Мастера и Маргариты”.
15 мая – день рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 – 1940).
Наверно, наиболее читаемый и популярный ныне его роман – это роман «Мастер и Маргарита», над которым писатель работал в 1929 – 1940 гг..
Известны несколько редакций этого романа и целый ряд вариантов названия, например: «Великий канцлер», «Чёрный богослов», «Пришествие», «Вот и я», «Сатана», «Подкова иностранца», «Копыто консультанта». Название, под которым известен ныне, он получил в третьей и последней, редакции, относящейся к 1936 – 1938 г.г.
Это крупнейшее, итоговое произведение писателя. Елена Сергеевна Булгакова писала: «Умирая, он говорил: «Может быть, это и правильно… Что я мог бы написать после «Мастера»?» (1, с.48).
Сейчас об этом романе создана обширная литература. Литературоведы, критики, читатели пытаются понять и истолковать смысл, заложенный писателем в его «закатный роман» (если воспользоваться его же выражением).
Давайте вместе попробуем прочитать его и мы, опираясь на романную поэтику Булгакова.
Безусловно, в этом романе отражены социально-политические взгляды зрелого Булгакова. Но нельзя не увидеть, что, повествуя о современной писателю действительности, роман вместе с тем имеет глубокий философский смысл, поднимает, как всегда у Булгакова, «вечные» проблемы. Мы понимаем, что автора интересуют жизнь и смерть, возможности и смысл бессмертия, роль личности в истории, возможности и следствия нравственно-этического выбора человека, преходящие и непреходящие ценности, в том числе любовь и верность, долг и назначение художника, а также многое другое.
И разве не этот самый философский смысл и нравственный аспект проблем делают булгаковский «закатный роман», любимый многими читателями, актуальным во все времена?..
Как известно, сюжет романа сводится к истории, происшедшей в советской Москве 20-х – 30-х годов ХХ века с неким писателем, именующим себя Мастером и написавшим роман, построенный на евангельском сюжете.
Сразу скажу, что поэтика булгаковского романа чрезвычайно необычна, не традиционна для русской классической литературы (даже поры символизма). В этом произведении в полную меру высказалась неповторимая творческая индивидуальность Булгакова.
«Чёткая графика евангельской истории с минимумом «чувственно наглядного» у Булгакова раскрашена и озвучена, приобрела «гомеровский» наглядный и пластический характер. Роман строится по принципу «живых картин» – путём фиксации, растягивания и тщательной пластической разработки каждого мгновения. В булгаковской интерпретации это – бесконечно длинный день, поворотный день человеческой истории.
Не случайно внутрироманный автор романа о Пилате определяет свой дар так: «Я утратил бывшую у меня способность описывать что-нибудь». Не рассказывать, а описывать, рисовать, изображать…
«Мастер и Маргарита» – роман не испытания идеи (как, скажем, у Достоевского), а живописания её» (2, с. 471. – Курсив М.Чудаковой. – Л.Я.).
Интересовавшиеся толкованием романа знают, что существуют определения «Мастера и Маргариты» как символистического, постсимволистского, неоромантического, модернистского, постреалистического романа, и все по причине того, что его поэтика не укладывается в русло ни одного творческого метода. Справедливо отмечает Б.Соколов: «В булгаковском романе соединились весьма органично едва ли не все существующие в мире жанры и литературные направления» (3, с.307).
С современной постмодернистской литературой этот роман роднит то, что его романная действительность, не исключая «современных» (или так называемых «московских») глав, строится почти исключительно на основе литературных источников (основные из них указаны в книге И.Галинской «Загадки известных книг» (М., 1986) и в «Булгаковской энциклопедии» Б.Соколова (М., 1996)), а инфернальная (т.е. сверхъестественная, потусторонняя) фантастика здесь глубоко проникает в советский быт.
«Роман Булгакова для русской литературы, действительно, в высшей степени новаторский, – совершенно справедливо отмечал американский литературовед М.Крепс в книге «Булгаков и Пастернак как романисты: Анализ романов «Мастер и Маргарита» и «Доктор Живаго»» (1984), – а потому и нелегко дающийся в руки. Только критик приближается к нему со старой стандартной системой мер, как оказывается, что кое-что так, а кое-что совсем не так. Платье менипповой сатиры при примеривании хорошо закрывает одни места, но оставляет оголёнными другие, пропповские критерии волшебной сказки приложимы лишь к отдельным, по удельному весу весьма скромным, событиям, оставляя почти весь роман и его основных героев за бортом. Фантастика наталкивается на сугубый реализм, миф на скрупулёзную историческую достоверность, теософия на демонизм, романтика на клоунаду» (3, с.307).
Итак, художественный мир романа отличается необычайной наполненностью и своеобразием, и выстроен он тоже своеобразно.
В нем взаимодействуют два временных потока: эпоха первого века нашей эры и современная Булгакову эпоха (Б.Соколов соотносит их соответственно с 29 и 1929 годами). Место действия в первом веке – вымышленный город Ершалаим (за которым явно проступает древний Иерусалим), в двадцатом – советская Москва.
Однако сразу следует оговорить, что все персонажи романа существуют не только в конкретном историческом времени, но и как бы перед лицом Вечности, с позиций которой судимы автором.
Роман не зря в последней редакции назван «Мастер и Маргарита». Мастер (писатель) и его подруга Маргарита – главные герои романа.
Своеобразие булгаковского произведения и в том, что в нём зримо представлен и мир романа, который пишет Мастер и события в котором как раз и разворачиваются в начале первого века нашей эры. Читатель знакомится с персонажами романа Мастера: бродячим философом Иешуа Га-Ноцри и римским прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. Но сразу же читатель открывает для себя и то, что, оказывается, булгаковской волей, Иешуа и Пилат – не только персонажи Мастера, они существовали в действительности! Свидетель тому – Воланд, из уст которого читатель вместе с другими булгаковскими героями (современниками Мастера) слышит недосказанные Мастером фрагменты той древней истории; и получается, что Мастер каким-то чудом (интуицией художника?) проник в древнюю реальность и, рассказывая о ней, ни в чём не погрешил против истины. В финале романа ему будет дано в этом убедиться, и он воскликнет: «О, как я угадал! О, как я всё угадал!».
Безусловно, Мастера как художника прежде всего характеризует его роман. Познакомимся поближе с сюжетом и героями этого романа, чтобы проникнуть в замысел Мастера и понять, что двигало им в стремлении описать увиденную внутренним взором историю. Тем самым мы проникнем и в замысел Булгакова, постигнем суть семантики образа Мастера и его функции в булгаковском романе.
Сам Мастер определяет тему своего романа как «роман о Пилате». Общеизвестно, что Понтий Пилат – действительное историческое лицо и, кроме того, герой евангельского мифа о Христе. Согласно ему, Пилат вынес смертный приговор Иисусу Христу. Но это и всё, что мы знаем о нём из Священного писания. Ни один евангелист из четырёх не описал самочувствия и действий Пилата после вынесения приговора и казни Иисуса. Разноречивые легенды о возмездии Пилату как великому грешнику, казнившему Бога в облике Сына Человеческого, создавались в эпоху средневековья, но они основаны на вымысле и исполнены мистики. Булгаковский Мастер волею его автора создает свою версию дальнейших событий, происшедших с Пилатом после суда над бродячим философом. Понятно, что он делает это с определенной целью и что Пилат в его романе – уже не реальное историческое лицо, а вымышленный персонаж, имя которого сохранено в качестве «сигнала» читателю для придания достоверности описанному и ради восприятия описанного в качестве не рядовой, а чрезвычайно значимой истории: якобы «тот самый Пилат», но именно «якобы»!
То, что Мастер не воспроизводит библейский миф, доказывается именем Иешуа Га-Ноцри. Осуждённый Пилатом не назван Иисусом, чтобы было понятно, что речь идет не о Боге, а о человеке. Об обыкновенном человеке, у которого силой неправедной власти отнимают жизнь. И в этом случае неважно, кто этот человек, потому что жизнь человека должна быть священной для всех: она единственна и невозвратима. Правда, то, что Иешуа – удивительно добрый и честный человек, усиливает элемент трагедийности, и казнь его воспринимается как двойное преступление.
«Булгаковский Иешуа – не Сын Божий и даже не Сын Человеческий. Он – сирота, человек без прошлого, самостоятельно открывающий некие истины и, кажется, не подозревающий о них, этих истинах, и о своём будущем.
Он гибнет потому, что попадает между жерновами духовной (Каифа и синедрион) и светской (Пилат) власти, потому, что люди любят деньги (Иуда), потому, что толпа любит интересные зрелища, даже если это – чужая смерть» (2, с.471).
Но это-то всё и запечатлено Мастером – ради привлечения внимания к аномальности такого положения вещей. Потрясённый тем, что «огромный сжигаемый яростным солнцем мир равнодушен к одинокому голосу человека, нашедшего простую, как дыхание, прозрачную, как вода, истину» (2, с.471), он попытался своими «живыми картинами» дать понять людям, что они сами превращают жизнь в ад, тогда как, будь человек добр, она была бы совсем иной.
Мастером же запечатлены душевные муки Пилата, которого гложет совесть. «Потом можно убить предателя <…>, как в зеркале, увидеть свою жестокость в поступках подчинённого («У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите…»), спасти ученика Иешуа («Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет») – можно творить сколько угодно добра, но случившееся небывшим сделать уже не удастся» (2, с.474. – Курсив мой. – Л.Я.). Поэтому, просыпаясь от утешительных снов, Пилат первым делом вспоминает: казнь была.
Мастер хотел привлечь внимание людей к факту необратимости поступков. Ведь, хотя оправдания для себя каждый сможет найти всегда, «искупить совершённое невозможно, его лишь можно, если удастся, забыть. Но всегда найдется кто-то с куском пергамента. Он запишет и записанное останется. И даже если рукописи сгорят, всё останется так, как было записано» (2, с.474. – Курсив мой. – Л.Я.).
Мораль отсюда читатель способен извлечь сам. Мастер только подсказывает её, заставляя своего Пилата поправить умирающего Иешуа и заключить: «Трусость <…> это самый страшный порок» (4, с.251)[1].
К характеристике Мастера можно прибавить, что он сжёг свой роман, и решить, что всё же и он проявил малодушие. Но не надо забывать, что сжёг он рукопись, столкнувшись с фактом своей ненужности современникам. Им не понадобились ни истины, о которых он напомнил, ни его предостережения; со всем этим багажом им было хлопотно и неудобно, а без него – гораздо легче и проще. Они лишь могли испытать от этих напоминаний и предостережений дискомфорт, потому что принцип моральной облегченности существования уже служил им руководством к действию (и порядком развратил их), но тогда тем более ополчиться на того, кто лишал их душевного спокойствия. И они встретили роман Мастера в штыки. Вот тогда-то Мастер и уничтожил своё творение, а сделав это, ушёл в больницу Стравинского: удалился от мира, как удаляется в пустынь отшельник-праведник.
Объективно судить о Мастере помогают созданные Булгаковым образы его современников-москвичей, и особенно образы писателей. Они составляют обширный фон, формируя читательские представления о социальном времени.
Оговоримся, что отчасти москвичи советской эпохи увидены в романе Булгакова глазами своеобразного «ревизора из Вечности» – Воланда. Воланд посещает Землю и Москву с целью составить истинное представление о «новой исторической общности – советском народе», и этому, в частности, служит «сеанс чёрной магии» в Варьете. Но перед этим Булгаков знакомит читателя с некоторыми московскими реалиями от своего лица, а после вынесения Воландом «вердикта» углубляет это знакомство, предлагая собирательно-обобщённый портрет советской столицы эпохи «Великого перелома». Зримо показаны абсурдность советской жизни, её заорганизованность, паразитизм и развращённость управленческих работников (при их созерцании напрашивается параллель с персонажами «Бани» В.Маяковского). Советские люди предстают винтиками огромной государственной машины, бесправными существами, которых можно принудить к чему угодно (вспомним историю с кружками в одном из учреждений). За годы новой власти у них уже выработался стереотип мышления. Они подобны радиорупорам с автоматическим включением и выключением, и эта метафора реализуется в самом художественном тексте (в истории с хористами). Именуются они все гражданами и гражданками, словно все – бывшие или потенциальные арестанты. Их воспитывают в духе доносительства (см. гл. «Сон Никанора Ивановича»). Время от времени эти «граждане» исчезают, как, например, жильцы «нехорошей» квартиры № 50. Куда? Мастер пришел оттуда с оторванными пуговицами. Этим «говорящим» образом Булгаков ясно дает понять, что это за место.
Хуже всего то, что у советских людей уже выработалась привычка к такому образу жизни, что они воспринимают его как некую норму, не замечая нелепостей и абсурда. Они безынициативны и покорны, и, поскольку сферы активной творческой или политической жизни для них закрыты, они реализуют себя в иных сферах и преуспевают в разврате, тунеядстве и приспособленчестве. Они падки на соблазны, распущенны морально, бездумно жестоки, как «ответственные работники» (Семплеяров, Лиходеев), так и простые смертные.
Булгаков показывает, что всё в советской жизни изображаемой им эпохи стоит на обмане и корысти: буфетчик торгует порчеными продуктами, дядя Берлиоза приезжает из Киева в Москву, чтобы прибрать к рукам квартиру племянника и т.д. Процветает пьянство, воровство, взяточничество, наушничество из корыстных целей, равнодушие к бедам другого.
Таковы же и писатели, – казалось бы, люди творческого труда, которые должны быть равнодушны к вопросам карьеры и материальных благ. Они завидуют друг другу, делят должности, привилегии, дачи. Нигде нет надёжности, верности.
Апофеозом всего этого предстает фигура председателя МАССОЛИТа Михаила Берлиоза. Не зря он наделен «говорящей» фамилией. Это деталь «характеристики по контрасту». Нося фамилию гения-творца, он, по сути дела, является тормозом познающей и творческой мысли, взяв на себя роль проводника политики властных структур. Он воспитывает членов МАССОЛИТа в духе покорности своим политическим хозяевам, как это видно из его поучений Ивану Бездомному, плодит ограниченность и невежество, сознательно затушевывая и искажая истину. Булгаков показывает и процесс, и результаты его «воспитательной» деятельности: это он способствует превращению Ивана Понырева в Ивана Бездомного (т.е. не знающего корней и родства), и только избавившись от его влияния, Иванушка вновь постепенно обретает себя, своё настоящее имя и смысл жизни (во многом под влиянием Мастера). Образ Ивана Бездомного здесь метафоричен, об этом говорит само имя героя – имя персонажа русских народных сказок, традиционного Иванушки, который всегда имеет репутацию признанного дурачка, но, благодаря своей сметке и содействию волшебных помощников, обычно преодолевает все препоны на своем пути и находит счастье и справедливость. Таков обычный путь сказочного Иванушки. Путь булгаковского Иванушки не завершён, до его окончания ещё далеко… И здесь важны не столько сюжетные ситуации, в которые попадает герой, сколько духовный путь этого персонажа, то направление, которым Иван шёл до встречи с Воландом (и потом с Мастером), и та резкая смена направления, которую обусловила его встреча с Воландом и с Мастером. Духовный путь Ивана Бездомного в романе – путь всего народа, во всяком случае, тех слоёв, которые именовались до революции «социальными низами» и на революционизирование которых были направлены усилия демократов всех времен. Булгаков показывает, чем обернулось это «приобщение к революционно-классовой грамоте» после революции: оно свелось к одурманиванию, оболваниванию народных масс путем подтасовки идеалов в интересах отнюдь не народа, а правящих структур, нашедших услужливых холопов в среде образованной интеллигенции, которые добывали себе репутацию политически благонадёжных «граждан», а заодно – и материальный достаток. Булгаковский Берлиоз – один из первых сатирических образов «проводника идей партии» и «инженера человеческих душ», исполнителя «соцзаказа» и «госзаказа». Е.Замятин называл таких в реальной жизни «юркими» писателями, служителями культа «какого-то нового католицизма» и прислужниками нового «двора», а В.Маяковский сатирически изобразил в «Бане» в образах Моментальникова и Бельведонского.
Берлиоз расчетлив и циничен в своих расчетах; будучи движим корыстными, меркантильными побуждениями, он не верит в святыни. Доказывая Ивану (и Воланду), что не существует ни Бога, ни Дьявола, он тем самым проповедует неразличение Добра и Зла, и это ему выгодно, так как эта философия отвергает ответственность человека (в первую очередь, самого же Берлиоза) за его поступки.
Именно за содержание его сознательной деятельности Булгаков авторской волей казнит его в романе, ибо, по Булгакову, сознательное искажение истины – самый страшный и непростительный грех для человека образованного и наделённого художественным даром. Устами Воланда на его балу Берлиозу дается отповедь: каждому воздаётся по его вере.
Берлиоз и подобные ему дискредитируют звание писателя. Потому-то главный герой булгаковского романа оскорблённо отказывается именоваться писателем и называет себя мастером.
В этом поименовании героя и в самом эпизоде знакомства с ним проскальзывает очевидный расчёт Булгакова на определённые читательские ассоциации:
«Вы – писатель? – с интересом спросил поэт.
Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:
– Я – мастер, – он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней жёлтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он – мастер» (с.108).
Конечно, противопоставление в романе Мастера, профессионала и человека культуры, приспособленцам из МАССОЛИТа (прообразом которого служат ВАПП и РАПП – реальные массовые организации (ассоциации) пролетарских писателей той эпохи) очевидно. Но «М» на шапочке и демонстрация себя в ней как в ритуальной мантии доказывают, что всё это, включая сам титул «мастер», – знаки своего рода права на учительство, а, значит, на приобщённость к высшим, сокровенным истинам (сродни атрибутам, титулам и положению магистра и мастера у масонов). А следовательно, это и сигнал читателю об особой роли Мастера в романе, об особо тесной связи между Мастером и Булгаковым как автором романа.
Мастер – художник, служащий литературе и истине. Как любой художник, он мыслит образами. Но его подвигли на литературный труд наблюдения над историей и современностью, – так сказать, параллели, видимые его глазу художника и историка («…Историк по образованию, он ещё два года назад работал в одном из московских музеев, а кроме того, занимался переводами» (с.108)). На историческом примере Мастер поставил перед современниками проблему ценностей и идеалов, проблему нравственного выбора человека и последствий этого выбора.
Итак, Мастер – истинный писатель, творец, пишущий не по заказу, а по велению таланта и души, высказывающий в романе своё знание о мире и человеке. Он – во многом носитель авторской позиции (и, по Булгакову, объективной истины – недаром же Булгаков делает его «историком по образованию»).
Прослеживая судьбу Мастера в своем романе, Булгаков ведёт к мысли об ответственности общества за талант и судьбу художника. Ведь Мастер замолчал, оказавшись в положении своего Иешуа, будучи отвергнутым современниками и не желая принять путей Рюхина и Берлиоза. Его сочли аномалией, предрешив добровольный приход в сумасшедший дом.
Булгаков поднимает проблемы социального времени, нравственного упадка в социуме и причин этого упадка, трагедийной участи художника и искусства в несвободном и развращённом обществе. Образ Мастера служит у него делу утверждения определённого творческого поведения (преданности истине, добру, справедливости, искусству, несмотря ни на что). Но здесь следует отметить и некоторые расхождения автора со своим героем.
По-человечески Булгаков своего героя понимает, более того, мотивирует его обиды, душевную ожесточённость, апатию после пережитого. Но автор «живёт» в его романе не только в Мастере, а и в Маргарите, и в Воланде, не во всем согласных с Мастером. «За что же ты меня терзаешь? – говорит ему Маргарита в ответ на слова, что ему стал ненавистен его роман. – Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу». «Не слушайте его, мессир, он слишком замучен», – оправдывает она Мастера в глазах Воланда. «Но ведь надо же что-нибудь описывать?» – полагает Воланд. «Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия» (Мастеру предлагаются темы лицемерия и предательства). «Этого Лапшенникова не напечатает, да, кроме того, это и неинтересно», – отвечает он. «Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?» – резюмирует Воланд, и в его фразе нельзя не услышать доли разочарования (с.230 – 231).
Одной частью своей души понимая естественность и закономерность апатии Мастера, другой частью души Булгаков всё же ни в какой ситуации не принимает ожесточённости писателя и его отказа служить делу истины и культуры, и авторской волей к финалу меняется разуверившийся во всём Мастер. В сцене прощания Мастера с Москвой явственно проступает тема воскресения души и возрождения художника в новом качестве – в облике открытой миру творческой личности, поднявшейся над своими муками и страданиями к вечному и прекрасному миру духовности и культуры, недаром, согласно аргументам Б.Соколова, действие в этой сцене происходит в пасхальную ночь.
Современная критика увидела прототипами Мастера Гоголя, самого Булгакова, О.Мандельштама. Однако важнее понять, что в его облике запечатлен тип художника от Бога, созидателя вечных духовных ценностей, кто в любые эпохи, по меткому определению Б.Пастернака, – «вечности заложник у времени в плену».
Если для характеристики Мастера важна его безымянность и оттенок «магистерства» в поименовании-титуле, то для характеристики Маргариты важно именно её имя, его значение в переводе с латинского. «Маргарита» – «жемчужина». То же имя носили королева Марго у А.Дюма, Гретхен у Гете, реальная Маргарита Наваррская (по свидетельству современников, женщина исключительной красоты, ума и образованности), ещё поэтому оно не случайно у Булгакова. Маргарита – идеал верной подруги, любящей женщины, жены художника, и сниженность её образа, по сравнению с образами классических литературных героинь Х1Х века (Татьяны Лариной, тургеневских девушек), – кажущаяся: и Воланд – не дьявол-искуситель, и служит Маргарита любви, как Мастер – духовности и культуре.
Воланд – не дьявол-искуситель? Тогда кто же он и каковы его функции в романе?
Он именуется в тексте романа «мессиром» и «Князем Тьмы». Чтобы понять смысл этой фигуры, надо продолжить цитирование гётевского текста, фрагмент которого послужил Булгакову эпиграфом к роману. Вот он (подстрочник перевода с немецкого):
«…так кто ж ты, наконец?
– Я – часть той силы,
что вечно хочет
зла и вечно совершает благо.
Гете, Фауст» (с.4).
У Гете в «Фаусте» далее следует (перевод М.Лозинского):
«А я – лишь части часть, которая была
В начале все той тьмы, что свет произвела,
Надменный свет, что спорить стал с рожденья
С могучей ночью, матерью творенья» (5, с.213).
Но князь (на Западе – принц, один из высших титулов родовитой знати) – особа весьма высокопоставленная. И хотя под именем Князя Тьмы известен в литературных источниках дьявол, после процитированного гётевского текста теряет смысл отождествление Воланда с сатаной, повелителем ада. В булгаковском контексте ад и тьма не тождественны, так же, как рай и свет. У Булгакова другая иерархия, в чём убеждает исследование его символики. И поэтому Воланд – не просто искуситель или правитель ада (кстати говоря, соблазнам москвичей подвергает вовсе не он, а его свита), его функции гораздо шире и состоят в ином. «Всесилен, всесилен!» – говорится о нём в романе. Он здесь – представитель «могучей ночи, матери творенья». По Библии, свет вторичен и создан Богом, тьма же вечна. Как и Создатель мира, Воланд обитает в Вечности, в первородной тьме, и ранг его определяется титулом «князь тьмы», он, этот ранг, очень высок, иначе властитель света не стал бы обращаться к нему с просьбой решить судьбу Мастера и Маргариты.
Почему же авторской волей герои награждаются всего лишь покоем, а не светом?
Потому, очевидно, что свет, по Булгакову, – не высшая награда для художника. Вспомним выражение «освещать что-либо»: можно ведь «освещать» светом истины, а можно – видя только найденное «под фонарем», т.е. поверхностно. В свете у Булгакова оказываются те, кто исповедует ясность, в том числе – и те, кто при этом нередко упрощает истинное положение вещей, делая его доступным своему рассудку: не только Иешуа («Злых людей нет на свете»), но и Левий Матвей, о котором его учитель говорит: «Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил» (с.17).
Свет – не пристанище для Мастера, ибо это Мастер изобразил не только Иешуа, но и его оппонентов, а, следовательно, понимал, что реальность устроена не совсем по разумению Иешуа, что, если Иешуа и прав, то человечество ещё долго будет идти к его истинам. Иешуа – хоть и «догадка», но одновременно и вымысел Мастера. Да Мастер и не праведник, и кумиров не имеет, и слепой верностью кому-либо не наделён. Зато при жизни ему, художнику, так не хватало творческого покоя! Он страдал, и это мешало его творческим возможностям, а его творение не могло прийти к читателю.
Маргарита не будет счастлива без любимого, и поэтому высшая справедливость предоставляет ей право разделить его участь.
Впереди у героев – бессмертие в Вечности. Известно, что, умирая, Булгаков говорил: «Мне мерещится иногда, что смерть – продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит. Но как-то происходит…» (1, с.479).
Однако финал свидетельствует, что оба героя, уходя в Вечность, обретают свою награду – покой – лишь после земной жизни. Несмотря на все их достоинства, им нет места в этой земной жизни. Им уготована Вечность, но на Земле их ждёт безвременная смерть. Этот финал – итог грустных размышлений автора о своей эпохе. Булгаков протянул сквозные нити человеческих судеб из одного социально-исторического времени в другое, через 1900 лет, и показал, что, по сути, ничего не изменилось в людях в лучшую сторону. Его Воланд задумчиво говорит о москвичах: «Ну что же <…>, они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… Квартирный вопрос только испортил их» (с.99).
Как всесильный Князь Тьмы Воланд мог бы вмешаться в ход событий: устранив, например, политическое руководство советского государства, изменить строй в СССР, установить справедливость для Мастера и Маргариты ещё на земле. Булгаковской волей он не делает этого, так как Булгаков – сторонник Великой Эволюции, а не насильственного изменения социума, противник социальных экспериментов, считающий, что на пользу людям идет только то, что созрело в результате естественного хода вещей.
В.Виленкин вспоминал о чтении Булгаковым его романа друзьям: «Иногда напряжение становилось чрезмерным, его трудно было выдержать. Помню, что когда он кончил читать, мы долго молчали, чувствуя себя словно разбитыми. И далеко не сразу дошел до меня философский и нравственный смысл этого поразительного произведения…» (1, с.461).
И все-таки роман не оставляет по себе тягостного впечатления. Причиной тому – удивительное мастерство писателя, полёт его фантазии, необычайный лиризм, в каждой строке присутствующий гений светлого художника. «Читая дневники, письма и мемуары Булгакова и о Булгакове, невозможно представить себе, как могла состояться эта рукопись… Затравленный, униженный властями и коллегами, задолго до смерти поставивший сам себе смертельный диагноз – как он мог написать роман-симфонию, роман-театр, роман-поэму? Откуда такая могучая раскованность духа, на две сотни листов продлившая пушкинское «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю»!» (6, с.12).
«В «жестокий век», в кровавую эпоху Булгаков сочинял то, в чём мир нуждается всегда – страшную, но добрую сказку, утопию индивидуального спасения, книгу о любви и верности, которые обязательно вознаграждаются, о совести, которая непременно пробуждается и вершит свой суд, о неистребимости добра, которому вынуждено служить даже высшее зло, о силе и бессмертии слова, сказанного слабым и смертным человеком. «Все будет правильно, на этом построен мир».
Вполне в духе большой классики – «закатный» роман М.Булгакова стал сразу всем. Мифом. Мистерией. Новым евангельским апокрифом. Московской легендой. Сатирическим обозрением. Историей любви. Романом воспитания. Философской притчей. Метароманом. Книгой, написанной в той форме, в какой она только и могла быть написана. Как «Мертвые души», «История одного города», «Бесы», «Война и мир».» (2, с 485).
И именно эти качества делают роман «Мастер и Маргарита» романом на все времена. Его не надо привязывать к эпохе 20-х – 30-х годов ХХ века, вообще не надо прочно привязывать к советской эпохе, несмотря на содержащуюся в романе авторскую критику конкретного социального времени. Да, с 1929 года доныне прошло 90 лет. Но что изменилось в жизни? Политический режим? Является ли этот фактор важнейшим фактором социального воспитания? А что изменилось в людях? Давайте представим булгаковского Воланда в нашей современности, наблюдающего за нами с целью характеристики (как когда-то в Москве рубежа 20-х – 30-х годов ХХ века), и зададимся вопросами, тревожившими еще Достоевского, – о человеческой природе, о мотивах и следствиях наших поступков… И избави нас Боже от гордыни и неадекватной самооценки. А вот проблему нравственных ориентиров писатель Михаил Булгаков с полным на то основанием поставил и рассмотрел как «вечную», а следовательно, и весьма актуальную – и ныне, и в будущем…
Цитированная литература:
- Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. – М.: Книга, 1988
- Сухих И.Н. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова: роман-лабиринт// Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой работы. – М., СПб: Высшая школа, «Logos», 2002
- Соколов Б. Булгаковская энциклопедия. – М.: Локид; Миф, 1996
- Булгаков М. Мастер и Маргарита. Театральный роман. Рассказы. – Алма-Ата: Жалын, 1988
- Гёте И.В. Избранное. – М.: ГИДЛ, 1963
- Смехов В. Театр на Таганке в лагере полустрогого режима // Литературная газета, 2001, № 7
[1] В дальнейшем текст романа «Мастер и Маргарита» будет цитироваться по данному, названному в примечаниях, изданию, и в скобках будут лишь указываться номера страниц. Мой курсив в булгаковском тексте специально оговариваться не будет. – Л.Я.
© Copyright: Лина Яковлева, 25 мая 2019
Регистрационный номер № 000276166
| Мастер и Маргарита | |
|---|---|
| Мастер и Маргарита | |
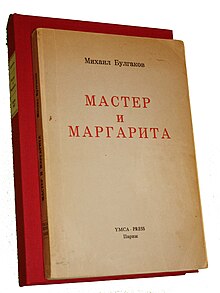 |
|
| Жанр | роман |
| Автор | Михаил Булгаков |
| Язык оригинала | русский |
| Дата написания | 1928—1940 |
| Дата первой публикации | 1966—1967 |
«Мастер и Маргарита» — роман писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—1940), считающийся вершиной его творчества и одним из самых популярных произведений русской литературы.
Сюжет и описание романа
В произведении нашли своё отражение современные М. А. Булгакову политические и культурные события: борьба с религией, доносительство, шпиономания, травля писателя в прессе, запрет на публикацию произведений. Фабула романа раскрывается в посещении дьяволом (Воландом) и его свитой Москвы 1920-х годов и в последующем изображении пороков как обыкновенных москвичей, так и представителей творческой интеллигенции. Визит дьявола в столицу становится судьбоносным для одного писателя (Мастера) и его любимой (Маргариты). Последняя заключает сделку с дьяволом, чтобы ей вернули её Мастера. Возвращенный к Маргарите, Мастер соглашается с предложением Воланда завершить свой роман о Понтии Пилате, страдающего от ненавистного ему «бессмертия» за казнь неповинного человека (Иешуа Га-Ноцри). Освободив своего героя от страданий, Мастер с Маргаритой удаляются в предоставленный им «покой».
Переплетение в сюжете философской, нравственной, любовной, творческой, сатирической линий создаёт многоплановость произведения и осуществляется автором с использованием художественного приёма «роман в романе»: в современных «московских» главах повествователь рассказывает о писателе, который пишет роман о прокураторе Понтии Пилате, а древние «ершалаимские» главы о жизни прокуратора становятся причиной разворачивающихся событий в современном писателю мире. Соотнесенность «московских» и «ершалаимских» глав утверждает значимость ответственности человека за добро и зло в мире и вечность нравственной проблематики, формы выражения которой стали крылатыми: «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!». «Трусость — самый страшный человеческий порок». «Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые». «Рукописи не горят».
Созданная обилием диалогов видимая легкость чтения романа М. А. Булгакова скрывает сложнейшую организацию повествования. Поэтому многочисленные энтузиасты изучения романа «Мастер и Маргарита», исследователи и учёные демонстрируют понимание произведения через его «расшифровку»[1], поиск «ключей»[2]. На основе анализа пространственно-временной структуры текста, выполняемых функциях персонажей делается вывод о принципе «троичности»[3]. в организации романа «Мастер и Маргарита». Восприятие романа М. А. Булгакова в контексте связей с мировой и русской литературой позволяет открыть универсальные смыслы ключевых образов[4] и событий в произведении. Полемичность авторского замысла передаётся трансформацией библейского сюжета[5] о Христе, в логике раскрытия которого в романе оказываются не противопоставлены, а взаимосвязаны добро и зло как свет и тень. Творческая установка М. А. Булгакова в своём последнем, «закатном», романе на многозначность и отказ от однозначной категоричности предопределил повышенное внимание к роману «Мастер и Маргарита» в XXI веке с его культурной доминантой многополярного мира[6].
Примечания
- ↑ [1]
- ↑ Астахин Л. В. О загадках и тайнах нераскрытых ещё в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
- ↑ Борис Соколов. Булгаков. Энциклопедия
- ↑ Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. — 1994
- ↑ Мастер и Маргарита: За Христа или против?
- ↑ Посадский А. В. Культурфилософские основы теории многополярного мира//Культура и мир. Сборник статей по материалам Международного научного форума 7-8 октября 2008 года. Издательство «СПбКО», Санкт-Петербург, 2009.
Мариэтта Омаровна Чудакова
О «закатном романе» Михаила Булгакова. История создания и первой публикации романа «Мастер и Маргарита»
© ГБУК г. Москвы «Музей М.А. Булгакова»
© Текст. Чудакова М.О., 2017
* * *

1928 г.
НИОР РГБ. Ф. 562. К. 6. Д. 1.
I. «Мастер и Маргарита» до Мастера и Маргариты
«…Что поведать человечеству?»
В неоконченном романе «Записки покойника» Булгаков рассказывает (довольно близко к реальным обстоятельствам) историю писания и печатания своего первого романа – «Белая гвардия».
А затем в рукописи «Записок покойника» появляются такие слова: «Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело…» И тут же объявлено о главном препятствии: «…В том-то вся и соль, что я решительно не знал, о чем этот второй роман должен был быть? Что поведать человечеству? Вот в чем беда».
Смысл этого обращенного к себе вопроса многосоставен и близок к поискам квадратуры круга – автор ищет тему, безусловно для него самого важную, а в то же время способную преодолеть цензурные преграды…
К тому времени, как пишутся эти строки, автор уже прекрасно знает, «о чем» этот второй роман: не более и не менее, как о Боге и о Дьяволе[1].

НИОР РГБ. Ф. 562. К. 5. Д. 3.
В конце тетради с обрывками первой редакции романа (о ситуации возникновения обрывков – далее) – страницы под названием «Материал». Среди них – специальные листы, так и озаглавленные: «О Боге» и «О Дьяволе». Если иметь в виду, что авторская работа в этой тетради идет в 1928 году, на одиннадцатом году советской власти, то вполне можно понять тон разговора Воланда с извлеченным им из клиники Стравинского Мастером о его романе:
– О чем роман?
– Роман о Понтии Пилате.
‹…› Воланд рассмеялся громовым образом ‹…›
– О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? (курсив наш. – М. Ч.).
Тема была, что и говорить, неподходящая для советской печати. Но именно ее Булгаков выбрал для своего второго романа в 1928 году. Это было не менее, если не более смело, чем назвать в 1923 году свой первый роман – «Белая гвардия».
Напомним: в двадцатые годы продолжалась богатейшая жизнь идей русского романа второй половины XIX века, в первую очередь романа Достоевского с напряженным размышлением его героев о Бытии Божием. Сверялись часы тогдашних литераторов с часами нового исторического бытия. Совершалось это на фоне активного вытеснения всей философско-художественной проблематики конца XIX – начала XX веков в печатной советской литературе. Это сообщило творческой мысли особую напряженность.
От работы Булгакова тех лет остались две тетради с вырванными (наполовину или на две трети) исписанными листами. Когда я осенью 1969 года спросила Е. С. Булгакову, что это за странные тетрадки, она сказала, что это ранние редакции романа «Мастер и Маргарита».
– Но почему они в таком виде?
– В марте 1930 года Миша диктовал мне свое письмо Правительству СССР, я печатала его на машинке. Продиктовав строки «…И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе…», он остановился и сказал: «Ну, раз это уже написано – это должно быть и сделано. Но если я сожгу все, мне никто не поверит, что роман был». В комнате пылала большая круглая печка. Он стал тут же выдирать страницы и бросать их в печь…
Год спустя, летом 1970 года, Е. С. Булгакова скоропостижно скончалась. Я обрабатывала переданный ею в Отдел рукописей главной библиотеки страны (тогдашней Государственной библиотеки им. Ленина) архив писателя – и очередь дошла до двух тетрадок с оторванными страницами и еще пучком таких же обрывков из третьей (не сохраненной автором) тетради. Мне пришлось заново сосредоточиться на вопросе, действительно ли это рукопись ранней редакции романа о Мастере. Потому что тогда надо было написать на обложке (в которую заключается в архивохранилищах рукопись) своей рукой: «[“Мастер и Маргарита” – роман]. Ранняя редакция».
А это, как всякому понятно, совсем другая мера ответственности.
Мне надо было убедиться, что это действительно так. Я стала вглядываться в оборванные строки.
Да, в первой же главе мелькало имя Берлиоза. Только звали его Владимиром Мироновичем. А беседовал он на Патриарших прудах с Антошей Безродным, который постепенно стал Иванушкой Поповым, потом – Иванушкой Безродным. В их разговор вторгался странный иностранец.

11 НИОР РГБ. Ф. 562. К. 19. Д. 30.

1928 г.
НИОР РГБ. Ф. 562. К. 6. Д. 1.
Я посчитала количество букв в уцелевших фрагментах и стала дописывать строки, имея в виду предполагаемое число знаков. И часа через четыре поняла, что занимаюсь реконструкцией сожженной рукописи.
Реконструкция ранней редакции романа
Были обстоятельства, способствовавшие успеху.
Во-первых, разборчивый и довольно крупный почерк автора, очень редкие вписывания на полях, четкие концы строк, не сползающих на краю страницы вниз – как следствие, сравнительно малое количество текста на строке. Во-вторых, в арсенале речевых средств Булгакова немалое место принадлежит излюбленным словам и оборотам речи, причем для описания близких ситуаций привлекаются повторяющиеся слова и выражения[2]: можно говорить о довольно большой предсказуемости булгаковского текста. В-третьих, во многих случаях (особенно в реконструкции второй главы) сами евангельские и апокрифические тексты, использованные Булгаковым, помогали нашим догадкам. В течение двух лет были восстановлены 300 страниц сожженного текста.
Глава первая кончалась тем, что иностранец просил Берлиоза и Иванушку, в доказательство их неверия, наступить на изображение Христа, нарисованное Иванушкой на песке.
Глава вторая, сначала называвшаяся «Евангелие от Воланда», а затем «Евангелие от дьявола», начиналась рассказом иностранца об Иисусе (автор еще колеблется в передаче имени Христа: «Иисус», «Е[шуа]», «Иешуа»). Разговор Иешуа с прокуратором, приговор и казнь, занимавшие в окончательной редакции четыре главы, здесь уместились в одной – второй – главе, на 17 листах тетради. В нее вошли при этом несколько евангельских эпизодов, а также эпизодов, заимствованных, как мы установили, из апокрифических сказаний о Христе, в поздних редакциях исчезнувших (история Вероники, утершей Христу платком кровавый пот со лба во время восшествия на Голгофу, описанного здесь гораздо подробнее, чем впоследствии; сапожник, помогающий изнемогшему Христу нести крест).
Важная особенность первоначальной редакции, имеющая отношение к изменениям структуры романа, – отсутствие той резкой отделенности новозаветного материала от современного, которая свойственна последней редакции, где, как помнят внимательные читатели, Воланд произносит только начальные и конечные фразы. А вся история Иешуа и Пилата выделена в особую главу, построенную в форме внеличного повествования, без всяких следов чьего-либо устного рассказа. В последней же редакции, напротив, Воланд все время сохраняет позицию рассказчика, а Берлиоз и Иванушка перебивают его рассказ своими репликами. Воланд выступает как живой очевидец событий, и не раз напоминает об этом.
В третьей главе, озаглавленной «Доказательство инженера», Иванушка, взбешенный издевками Воланда, назвавшего его «интеллигентом» («[Я – интеллигент?] – прохрипел он, – [я – интеллигент? – заво]пил он с таким [видом, словно Вола]нд назвал его [по меньшей мере суки]ным сыном…»), стирает «скороходовским сапогом» (производства фабрики «Скороход») лик Христа на песке – и тогда разворачивается картина гибели Берлиоза с гораздо большим количеством страшных подробностей катастрофы, чем в поздних редакциях. Глава четвертая, «На вед[ьминой квартире]», рассказывала о «знаменитой поэтессе» Степаниде Афанасьевне, которая «проживала [в большой благоустро] енной квартире [вдвоем с мужем невроп]атологом… Страдая какими[-то болями в] левой лодыжке, [Степанида Афанасьевн]а делила свое [время между ло] жем и телефоном». Она-то и разнесла по Москве весть о гибели Берлиоза со своими версиями о ее причине и обстоятельствах. В конце главы в рассказ вступал повествователь и подвергал ее версии критике:
«Если б моя воля, в[зял бы я Степаниду да] помелом по морде… Но, увы, нет в этом [надобности – Степа] нида неизвестно г[де и вероятнее всего] ее убили». В последующих главах героиня эта больше не появлялась, а в дальнейшем исчезла из романа. В главе пятой «Интермедия в [Шалаше Грибоедова]» изображалось появление Иванушки в ресторане дома Грибоедова и последующая сцена в психиатрической лечебнице – близко в основных чертах к окончательной редакции. Зато конец этой главы ни в каких редакциях романа более не встречается: ночью два дежурных санитара психиатрической больницы видят в больничном саду огромного («в шесть аршин») черного пуделя; одному из санитаров кажется, что пудель этот прыгнул из больничного окна. Пудель воет в саду; затем он устремил морду «к окнам больниц[ы…], обвел их глазами, [полными боли], как будто его му[чили в этих стенах], и покатил [перегоняя свою] тень…» (л. 84). Как выяснится впоследствии, в девятой главе, в эту ночь из лечебницы бежал Иванушка Бездомный – по-видимому, в облике этого черного пуделя, явственно связанного с «Фаустом» (в печатной редакции романа этот литературно-знаменитый пудель остался только в виде украшения на трости Воланда и на цепи, повешенной на грудь Маргарите). Глава шестая, «Марш фюнебр», дает неизвестный по другим редакциям вариант похорон Берлиоза: гроб везут на колеснице, бежавший из лечебницы Иванушка «отбивает» гроб с телом друга у похоронной процессии, вскакивает вместо кучера, бешено настегивает лошадь, за ним гонится милиция… Наконец на Крымском мосту колесница вместе с гробом обрушивается в Москву-реку (во второй редакции романа, оборванной на первых главах, Берлиоз резонно предполагает, что его после смерти сожгут в крематории, а «инженер» возражает: «Как раз наоборот, вы будете в воде. – Утону? – спросил Берлиоз. – Нет, – сказал инженер»). Иванушка успевает свалиться с козел прежде, остается жив, и в девятой главе газеты сообщают, что он возвращен в лечебницу.
В седьмой главе председатель жилищного товарищества дома № 210 по Садовой улице Никодим Гаврилыч Поротый (будущий Никанор Иванович Босой) утром обнаруживает в своем бумажнике большую сумму денег и, перебирая в уме подробности вчерашнего вечера, лихорадочно размышляет, не обворовал ли он кого накануне. Глава оставлена недописанной.
В восьмой главе излагается утренний разговор директора Варьете Гараси Педулаева (будущего Степы Лиходеева) с Воландом, явившимся к нему на квартиру и демонстрирующим по ходу дела несколько трюков. И Гарася оказывается вдруг над крышей своего дома и после кратковременного полета видит «громоздя[щуюся высоко в небе] тяжелую [гору с плоской как] стол вершиной». Потрясенный Гарася узнает, что он – во Владикавказе…
Глава девятая (без названия) описывает контору Варьете перед сеансом Воланда и впечатление, произведенное на помощников Гараси Педулаева его телеграммами из Владикавказа: «Христом-Богом-Г[осподом прошу спасти] погибаю Педулаев». В реконструированной нами редакции они еще не Варенуха и Римский, а Цупилиоти и Нютон. В каждой новой главе, а иногда и на разных страницах одной главы, Цупилиоти становился то Суковским, то Библейским, то Робинским, а Нютон (будущий Варенуха) – Нутоном, Картоном, Благовестом…
Глава десятая (без названия) – вечер в Варьете; ведет его конферансье (будущий Жорж Бенгальский) Осип Григорьевич Благовест: «[лицо у него] было бабье [… без] бороды»; появление его «[было встречено уг]рюмым и недове[рчивым молчанием] всего зала».
Именно ему во время сеанса (по ходу которого разоблачалось неприглядное прошлое Нютона, никому до этого неизвестное) Воланд собственноручно (в отличие от более поздних редакций, Воланд выступает здесь один) «повер[нул голову]» и выдернул ее «[как] пробку из б[утылки…]». Цупилиоти и Нютон между тем продолжают принимать телеграммы из Владикавказа от Педулаева («Комнате обыщите пол, найдите оск[олки рюмки капусту»] и, теряя голову, шлют ответные: «Осколков нету»…
Наиболее сложную задачу представляла реконструкция одиннадцатой главы, важнейшей для понимания очертаний замысла романа в 1928–1929 годах.
Там появляется весьма интересный герой, не встречающийся в последующих редакциях романа.
Знаток демонологии феся
От названия главы уцелел такой фрагмент:
«…ое эрудиция». По нему я восстановила полное название: «[Что так]ое эрудиция».
Герой, фигурирующий в романе под детским именем Феся[3], получил замечательное домашнее образование, затем в четырнадцать лет уехал с матерью, гувернером и экономкой в Италию, где прожил два года, выучился говорить по-итальянски, экзаменовался и в семнадцать лет получил аттестат зрелости. Мать, после совета со знакомыми «и, по зрелому раз[мышлению, решила отдать его] в лоно Истор[ико-филологического факультета Московского университета. Она] угадала чре[звычайно точно. У Феси] оказались нео[быкновенные…] способности [к истории. К тому же вос]питание, […] расширенны[й кругозор и] хорошее зн[ание языков сыграли] свою роль [и уже на втором] курсе Фес[я привел в состояние] восторга» профессора, подав ему свою работу «Категории причинности и каузальная связь».
Феся становится профессором и, среди прочего, много занимается трудами средневековых ученых по демономании. Феся женится на урожденной графине Ковской. Она по утрам в амазонке уезжала кататься на лошадях, а Феся, боявшийся лошадей, в это время писал диссертацию «Эстетическое сознание раннего Rinascimento».
Перечислив разнообразные темы его занятий, главным образом по истории средневековья, автор заключал, что «[Феся обладал поистине] феноменальной [эрудицией]». Далее речь идет о видении какого-то шабаша, посетившем Фесю в результате его демонологических занятий. Несомненна связь этого героя с той ролью, которая в эпилоге последней редакции романа была уготована Ивану Николаевичу Поныреву – профессору Института истории и философии.
После революции Феся ушел (или был изгнан) с кафедры и стал преподавать. Феся был занят четыре раза в неделю: в понедельник в Хумате (Художественные мастерские) он читал популярный курс «Гуманистический критицизм как таковой», в среду должен был ехать в казармы дивизии, чтобы читать лекцию «Крестьянские войны в период реформации», по «постным дням» ехал в Академию изящных искусств, где вел курс «Секуляризация этики как науки», и где-то в четвертом месте выступал с докладом «Респленцитность формы и пропорциональность частей».
Так прошли десять лет, и Феся намеревался уже вернуться к «каузальной связи», как вдруг в одной «боевой газете» появилась «статья …[впрочем, называть ее автора н]ет нужды. [В ней говорилось, что некий] Трувер Рерю[кович (так! – М. Ч.), будучи в свое время] помещиком, [издевался над мужиками] в своем подмосковном имении, [а когда революция] лишила его имен[ия, он укрыл]ся от грома пра[ведного гнева в] Хумате…» И тут впервые мягкий и тихий Феся «[стукнул кула]ком по столу и [сказал (а я …] забыл предупр[едить, что по-русски он гово]рил плохо […] сильно карт[авя):]
– Этот р[азбойник, вероятно,] хочет моей [смерти!..]». И пояснил, что он не только не издевался над мужиками, но даже не видел их «[ни одной] штуки».
«И Феся ск[азал правду. Он дей]ствительн[о ни одного мужика] не видел р[ядом с собой.] Зимой [он сидел в Москве, в своем каби]нете, а [летом уезжал за границу] и не ви[дел никогда своего подмосковного] именья». Однажды он чуть было не поехал, но, решив сначала ознакомиться с русским народом по солидному источнику, прочел «Историю Пугачевского бунта» Пушкина, после чего ехать наотрез отказался, проявив неожиданную для него твердость. Однажды, впрочем, вернувшись домой, он гордо заявил, что видел …настоящего русского мужичка [Он] в Охотных рядах покупал капусты. В треухе. Но он не произвел на меня впечатление зверя.
Через некоторое время Феся развернул иллюстрированный журнал и увидел своего знакомого мужичка, правда, без треуха. Подпись под старичком была такая:
Граф Лев Николаевич Толстой.

Фотография предоставлена музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
Феся был потрясен.
– Клянусь Мадонной, – заметил он, – Россия необыкновенная страна! Графы в ней вылитые мужики!
Таким образом, Феся не солгал.
На этом глава оставлена – на середине страницы; лист с последними одиннадцатью строками, к счастью, уцелел полностью. Очевидно, какой важный для понимания первоначального замысла романа материал содержала эта глава.
Последующие три главы сохранились полностью: глава двенадцатая «Разговор по душам» (допрос Поротого относительно денег); глава тринадцатая, «Якобы деньги», где описаны разнообразные махинации с фальшивыми деньгами (много подробнее, чем впоследствии), визит буфетчика к Воланду и их беседа, узловые моменты которой (несвежая осетрина в буфете Варьете, «угадывание» накопленной буфетчиком суммы денег и отмеренного ему срока жизни) остались в романе до последних его редакций; глава четырнадцатая, «Мудрецы» (первоначально «Происшествия продолжаются»), рисовала разнообразные мистификации двух теряющих уже рассудок помощников Педулаева в конторе Варьете (новые телеграммы от Гараси и пр.). Пятнадцатая глава не имела названия; она начиналась тем, как Робинский и Благовест, в поисках спасения от ставшего наконец очевидным для них действия грозной сверхъестественной силы, не сговариваясь, оказываются в очереди на оформление заграничных поездок. На этом обрывалась глава, занимавшая две страницы, и с нею – первая редакция.

Из коллекции Музея М. А. Булгакова
Феся – предшественник мастера
Самое главное, пожалуй, что помогла узнать реконструкция редакции 1928–1929 годов, – в романе на этом этапе развития замысла не было ни Мастера, ни Маргариты. Можно было бы предполагать (и осторожность источниковеда оставила нас в 1976 году в границах этого предположения), что их нет только в дошедших до нас пятнадцати главах. Но вскоре нам стало ясно, что этих героев нет еще и в самом замысле романа. Почему? Да потому что Мастер появляется в поздних редакциях в том самом месте романа, из которого исчезает Феся…
Каковы же были границы замысла романа в работе над первоначальной его редакцией?
Автор несомненно предполагал использовать Фесю для встреч с Воландом – как носителя подлинной эрудиции (в противовес Берлиозу – носителю поверхностной эрудиции, годящейся главным образом для нужд атеистической пропаганды). В 1929 году роман получил название «Копыто инженера».
История Иешуа и Пилата рассказывалась только Воландом – очевидцем события и умещалась в одной главе.
Две линии творческой работы
Творческая работа Булгакова шла в двадцатые годы по двум параллельным руслам (особое место занимал материал Гражданской войны – в «Белой гвардии» и в нескольких рассказах).

Из коллекции Музея М. А. Булгакова
Первое было прорыто еще в самом начале литературной работы. Олитературивание своей биографии: как только определенный биографический период завершался, он по горячим следам описывался, причем обычно в форме записок, то есть хронологически последовательно организованного повествования от первого лица. Второе направление имело в виду гротескное изображение современности – в повестях, написанных вне автобиографической подоплеки, с повествованием в третьем лице, с непременным присутствием героя с чертами интеллектуального и личностного всемогущества («Роковые яйца»). Он вершит суд и расправу над теми, кто воплощает худшее, что есть в новой России («Собачье сердце»).
Итак, либо рассказ повествователя, близкого к автору, о собственных злоключениях, с подчеркнутой свободой от вымысла и гротеска, либо установка на вымысел (с элементами фантастики и гротеска), схватывающий самую суть современности (человекопес Шариков, объявляющий себя «трудовым элементом»). Роман «Копыто инженера» был начат в 1928 году как продолжение линии гротеска. В центре романа был Сатана в Москве, легко справлявшийся с теми силами нового быта, с которыми не могли справиться их жертвы. Воланд, гиперболизировавший линию Персикова – Преображенского, персонифицировал уже предельное всемогущество, потребное автору для выражения победительного (органичного для Булгакова) взгляда на враждебную ему современность.
Письмо правительству СССР И телефонный разговор со Сталиным
В конце марта 1930 года Булгаков написал обширное письмо Правительству. В начале апреля они вместе с Е. С. Шиловской разнесли его по семи адресам – и стали ждать ответа от кого-либо. Булгаков сказал возлюбленной, что, если никто ему не ответит, он покончит с собой. Пистолет был приготовлен.
Письмо было весьма резким в советских условиях. «… Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати.
Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если бы кто-либо из писателей задумывал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода».
Обращаясь к «гуманности советской власти», автор письма просил: «…меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу» (эти слова – «на свободу» – были для главного адресата, пожалуй, особенно убийственными – было прямо заявлено, что в СССР нет свободы).
Во внезапном для Булгакова телефонном разговоре со Сталиным 18 марта 1930 года писатель, ошеломленный неожиданным звонком и коварной формулировкой первого же вопроса («…Отпустить Вас за границу? …Очень мы вам надоели?» – курсив наш), отказался от своей просьбы об отъезде. Скорей всего это произошло под влиянием «припадка нежданной, налетевшей как обморок робости», который он «проклинает» год спустя в письме П. С. Попову от 14 апреля 1932 года.
Оказавшись от своей просьбы (ради которой писалось все письмо), Булгаков отдал себя в руки того, кто к этому времени уже был неограниченным властелином страны и судеб всех ее жителей. И быстро увидел, что не получил ничего (кроме зарплаты сотрудника МХАТа) взамен: ни одна пьеса его не вернулась на сцену, ни одна строка не печаталась.
Разговор и последующие размышления над своим «разбитым корытом» стали поворотной точкой не только в биографии, но, как вскоре выяснилось, и в творчестве Булгакова.
II. Перемена замысла: новые герои входят в роман
В 1930–1931 годах произошла существенная перестройка замысла второго романа: в него вошла автобиографическая тема вместе с новыми героем и героиней.
Воспользовавшись замыслом и черновыми главами брошенного романа о Боге и Дьяволе как каркасом, Булгаков включил в него тему художника и власти, созревшую в 1929–1930 годах и формировавшуюся в письмах правительству, исповедальном повествовании «Тайному другу» и пьесе о Мольере (погубленном «кабалой святош»).
Теперь он пишет роман о трагической судьбе художника – с проекцией на свою биографию.
Две линии творчества соединились
Сложившаяся прежде линия Иешуа и Воланда соприкоснулась с глубоко личной темой – и дала ток высокого напряжения. который и определил будущий успех романа. Новые герои наметились в набросках 1931 года и вошли в роман в третьей (первой полной, по нашей схеме) редакции романа (1932–1936). Новая героиня намечена одной, но характерной ремаркой в первой тетради 1931 года («Маргарита заговорила страстно») и единственной репликой в другой. Мастер первоначально именовался «поэтом» (так Белинский в своих статьях, несомненно известных Булгакову, называл высоко оцененного им молодого Гоголя). Новый герой появлялся в романе композиционно на том самом месте, на котором находилась в ранней редакции глава об эрудите Фесе: автор как бы вынул из ячейки одного героя и вставил на его место другого…

НИОР РГБ Ф. 562. К. 5. Д. 2.
Работа над романом включалась в биографию самого автора. Очертания романа воздействовали на осмысление автором собственных поступков. История Иешуа и Пилата подсказывала мысль о необратимости роковых шагов. Воланд, получив новую сюжетную функцию, подсказанную разговором со Сталиным (теперь он принимает участие в судьбе нового героя – Мастера), усиливал, возможно, у самого автора ощущение непоправимости совершенного им биографического шага. Отказ от просьбы об отъезде все более и более получал значение сделки с тем, кто год от году все масштабнее вершил суд и расправу над своими все более бесправными подданными.
В 1932 году автор вернулся к роману. Осенью того года он и Е. С. Шиловская соединили свои судьбы. Во второй половине октября, рассказывала нам Е. С., в гостинице «Астория» в Ленинграде Булгаков, находившийся на подъеме, сказал ей, что хочет вернуться к давно оставленному роману. Она возразила: «Но ведь черновики твои в Москве?..» – и услышала в ответ: «Я все помню».
Такова была особенность его творческой работы.
Но последовательная работа над романом могла начаться лишь тогда, когда был закончен (и отвергнут редакцией новооткрытой серии «Жизнь замечательных людей») роман о Мольере, то есть после весны 1933 года.
К 16 ноября 1933 года написаны 506 страниц – три с половиной толстых тетради. Третья (первая полная) редакция романа почти буквально возрождалась из пепла. Теперь история Иешуа и Пилата разбивалась на части, перемежаясь другими звеньями фабулы.
Прочертилась новая фабульная линия, намеченная в набросках 1931 года, – линия тайных любовников, Фауста и Маргариты (так названы они в «Разметке глав романа» 6 октября 1933 года).

НИОР РГБ Ф. 562. К. 6. Д. 5.

НИОР РГБ Ф. 562. К. 7. Д. 7.
Воланд, получивший в романе новую сюжетную функцию (она была подсказана автору его телефонным разговором со Сталиным), теперь принимал прямое участие в судьбе нового героя – Мастера. Он усиливал, возможно, у самого автора ощущение непоправимости совершенного им в разговоре биографического шага: его отказ от собственной просьбы об отъезде все более и более приобретал значение сделки с тем, кто год от году все масштабнее вершил суд и расправу над своими все более бесправными подданными.
В октябре 1934 года начерно написана последняя глава («Последний путь»). И далее, с поздней осени 1934 года до лета 1936-го, все время занятый другими, главным образом драматургическими работами (с весны 1933 года, с работы над пьесой «Блаженство», начался второй театральный период в творческой жизни Булгакова), урывками, с большими перерывами, писатель делает обширные дополнения к роману и переписывает отдельные главы.
30 октября 1934 года на первом листе одной из тетрадей сделана запись: «Дописать раньше чем умереть!». Роман все больше приобретает значение особого, важнейшего сочинения.
Определилось именование главного героя, вошедшее впоследствии в название романа. После того, как 17 ноября 1934 года Ахматова пересказала Булгакову телефонный разговор Сталина с Пастернаком (нашу расшифровку дневниковой записи Е. С. Булгаковой об этом см. ЖМБ, с. 543) и фразу Сталина о Мандельштаме «Но ведь он же мастер, мастер?», именование, витавшее до сих пор в рукописях романа (а также и в романе о Мольере) лишь в обращениях к герою, теперь (именно после рассказа Ахматовой) обозначилось как его автоименование («…собственно, только один человек знает, что он мастер…»). После второй «театральной» катастрофы весной 1936 года, когда после долгожданной премьеры «Мольера» все его пьесы вновь были сняты и со сцены, и с репетиций, Булгаков – также вновь – обратился к жанру записок, жанру биографических итогов. Он работает над ним и в этом, и в следующем году. С осени 1936 года он служит в Большом театре, регулярно пишет оперные либретто. Но ни одна опера по ним так и не будет поставлена. Его творческая жизнь остановлена.

НИОР РГБ Ф. 562. К. 64. Д. 2.
Его жена 5 октября 1937 года записывает в дневник:
«Я в ужасе от всего этого. ‹…› Надо писать письмо наверх. Но это страшно», а 23 октября – «Это ужасно – работать над либретто. Выправить роман и представить». Представить означало на языке эпохи передать наверх, в высшие цензурующие инстанции. Эту мерцающую надежду автора на положительное решение его судьбы посредством романа подтверждают воспоминания А. Вулиса о словах Е. С. Булгаковой в их разговорах 1962 года: «Миша иногда говорил: “Вот вручу ему роман – и назавтра, представляешь, все изменится”». Верил ли он сам в такую возможность? Поклонники Булгакова постоянно задают мне этот вопрос.

НИОР РГБ Ф. 562. К. 64. Д. 2.
Настроение автора вибрировало. Завершая летом 1938 года диктовку редакции, начатой осенью 1937 года, он уже вряд ли надеялся на прижизненную публикацию романа. Это видно из его письма от 14–15 июня 1938 года жене, жившей летом с детьми в Лебедяни: «Если буду здоров, скоро переписка закончится.
Останется самое важное – корректура (авторская), большая, сложная ‹…›. “Что будет?” – ты спрашиваешь. Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего. ‹…›
Свой суд над этой вещью я уже совершил и, если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика. ‹…› А буду ли я знать суд читателей, никому не известно».
«…Пилат летел к концу, к концу…»
Так или иначе, осенью 1937 года Булгаков совершает существеннейший для своей жизни выбор. Он отодвигает все остальные замыслы (которые все равно не доходили в последние годы ни до читателя, ни до зрителя), оставляет – и, как оказалось, навсегда – работу над «Записками покойника»: теперь все биографическое втягивается в другой роман, теряя черты событийности, застывая в некую эмблему художника.
Роман о мастере становится главным литературным делом и возможным средством развязывания всех биографических узлов. 12 ноября 1937 года Е. С. записывает в дневнике: «Вечером М. А. работал над “Мастером и Маргаритой”». Новое и окончательное название появляется и на титульном листе очередной тетрадки.

14–15 июня 1938 г.
НИОР РГБ. Ф. 562. К. 19. Д. 8.
В 1937 году роман дважды был начат заново. Это был обычный для Булгакова прием: если он считал, что нужна большая правка, – начинал всю работу заново, в чистой тетради…
С осени этого года автор уже не оставлял работу над ним. Шестая (вторая полная) редакция была закончена 22–23 мая 1938 года. 24 июня 1938 года была завершена перепечатка. Началась кропотливая авторская правка. Она продолжалась до последних дней жизни Булгакова. 13 февраля 1940 года, менее чем за месяц до смерти, он работал над романом последний раз.
Целый пласт деталей в «московских» главах рассчитан главным образом на советского читателя – соотечественника Булгакова. В любом произведении часть реалий угасает для позднейших читателей, но мы говорим о сознательных недоговоренностях автора. Когда Азазелло приглашает Маргариту к «одному очень знатному иностранцу», а она отвечает, что «портить жизнь» своему мужу считает «делом недостойным», то Азазелло прекрасно понимает «эту бессвязную речь», в подтексте которой – общение с иностранцами как проступок, портящий карьеру советского человека. Булгаков тщательно разрабатывает в романе тему «иностранца» и взаимоотношений с ним советских людей. Он связывает с этой темой мотив доносительства. Кроме него, почти никто из писателей 1930-х годов не попытался вывести это пронизавшее невидимыми нитями всю советскую жизнь явление на поверхность литературы.
Поведение Берлиоза и Ивана в первой сцене романа подчеркнуто окрашено ксенофобией. Иностранец, хорошо говорящий по-русски, вызывает равную настороженность и у невежественного Ивана Бездомного, и у «начитанного» Берлиоза – здесь они понимают друг друга с полуслова («…Он никакой не интурист, а шпион»). Автор романа демонстрирует ненависть к эмигрантам и шпиономанию, охватившие в те годы всю страну и также никем не описанные. Тонким иносказанием он дает понять мрачный смысл эпизодов: иностранец «Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а… как бы выразиться… заинтересовал, что ли». Это нарочитое авторское затруднение в выборе слов должно приковать внимание читателя и прояснить для него смысл сцены. «Интерес» Берлиоза к незнакомцу – это зловещее и весьма характерное для эпохи Большого террора настороженное внимание к «чужому», резко отличному от других человеку как к потенциальной жертве.

НИОР РГБ. Ф. 562. К. 63. Д. 44.
Ведь оба литератора вполне готовы к тому, чтобы задержать «заинтересовавшего» их «иностранца» («Спрашивай у него документы, а то уйдет…») – и отдать его на расправу ГПУ.
И потому развернувшаяся сразу вслед картина страшной гибели Берлиоза могла наводить читателя и на мысль о возможном возмездии за эту постоянную готовность к доносу. Ведь донос в те годы, как знал каждый читатель, вел к непременному аресту и вслед за ним – к весьма реальной гибели задержанного. В романе продемонстрировано и вполне безусловное возмездие – совершаемая на глазах у Маргариты казнь барона Майгеля.
Имя прозрачно намекало на «барона» Штейгера, постоянно сопровождавшего иностранцев в Москве, присутствовавшего на всех приемах в посольствах, на которых в 1935–1936 годах бывал Булгаков с женой.
К тому времени, когда дописывался роман, барон уже бесследно исчез в подвалах Лубянки. И Воланд нравоучительно объяснял в романе Майгелю в последние минуты его жизни смысл происходящего: «…разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности» и «злые языки уже уронили слово – наушник и шпион» – эвфемистическая замена табуированных в советском публичном быту, но употребляемых приватно слов «осведомитель», «сексот», «стукач».
Показан в романе и действительно «подозрительный» иностранец – «сиреневый джентльмен», неожиданно заговоривший в Торгсине по-русски… Цепочку «наушников» замыкает Алоизий Могарыч (Е. С. Булгакова называла мне имя его реального прототипа – переводчик Эммануил Жуховицкий, секретный – что ни для кого в московской среде не составляло секрета – сотрудник «органов», ими же в конце концов и расстрелянный и, по иронии судьбы, реабилитированный в 1990-е годы по моему запросу…).
В описании его зловещего участия в судьбе Мастера табуированное слово «донос» заменено подчеркнуто неподходящим (что и должно было послужить сигналом для читателя) словом «жалоба»: «Это вы ‹…› написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу?»
III. «Сатана там правит бал»
Кто же такой Воланд?
Возможно, в первоначальном замысле романа, во второй половине двадцатых годов, еще не было явной его проекции на конкретного властителя – скорее уж автор держал в воображении оперного Мефистофеля (опера Гуно «Фауст», которую в Киеве Булгаков слушал чуть ли не семнадцать раз). Но с декабря 1929 года, когда в связи с пятидесятилетием Сталина все газеты заполнились его именем, возникло то, что названо было впоследствии «культом личности»; немалую роль сыграло и то, что был побежден и удален с политической арены главный соперник Сталина – Троцкий. В 1930-е годы именно в руках Сталина сосредоточилась уже ничем не ограниченная власть над жизнями всех жителей страны. И, сохранив в дальнейших редакциях героя, главный признак которого – всемогущество, автор тем самым сделал выбор. В те годы – и с каждым месяцем все более – всякий читатель (а вернее, слушатель – автор читал его друзьям вслух, а рукопись не давал никому[4]) уже просто не мог, сталкиваясь со всемогущим существом, не думать о Сталине как его прототипе. И Булгаков ясно сознавал это, оставляя в центре романа Сатану, вершащего судьбы людей. При этом он хотел, чтобы читатели думали о Воланде в первую очередь независимо от его проекции на современность.
26 апреля 1939 года Булгаков начинает по рукописи читать роман нескольким добрым знакомым. На другой день Елена Сергеевна записывает в дневнике: «Впечатление громадное. “.. Миша спросил…: а кто такой Воланд?” Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не скажет[5]. Я предложила ему написать, я тоже напишу, и мы обменяемся. Сделали. Он написал:
Сатана. Я – дьявол».
Воланд чувствует себя хозяином в Москве. И хотя ни Маргарите, ни Мастеру он не причиняет зла, за этим его центральным положением стоит зловещий смысл.
Вдумаемся в эпиграф из «Фауста» Гете:
…Так кто ж ты, наконец?
– Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Нельзя не увидеть здесь глубокого авторского прочтения современности: дьявол уже здесь, среди нас, он уже «правит бал» (говоря словами либретто любимой оперы Булгакова). Диктатор советской России, в соответствии с дьявольской сутью, хочет зла – при этом именно от него в силу вещей в данной ситуации следует ожидать блага: Булгаков не в силах забыть ни личного разрешения Сталина на постановку «Дней Турбиных», ни его бесконечных посещений спектакля, ни телефонного звонка в апреле 1930 года в ситуации полной безнадежности и «трудоустройства» во МХАТ. Одна из современниц Булгакова в воспоминаниях о тридцатых годах свидетельствует, что, «хотя диктатора с такой полнотой страшной власти вряд ли можно было найти еще раз в мировой истории», тем не менее у многих было стойкое ощущение, что Сталин – «что-то вроде робота, за спиной которого кто-то стоит и им двигает». Когда после войны у нее об этом зашел разговор в Германии с известным русским философом Ф. А. Степуном, тот ответил очень серьезно, что она права: «…за Сталиным кто-то очень явно стоит, но это не какой-то другой человек или другие люди. За ним стоит дьявол»[6].
Роман как замена письма «наверх»
В конечном счете Булгаков надеялся, что рукопись романа попадет на стол непосредственно Сталину: она должна была заменить письмо, которое стало «страшно» писать (в тот год нередко после писем Сталину их авторы исчезали; как, впрочем, и те, кто не писал писем «наверх»).
И что же Сталин должен был вычитать в этом «письме»?
Булгаков играл ва-банк. Он надеялся, можно думать, что Сталину с его давно превзошедшим человеческие масштабы властолюбием идея всемогущества польстит – и заслонит рискованное уподобление Дьяволу.
И в Пилате была проекция на Сталина. В этом едва ли не центральном и, пожалуй, самом сложном герое романа можно было различить сочувствие сложному положению властителя, понимание драматизма его ситуации выбора – когда ради политики приходится отдавать на смерть человека, которому властитель в душе симпатизирует…
Все это весьма мало имело отношения к реальному Сталину (он не знал сочувствия к своим жертвам), но Булгаков об этом вряд ли подозревал. Выдающиеся люди искусства, чьей творческой жизни выпало страшное время, – Булгаков, Пастернак, Мандельштам – невольно судили о Сталине по себе, безмерно его переусложняя.
Считал ли Булгаков, что Сталин прочитает роман? Скорей всего – да. Он был уверен, что Сталину интересно его творчество, что он даже увлечен им (с чисто политическими целями все-таки вряд ли возможно смотреть «Дни Турбиных» 15–17 раз). В 1931 году (год, когда ломался после разговора со Сталиным замысел романа) Булгаков начал, но оставил на третьей строке письмо Сталину: «Около полутора лет прошло с тех пор, как я замолк. Теперь, когда я чувствую себя очень тяжело больным, мне хочется просить Вас стать моим первым читателем…». Весной того же года он написал и отправил большое письмо Сталину, но ответа не получил (хотя письмо дошло до адресата).
В недрах романа таилось еще одно «письмо» Сталину.
Работая над романом, Булгаков не только не мог забыть его специфического эпистолярного контекста – он не без наивности (как уясняется только ретроспективному взгляду) предполагал, что роман, попав на стол адресату писем, и для него окажется в том же эпистолярном контексте, будто бы живом и в его памяти…
Поэтому среди разных истолкований реплики Воланда «Рукописи не горят!» стоит иметь в виду и такое: фраза из письма 1930 года – «бросил в печку черновик романа о дьяволе…» – почти буквально повторена Мастером: «…Я сжег его в печке»; этой репликой адресату письма и романа навязывался высокий тон предполагаемого контакта. Какой же именно?
Булгаков полагал, что Сталин вспомнит письмо 1930 года с трагическими деталями сожжения творческих рукописей, а также и письмо 1931 года: «с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы»;
«писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам».
И вопрос Воланда: «А кто же будет писать? А мечтание, вдохновение?», и ответ Мастера: «У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет» – содержат, на наш взгляд, отсылку к письму. Изображая себя, покончившего с мечтаниями, автор, однако, самим наличием романа предъявлял себя же самого, исполненного вдохновения.
В романе идет разговор о литературе, не состоявшийся в жизни. Почти вульгарной, бытовой, выпадающей из стилевой ткани нотой звучит реплика Маргариты: «Позвольте мне с ним пошептаться». В текст романа инкорпорируется – как письмо, написанное особыми чернилами между строк книги, – сообщение со специальной адресацией: «…что-то пошептала ему. Слышно было, как он отвечал ей: – Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя».
Здесь зашифрован вторичный – спустя почти десять лет после застигнувшего автора романа врасплох телефонного звонка – отказ от просьбы об отъезде.
Теперь – отказ человека, многократно все передумавшего и разуверившегося в успехе каких бы то ни было своих писем и просьб.
В этой финальной сцене Маргарита берет на себя ответственность и инициативу, на долю Мастера оставляя только отказ: «Я нашептала ему самое соблазнительное, а он отказался от этого».
Мы полагаем, что это не могло быть написано вне контекста писем. В этих словах заключалось сообщение – больше никуда не прошусь; опоздано.
Не отрицалась, однако, соблазнительность неосуществленных мечтаний… И подсказкой судьбе, ее заклинанием звучали следующие реплики Воланда, посылаемые автором не только неведомому будущему читателю, но и вполне конкретному «первому читателю»: «…ваш роман вам принесет еще сюрпризы…
Ничего страшного уже не будет».
Главному адресату романа фигура всесильного духа зла, совершающего благо, должна была, повторим, импонировать. И все же возможное отождествление, надо думать, пугало автора. И поэтому вводится еще одна проекция – теперь на Иешуа.
«Он прочитал сочинение Мастера», – говорит Левий Матвей о Иешуа. «Ваш роман прочитали», – сообщает Мастеру Воланд. Навязчивая, колеблющаяся в процессе писания романа авторская мысль о чтении Сталиным романа как решающем судьбу и романа, и автора отрывается наконец от всякой прагматики. Факт чтения остается в романе – но он выводится за границу земной конкретности и передается в иной мир. Роман переадресовывается будущим читателям: время действия в эпилоге дано так, чтобы оно могло быть совмещено с любым временем будущего чтения.
Умирая при помощи Воланда, но по решению свыше, Мастер отправляется туда, где уже не он, а не властный над ним правитель (земная, государственная ипостась высшей демонической силы), жаждал встречи с тем, с кем когда-то недоговорил.
Кто такой мастер
Два равносильных варианта прочтения личности и судьбы Мастера предложены автором читателю романа.
Мастер, несомненно, alter ego, второе «я» автора.
Но эпилог, с его сильнейшим ощущением опустелости мира после того, как Мастер навсегда покидает Москву, подсказывает еще одно истолкование этой центральной фигуры романа: перед нами Второе Пришествие, оставшееся не узнанным москвичами[12].
Именно поэтому время остановилось. И Иван Понырев год за годом в одни и те же весенние дни и в одном и том же возрасте приходит на скамейку на Патриарших прудах. Повторяются календарные дни полнолуния, но Пасхи больше нет: это Пасха без Воскресения. Утрачена параллельность тех двух временных планов, связь между которыми осуществлялась творческой волей Мастера, но по наитию свыше. За пределы романа выведена та сила, которая порождала и формировала роман о Пилате, – и само земное бытие которой придавало происходящему черты события, вечной драмы христианского человечества, истории, протяженности. Теперь перед нами – дурная бесконечность, движение по кругу. «Продолжения» романа Мастера, который его автор советует писать Ивану, написать невозможно. «Все кончилось, и все кончается…» – эти последние слова Маргариты говорят о завершении какого-то цикла движения исторического времени, в пределы которого уложилась и творческая жизнь самого автора романа о Мастере.
После смерти автора
27 декабря 1940 года, через девять с лишним месяцев после смерти писателя, за двадцать шесть лет до публикации романа, его друг и биограф П. С. Попов, прочитав рукописный текст «Мастера и Маргариты», писал Е. С. Булгаковой:
…Я все под впечатлением романа. Прочел первую часть ‹…› Я даже не ждал такого блеска и разнообразия: все живет, все сплелось, все в движении… За всем следишь, как за подлинной реальностью, хотя основные элементы – фантастичны. Один из самых реальных персонажей – кот. Что ни скажет, как ни поведет лапой – рублем подарит.
‹…› Вторая часть для меня – откровение. ‹…› Ведь Маргарита Николаевна – это Вы, и самого себя Миша ввел ‹…›

НИОР РГБ. Ф. 562. К. 36. Д. 43.
Но вот, если хотите, – грустная сторона. Конечно, о печатании не может быть и речи. Идеология романа – жуткая, и ее не скроешь. Слишком велико мастерство, сквозь него все еще ярче проступает, кое-где не только не завуалировал, а поставил точки над «i». В этом отношении я бы сравнил с «Бесами» Достоевского ‹…› Меня «Бесы» тоже пленяют своими художественными красотами, но из песни слова не выкинешь – идеология крайняя. И у Миши так же резко. ‹…› В этом отношении чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гениальное мастерство всегда останется гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет 50–100.
Маргарита
В 1931 году, когда замысел романа резко меняется, в нем появляется в одной, но выразительной ремарке будущая героиня («Маргарита заговорила страстно»).
Прототипом ее становится тайная подруга, а затем жена писателя. Открытость прототипической связи заложена в окончательном заглавии – Мастер и Маргарита. Если Мастер позиционируется в романе как alter ego автора, тем самым обусловлена проекция Маргариты на близкую автору женщину.
От кого бы ни отталкивался Булгаков в начале работы – от Любови Белозерской (второй жены писателя) или красавицы Маргариты Смирновой, именем которой после кратковременной, по-видимому, связи в 1929 году он воспользовался, – во второй половине тридцатых годов и сам автор, и Елена Сергеевна Булгакова связывали заглавную героиню «Мастера и Маргариты» уже только с нею.
В конце 1960-х легенда о прототипе Маргариты интенсивно укреплялась – при содействии самой Е. С. Она говорила мне: «Однажды Миша, отойдя от стола с рукописью романа, сказал: “Ну и памятник тебе я вздул!”».
«В связи с этим романом многие друзья называли ее “Маргаритой”, и когда она однажды была в Будапеште, то газеты писали “Маргарита посетила Будапешт”, – писал племянник Е. С. Булгаковой Оттокар Нюрнберг в послесловии к немецкому изданию ее дневника. – Она рассказала нам также, что во время эвакуации в Ташкент встретилась в 1943 году с поэтессой Анной Ахматовой. Та написала стихотворение, в котором Елена названа колдуньей. Она весьма гордилась этим обстоятельством, и не без оснований». Понятно, что от «колдуньи» («В этой горнице колдунья / До меня жила одна») рукой подать до «ведьмы». Но что это за странный статус у возлюбленной Мастера?..

Первый ряд, слева направо, сидят: В. Полонская, А. Комиссаров, лежит А. Кузьмин, неизв. лицо, неизв. лицо, М. Титова, А. Андерс.
Стоят, слева направо: В. И. Никулин (инструктор), Н. Михаловская, М. Болдуман, А. Тарасова, М. Булгаков, Л. Белозерская, В. Станицын, И. Кисловская, А. Грибов, М. Яншин, М. Прудкин.
НИОР РГБ. Ф. 562. К. 63. Д. 38.
Маргарита, улетая из дому, наскоро пишет записку мужу: «…Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня…» (курсив мой – М. Ч.) – поскольку ради возможности узнать о судьбе Мастера начала якшаться с нечистой силой.
Это самоопределение повторяется и позже. После шабаша и бала висельников, у Воланда, когда там появляется доносчик Алоизий Могарыч:
Шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая:
– Знай ведьму, знай! – вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ногтями.
Что за странная ведьма становится заглавной героиней романа? Откуда эта двусмысленная атмосфера сцены Маргариты с Воландом (с последующим появлением Мастера)? Она всегда казалась мне никак не связанной с русской литературной традицией – пока неожиданно не всплыло в памяти:
Он знак подаст: и все хлопочут;
Он пьет: все пьют и все кричат;
Он засмеется: все хохочут;
Нахмурит брови: все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно…
Сон Татьяны в «Евгении Онегине». Во сне она приняла помощь медведя, имеющего в русском фольклоре двойную природу: и добрую, и враждебную людям. И Маргарита у Булгакова принимает помощь двойственных существ – Азазелло и Коровьева – тех, кто, принадлежа сфере демонической, могут тем не менее помогать каким-то выбранным ими самими людям.
Мое! сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг.
У Булгакова после того, как Воланд «поднес ей чашу и повелительно сказал: – Пей!» – «Толпы гостей стали терять свой облик. И фрачники, и женщины распались в прах».
Вслед за Пушкиным в романе Булгакова – тяготение к тому, кто представляет темные силы, опора на него.
Демонический образ Онегина из сна Татьяны в романе Булгакова раздваивается – на Воланда и Мастера.
Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
Ей на плечо…
И в романе Булгакова:
Воланд широко раскинулся на постели, был одет в ночную длинную рубашку ‹…› Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. ‹…› Он протянул руку и поманил к себе Маргариту. Та подошла, не чувствуя пола под босыми ногами. Воланд положил свою ‹…› руку на плечо Маргариты, дернул ее к себе и посадил на кровать рядом с собою.
Е. С. рассказывала мне и другим, как М. А. еще в 1929 году, в расцвете их романа, водил ее в дом близ Патриарших прудов, и там встретил их (процитирую свою тогдашнюю запись) «высокий красивый бородатый старик и его сын. Кормили ухой. Старик вернулся из Астрахани из ссылки, и друзья дали ему с собой рыбу.
“Позвольте ручку поцеловать!”, “Ведьма!”, “Околдовала!” – “Вы гений!” – сказал вдруг Булгаков, обернувшись к нему».
Тут важно подчеркивание Еленой Сергеевной слова «ведьма» как существенного для Булгакова.
Почему героиню, отчетливо спроецированную на реальный прототип, автор романа делает ведьмой? Для этого должны быть серьезные основания. Это в европейском фольклоре – как злые, так и добрые феи. В русском фольклоре ведьма – это ведьма. Делая свою героиню ведьмой и заставляя ее иметь дело с нечистой силой, автор явно искал художественного решения некоей мучившей его биографической задачи. Скорей всего – скрытой от всех, кроме него, драмы красавицы-жены известного военного, за столом которого в Большом Ржевском собирались командармы и маршалы (Тухачевский, Якир, Уборевич, Гамарник и многие другие), все до одного погибшие в эпоху Большого террора (когда создавались последние редакции «Мастера и Маргариты»).

НИОР РГБ. Ф. 562. К. 63. Д. 40.
Ее биография с яркими авантюрными чертами (здесь нет места для рассказа о них) заставляет вспомнить нескольких женщин ее поколения, оставивших свой нестираемый след в истории России ХХ века: Муру Будберг, Лилю Брик…
Молодость этих женщин пришлась на эпоху, когда человека с непомерной силой испытывали на прочность. Нити добра и зла спутывались. Складывались новые для бывших российских подданных, особые отношения с властью; чекисты были важнейшей частью этой власти, от них зависела и сама жизнь – своя и близких, и то благополучие, которое для этих молодых, красивых, жизнелюбивых женщин было неотрывной частью самой жизни. Нам, не жившим в атмосфере тридцатых годов, насквозь проникнутой тайной слежкой и осведомительством, трудно, почти невозможно понять жизнеповедение тех, кто воспринимал ее как данность. Нужно хотя бы приблизиться к той реальности, где лучшие душевные качества человека (Е. С., например, деятельно и самоотверженно помогала детям расстрелянных сотоварищей своего бывшего мужа), сила и богатство личности могли соседствовать (в отличие от 1960-х – 1970-х годов!) с порою неизбежными сомнительными поступками.
Маргарита в романе становится частью того мира, где правит князь тьмы (одно из ранних названий романа), где «благо» можно получить лишь из рук того, кто «вечно хочет зла».
Она – в другом измерении, чем Иешуа, едва ли не на другом полюсе. Но и там находит художник то, что исторгает те самые слезы вдохновенья, которые вызывали у Пушкина «двух бесов изображенья».
Словом «бесы», писал С. Бочаров, «два кумира здесь припечатаны, но ведь никак не исчерпаны ‹…› собственное их эллинское качество сияет из-под этой печати»[7]. Вот так и красота, обаяние, женственность, страстность Маргариты сияют из-под припечатавшего ее слова – «ведьма».
В этом мире с новыми координатами выносится и оценка действий Маргариты. А тем самым – и ее прототипа.
Автор не в силах объявить свою героиню, связавшуюся с нечистой силой, виновной. Она стала ведьмой, спасая возлюбленного. Таково найденное им объяснение (и оправдание) неизвестных нам, но несомненных драматических коллизий жизни прототипа его любимой героини.
Большой террор в романе
Роман «Мастер и Маргарита» писался в разгар Большого террора – в 1937 году. Все лето 1938 года Булгаков диктовал роман на машинку.
В эти годы количество еженощно выхватываемых из постели и отдаваемых на пытки следователям людей, равно как и гаданий о причинах этого превысило возможности человеческого воображения. Миновать эту ситуацию в творчестве писателю такого масштаба было невозможно. Но и написать об этом, притом что Булгаков рассчитывал роман «представить» (и с надеждой на публикацию!), было необычайно трудно.
И Булгаков выбирает гротескно-ироническую форму рассказа о страшной повседневности.
В главе под названием «Нехорошая квартира» (квартира № 50, которую хозяйка квартиры сдавала жильцам) он описывает нарочито дурашливым тоном (и все равно играя при этом с огнем), как «два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать». Так, один жилец приказал домработнице Анфисе «сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся (тут слово никогда удачно втиснуто в середину фразы, сделано незаметным. Но все-таки никогда это никогда – и в годы публикации романа советские читатели уже знали, как много людей, уведенных из дома, не вернулись в свой дом никогда. – М. Ч.). Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер (вот эта дурашливость, выступающая в функции самозащиты автора, идущего по минному полю. – М. Ч.)». Анфиса «напрямик» заявляет своей хозяйке, «что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь». Этой фразой (одной из самых удачных в романе), издевающейся над всеми сразу, мы и ограничимся.
IV. Связи с русской и мировой литературой
Гоголь в романе Булгакова
Гоголь был любимым писателем Булгакова, и он, несомненно, был чувствителен к точкам сближения их биографий.
Скорей всего, образ Гоголя, приехавшего в Петербург с Украины – с теплого юга – в декабре 1829 года, без связей и без малейшего литературного имени, вынужденного зарабатывать на жизнь, подобно его будущему герою Акакию Акакиевичу Башмачкину, писцом в департаменте уделов, был для Булгакова живым примером. Можно сказать, стоял перед его глазами. Подтверждением этого станет работа над портретом Мастера в рукописях «Мастера и Маргариты»).
В работе над инсценировкой «Мертвых душ» (когда после звонка Сталина он с распростертыми объятиями был принят во МХАТ и с энтузиазмом взялся за инсценировку) для Булгакова был особенно важен монолог Первого (то есть ведущего, начинающего спектакль), обращенный к Риму. Булгаков хотел сохранить в Прологе представление о том, что «Мертвые души» писаны в Риме.
Первый (выходит в плаще на закате солнца). ‹…› И я глянул на Рим в час захождения солнца, и предо мною в сияющей панораме предстал вечный город!
Но худсовет МХАТа не принял эту роль. «Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил expose, – писал Булгаков П. С. Попову. – И Рима моего мне безумно жаль!»
Роль Первого в этом ее виде в спектакль так и не вошла. Однако она нашла отражение в романе «Мастер и Маргарита». Вспомним, как «на закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве» находились двое, как им «город был виден почти до самых краев» и как «Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг».
Этот ракурс созерцания героем широкой панорамы громадного города, сохраненный во всех редакцях романа, зародился, как можно думать, во время вчитывания в гоголевский «Рим». Но элегическая тема прощания с городом, столь сильная в «Мастере и Маргарите», находит себе параллели в других гоголевских текстах, освоенных Булгаковым – инсценировщиком «Мертвых душ». Вот конец одного из вариантов инсценировки:
Первый. ‹…› О, жизнь! Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только назад, желая увериться, точно ли выехал из города. И увидел, что город давно уже скрылся. Ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно. И даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю. И город как будто не бывал в памяти, как будто проезжал его давно, в детстве.
О дорога, дорога!..
Занавес.
Здесь гоголевский текст (очерк «Рим») сохранен почти в неприкосновенности, и именно он прямым образом отразился в последних фразах 31-й главы «Мастера и Маргариты», в которой Мастер навеки прощается с городом: «Когда на мгновенье черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман». Связь с Римом, ведущая к апокалиптическим и эсхатологическим толкованиям, прямо устанавливается репликой Азазелло: «Мессир, мне больше нравится Рим!».
Обратимся к моменту выезда Чичикова из ворот гостиницы: «С каким-то неопределенным чувством глядел он на дома, стены, забор и улицы, которые также с своей стороны, как будто подскакивая, медленно уходили назад и которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни». Это «неопределенное чувство», утонченное и уточненное Булгаковым, владеет и Мастером:
Мастер стал смотреть на город. В первые мгновения к сердцу подкралась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой, бродячим цыганским волнением.
– Навсегда! Это надо осмыслить, – прошептал мастер…
Очевидна зараженность ряда эпизодов «Мастера и Маргариты» разными гоголевскими мотивами: в 1934 году, работая параллельно над завершением первой полной редакции романа «Мастер и Маргарита», Булгаков вновь обращается к Гоголю и пишет один за другим два киносценария – «Мертвых душ» и «Ревизора».
Параллельная работа над произведениями Гоголя и собственным замыслом дала весьма знаменательные результаты. В тетради дополнений романа, начатой 30 октября 1934 года, появился странно знакомый герой: в комнату Иванушки в психиатрической лечебнице с балкона, «ступая на цыпочках, вошел человек лет тридцати пяти примерно, худой и бритый, блондин с висящим клоком волос и с острым птичьим носом» (курсив наш – М. Ч.). И эта последняя черта заставляет узнать в ночном госте того самого человека, который стоит на балконе с 1930 еще года, которому, к печали Булгакова, никак не отыскивается места в составляемых им сценариях.
В последней редакции романа Иван спрашивает прощающегося с ним Мастера, нашел ли он свою возлюбленную.
– Вот она, – ответил мастер и указал на стену. От белой стены отделилась темная Маргарита ‹…› и в глазах ее читалась скорбь. ‹…›
– Прощай, ученик, – чуть слышно сказал мастер и стал таять в воздухе. Он исчез, с ним вместе исчезла и Маргарита.
Здесь – отзвук одной из картин «Страшной мести», когда появляется в хате перед колдуном душа Катерины, а муж ее Данила видит это через окно:
‹…› и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? ‹…› И сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки. Вот она как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи ‹…›
Да и в эпилоге романа проступает подтекстом гоголевская повесть: «Тогда лунный путь вскипает… Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина ‹…› Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает…». Не только по-гоголевски гиперболический эпитет, относящийся к женской красоте, но и незнакомость или неузнаваемость лица, ускользание: «В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо ‹…› А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него…»
Поллиор и Амвросий
У нас нет сомнений в том, что в «Мастере и Маргарите» отразилась форма построения самой ранней, оставшейся незаконченной статьи Гоголя «Борис Годунов: поэма Пушкина». Она построена в форме вычурного и велеречивого диалога двух друзей – посетителей книжного магазина – с редкими именами Поллиор и Элладий. Воспроизводится их диалог – после описания модного книжного магазина и толпы его посетителей.
Книжный магазин блестел в бельэтаже ***ой улицы ‹…›, лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг ‹…›
«Ты понимаешь меня, Элладий, к чему же ты предлагаешь мне этот несвязный вопрос?
Что мне принесть? Кому нужда, кто пожелает знать мои тайные движения? ‹…›»
«Итак, по-твоему, – спросил его после мгновенного молчания Элладий, – люди не должны делиться между собою впечатлениями ‹…›?»
«Нет, Элладий, нет! ‹…› О, дайте же, дайте мне еще, еще этих мук, и я выльюсь ими весь в лоно творца ‹…›»
В небольшом эпизоде «Мастера и Маргариты» два приятеля носят имена Амвросий и Фока, для времени действия романа звучавшие столь же необычно, как Поллиор и Элладий.
Приятели ведут диалог (услышанный автором «этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова» – и подхваченный им), пародирующий высокопарные речи гоголевских персонажей, но пародирующих отнюдь не в смысле высмеивающих. Булгаков, с одной стороны, перепевая Гоголя, ведет безмолвный с ним диалог; с другой же – высмеивает нынешних писателей при помощи Гоголя.
– Умеешь ты жить, Амвросий! – со вздохом отвечал тощий ‹…› Фока румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амвросию-поэту.
– Никакого уменья особенного у меня нету, – возражал Амвросий, – а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в «Колизее». ‹…› Нет, я категорически против «Колизея», – гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. – Не уговаривай меня, Фока!
– Я не уговариваю тебя, Амвросий, – пищал Фока. – Дома можно поужинать. ‹…›
Эти определения («румяногубый») также адресуют нас к Гоголю. Напомним гоголевские сложные эпитеты:
«робкий, скромный, детски-простодушный» («Невский проспект»), «отчего же это странно—неприятное чувство?», «они так глядели демонски—сокрушительно» («Портрет»), «Не почила на ней величественно-степенная идея», «с вечно-цветущей природой» («Рим: отрывок»).
Фантастика и нечисть
Свет настольной лампы освещает среди страшной ночи кабинет Римского, напоминая свечи в «Вие», которые «трепетали и обливали светом всю церковь».
Во вторую ночь Хома «слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу…» Отзвук этого – в том, как голая девица «ногтями начала царапать шпингалет и потрясать раму». А на третью ночь уже внутри самой церкви «все летало и носилось, ища всюду философа». У Булгакова все совершается в одну ночь, ускоренно – и Варенуха подпрыгивает возле двери, «подолгу застревая в воздухе и качаясь в нем». Это – сильно уменьшенная картина того, что происходило в церкви. И когда с распахнувшейся рамой «в комнату ворвался запах погреба» – это тоже пахнуло Гоголем, от его «приземистого, дюжего, косолапого человека», который, как помнит всякий читавший Гоголя, весь был «в черной земле».
«Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы и, дико взвизгивая, понеслись восклицания» – ср.: «…Она испустила хриплое ругательство, а Варенуха взвизгнул … девица щелкнула зубами…»
Не говорим уж про «петуший крик» в «Вие». «Это был уже второй крик», и под него «испуганные духи бросились кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь». И, можно сказать, непосредственно вслед за ними, тоже после повторного крика петуха, и мертвая девица, и Варенуха вылетают из окна, и остается в комнате «седой как снег, без единого черного волоса старик, который недавно еще был Римским…». Он, получается, оказался покрепче Хомы Брута – все-таки жив. Но ужасы, от которых седеют мужчины, переняты Булгаковым у Гоголя («‹…› Да ты весь поседел! ‹…› половина волос его, точно, побелела» – о Хоме Бруте). Первый отзвук этих гоголевских строк – в «Роковых яйцах»:
«Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром».
Да и кот Бегемот вызван к литературной жизни (и стал для читателей-подростков самым ярким и любимым персонажем), возможно, среди прочего, желанием автора преодолеть памятный всем, кто читал Гоголя, образ «страшной черной кошки» из повести «Майская ночь, или Утопленница». Той самой, что кралась ночью, пугая юных читателей, к бедной панночке: «шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу».
* * *
Роман соединен сотнями связей – и очевидных, и подспудных – с литературой разных времен и народов.
Много раз перечитанные книги «золотой полки» мировой литературы участвовали в творчестве Булгакова, многообразно в нем отражаясь. «Фауст», «Дон-Кихот», «Божественная комедия», «Мертвые души»… Связь с романами Дюма, «Таинственным незнакомцем» Марка Твена (замечено и описано Я. С. Лурье) и «Манон Леско» (отмечено В. И. Немцевым)… Коровьев в совокупности его разных, мерцающих обликов не может быть понят полно ни вне гоголевской концепции черта, ни вне героя Достоевского Петра Верховенского. Перечень бесконечен; многое указано Е. А. Яблоковым в фундаментальном справочнике «Михаил Булгаков и мировая культура» (СПб., 2011).
Данте
Финал романа глубоко связан с «Божественной комедией». Еще в самой ранней редакции сцены отравления Мастера и Маргариты, в 1934 году, появляется первый набросок предлагаемых автором романа форм будущего бытия Мастера (именуемого на этом этапе работы «поэтом») и его возлюбленной: «Маргарита вскочила, полная жизни… – Скорее, – сказал Азазелло поэту. Поэт поднялся легко. Такая радость, как та, что наполняла его тело, еще им не была испытана никогда. Тело его не несло никакой боли, и кроме того все показалось сладостным поэту». Речь идет об иной, но жизни, о существовании во плоти, о радости инобытия. В раннем черновом наброске заключительной главы романа «Последний путь» писатель настойчиво утверждал это представление о преображении своих героев.
– Но скажите мне, – спрашивал поэт, – кто же я?
Я вас узнал, но ведь несовместимо, чтобы я, живой во плоти человек, удалился вместе с вами за грани того, что носит название реального мира?
– О, гость дорогой, – своим глубоким голосом ответил спутник с вороном на плече, – о, как приучили вас считаться со словами! Не все ли равно – живой ли, мертвый ли!
В июле 1936 года Булгаков впервые запечатлеет в рукописях романа вечное убежище Мастера. Воланд возвещает ему: «Ты награжден. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил. Ты будешь жить в саду и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом, как, цепляясь, ползет по стене…» Последнее убежище Мастера и Маргариты имеет своим литературным прообразом и своей опорой те страницы «Божественной комедии» Данте, где описан Лимб. Он, хотя и помещен в четвертой песне «Ада», но не является его преддверием – это не чистилище, а вообще начало путешествия по загробному миру. Это место, для которого не сделано выбора между Адом и Раем (пространственно это «кайма» ада). В Лимбе заключена идея особого пространства, подобного земному, – там пребывают те, кто навеки лишены возможности лицезреть того, кто решил их участь. Об этом же лишении предупрежден Мастер в черновой редакции романа: «Ты никогда не поднимешься выше. Ешуа не увидишь, ты не покинешь свой приют…» Булгаков рисовал обитателей этого приюта лишенными памяти и возможности творить – но не лишенными возможности мыслить, получать удовольствие от размышлений своих и чужих. Все это более жестко выписано в редакции 1936 года и менее отчетливо, с большим простором для догадок и различных толкований в последней (печатной) редакции романа. Роль Луны, столь важная в эпилоге романа, возможно, также связана с Луной Первого неба у Данте.

Помимо самоочевидности интереса автора «Мастера и Маргариты» к «Божественной комедии», есть и документальные тому подтверждения. Одной из любимых книг Булгакова, по словам Е. С. Булгаковой, были «Мнимости в геометрии» П. А. Флоренского (М., 1922). Он бережно хранил ее с первых московских лет, прятал от постороннего любопытствующего взгляда (поскольку автор в 1933 году был арестован, а затем расстрелян). Е. С. Булгакова рассказывала мне, что, когда первые слушатели «Мастера и Маргариты» с недоумением воспринимали финал романа, Булгаков указывал лично ей на страницы книги Флоренского с математической и философской интерпретацией путешествия Данте по загробному миру – он видел в нем некий аналог последних глав романа. Подчеркнуты рукою Булгакова особенно важные для него утверждения Флоренского, среди прочего – о том, что «на границе Земли и Неба длина всякого тела делается равной нулю, масса бесконечной, а время его, со стороны наблюдаемое, бесконечным. Иначе говоря, тело утрачивает свою протяженность, переходит в вечность и приобретает абсолютную устойчивость». Именно эта утрата телами своей протяженности в момент перехода в вечность и манифестируется, как кажется, внешним преображением участников последнего полета. «Так, разрывая время, “Божественная комедия” неожиданно оказывается не позади, а впереди нам современной науки». Эта последняя фраза брошюры также не только подчеркнута, но сопровождена восклицательным знаком на полях.
Достоевский. «А все-таки говори, есть бог или нет?»
Спор трех героев о бытии Божьем, которым начинается последний роман Булгакова, безусловно восходит к известному разговору Федора Карамазова с сыновьями (начинающемуся его приведенным выше вопросом). Как в романах Достоевского (особенно в «Бесах»), тезис, выдвинутый одним из героев, незамедлительно проверяется трагическими происшествиями. В отличие от Достоевского, спор героев романа Булгакова на фундаментальные темы – это не спор полноправных сознаний; идеи героев Булгакова не принадлежат им органически. Вместо нравственной или интеллектуальной активности в изображаемом споре проявляется активность прагматическая: «Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз…». Скандальное появление Иванушки в ресторане дома Грибоедова, нарастание скандала во время вечера в Варьете, скандал в Торгсине с последующим поджогом – эти события повторяют в какой-то степени динамику «праздника» в «Бесах». Близки по функции и пожары в обоих романах. Роль «трех негодяев» (Достоевский) свита Воланда как бы заимствует у Петра Верховенского и его сподвижников – «наших». Поведение в «Бесах» одного из «наших» – Липутина («Я, ей-богу, никак не думал, – скорчился он, тотчас же начиная лгать и прикидываться несчастным…»), бесцеремонность его жестов («разлегся на диване и мигом поджал под себя ноги») могут показаться читателю «Мастера и Маргариты» вполне «коровьевскими».
И финал романа – чем более привлекательным стремится представить Воланд «вечный покой» Мастера, лишенного света, тем явственнее ассоциация с Достоевским (одновременная с проекцией на Данте): люди «станут свободнее, когда откажутся от свободы своей»; «мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабых существ, какими они и созданы ‹…› в свободные от трудов часы устроим их жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками» (напомним последние слова Маргариты: «Они будут тебе играть, они будут петь тебе… ты будешь засыпать с улыбкой на губах…»). Блага, сулимые когда-то Великим инквизитором, уверенно приравнены писателем новейшего времени к вечному покою смерти[13].
Переместимся в ХХ век.
«Господин из Сан-Франциско»
Летом 1976 года В. П. Катаев рассказывал мне о Булгакове, каким предстал он перед «гудковцами» в начале 1920-х годов. И припомнил, как был изумлен, когда Булгаков вдруг прочел наизусть конец «Господина из Сан-Франциско» Бунина. «Блок, Бунин – они, по моим представлениям, для него не должны были существовать! Его литературные вкусы должны были кончаться где-то раньше…»
В известном смысле это так и было. Но именно этот рассказ, процитированный наизусть, отразится сначала в «Белой гвардии» – прямым образом («…Перед Еленой остывающая чашка и “Господин из Сан-Франциско”.
Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: “…мрак, океан, вьюгу”» – финальные слова рассказа), а затем скрытно – во втором романе.
Бунин описывает океанский пароход, где «великое множество слуг работало в поварских, судомойных и винных подвалах». Пассажиры обедают в ресторане – под звуки оркестра, затем танцуют. В начале одного из таких обедов – уже не на пароходе, а в отеле – господин из Сан-Франциско умирает. И при этом известии «многие вскакивали из-за еды, опрокидывая стулья, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: “Что, что случилось?” – и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. ‹…› Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но, молча, с обиженными лицами ‹…› тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушено, большинство гостей ушло в пивную…». А затем гроб плывет в трюме той же «Атлантиды», где наверху вновь обедают и танцуют.
Эта фабульная ситуация находит отражение в главе «Дело было в Грибоедове» романа «Мастер и Маргарита», начиная с первой редакции, где так же неожиданно приходит в ресторан в разгар танцев, подробно описанных, известие о смерти Берлиоза: «Что? Что? Ч‹то? – посыпалось го›рошком со все‹х сторон…›
Рояль был закрыт, и ключ от него исчез ‹в глубоком кармане› брюк пирата. ‹…› как ‹ясно было всем, ч›то был погибший ‹Берлиоз… атеисто›м, ясно было, что ‹он, как всякий из посетит›елей Шалаша‹, был далек от мысл›и о смерти».
Гром музыки, крики официантов, звуки, доносящиеся из подсобных служб («‹Звенели таре›лками судомойки, ‹из кухни несло запа›хом прогорклого ‹масла и пригор›елой капусты»), – все это живо напоминает звуковой антураж действия в рассказе Бунина («на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену – ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра» и т. п.). Само сравнение ресторана с адом близко метафорике рассказа Бунина («мрачным и злобным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба корабля»). Наконец, как и в рассказе, в последней редакции романа посетители ресторана возвращаются к еде (правда, в первой редакции это фабульное звено отсутствует): «…и кой-кто уже вернулся к своему столику и – сперва украдкой, а потом в открытую – выпил водочки и закусил» и т. д.

Но всего убедительней, пожалуй, сходство двух эпизодических персонажей – разной, но одинаково необычной внешности, помещенных и в рассказе, и в романе в центре ресторана.
«Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев»; «гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помахал рукой пассажирам» («Господин из Сан-Франциско»).
Сравним с этим появление метрдотеля (с репутацией бывшего пирата) посреди ресторана в доме Грибоедова: «На веранде на осве‹щенном месте› стоял неподвижен ст‹ранный человек›. Он был во фраке. Зн‹ойной испанской› ночью веяло от него ‹…› ‹это было, конечн›о, вранье, и бассейн ‹Тускароры неизвестно›, есть ли на свете ‹или его вовсе нет›, но тем не менее» у всякого, кто созерцал этого человека, «явля‹лась мысль о т›ом, что хорошо было ‹бы, чтобы этот краса›вец скинул бы свой ‹фрак, намотал красн›ый шелковый плат ‹на свою красивую› шелковую голову» и т. п. В печатной редакции сказано, что пиратский бриг плавал под его командой, он именуется однажды «командиром брига», что еще теснее сближает главу «Дело было в Грибоедове» с рассказом Бунина.
Но и в первой главе романа есть еще одно очень важное сближение с рассказом Бунина.
На Патриарших прудах, незадолго до смерти, Берлиоза охватывает необоснованный, но сильный страх, и вслед за тем «знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. ‹…› Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: “Этого не может быть!..”». И «в точности тот самый гражданин» появляется перед Берлиозом за минуту до гибели – «Только сейчас он уже был не воздушный, а обыкновенный, плотский…». «Михаил Александрович так и попятился, но утешил себя тем соображением, что это глупое совпадение и что вообще сейчас об этом некогда размышлять» (здесь и далее курсив наш).
Сопоставим с этим: «Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: взглянув на него, господин из Сан-Франциско вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке с круглыми полами и с той же зеркально причесанной головою.
Удивленный, он чуть было даже не приостановился. Но как в душе его давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то тотчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля». Двойник персонажа из сна (у Булгакова – мираж) как предвестник наступающей в этот же день смерти… Отметим и опережающее авторское указание в первой главе романа: «…изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце» (читатель совершенно не подготовлен к слову «навсегда»), также восходящее к композиции бунинского рассказа: «Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер?» (в чем знаменательность вечера, читателю Бунина тоже неизвестно).
Оба героя – и в романе и в рассказе – служат напоминанием обедающей толпе не просто о том, что «человек смертен», но и о том, что «он иногда внезапно смертен», о чем безуспешно предупреждает Берлиоза Сатана. Булгаков начинает свой роман там, где Бунин кончает свой рассказ. Если В. Катаеву Бунин казался началом новой прозы – для Булгакова Бунин был, возможно, завершением русской классической прозы. И он ощущал себя не учеником старшего современника, а наследником завершившегося периода. Потому он и восклицал вместе с героем «Записок покойника»: «…Я новый! Я неизбежный, я пришел!»
В первые московские годы Булгаков пристально следил за работой современных литераторов (у него был замысел – составить словарь современных русских писателей, куда он надеялся включить и живущих за рубежом). И в его романе – отзвуки сочинений разных авторов тех лет: А. Грина, О. Савича, С. Чевкина (связь с его пьесой 1922 года «Иешуа Ганоцри. Беспристрастное открытие истины» обнаружила Л. Фиалкова). Есть и не разгаданные до сих пор сближения.
Исус и Иешуа
В Москве двадцатых – начала тридцатых годов жил философ и филолог Яков Голосовкер; несколько десятилетий спустя академик Н. И. Конрад назвал его одним «из образованнейших и глубоких мыслителей нашего времени». Почти ровесник Булгакова (год рождения – 1890), он родился в Киеве, учился скорей всего в одной с ним гимназии и затем – в Киевском Императорском университете св. Владимира, где изучал, правда, не медицину, а классическую филологию. Почти нет сомнений в том, что в киевском отрочестве и юности они были знакомы – хотя бы шапочно. В 1925–1928 годах Голосовкер написал роман под названием «Запись неистребимая». Он хранил рукопись у своего друга-художника. В 1936 году Голосовкер был арестован; три года провел в лагерях Воркуты, потом в ссылке. После его ареста друг сжег его рукописи. Вернувшись, автор восстановил свое сочинение, назвав его теперь «Сожженный роман». Таинственное свойство этого сочинения – поразительное ощущение его внутренней связанности с романом «Мастер и Маргарита». Роман Булгакова столько лет казался его увлеченным читателям единственным в своем роде, ни на что не похожим – будто вообще возможно появление ни на что не похожего сочинения. Просто это мы обычно уже не знаем того, на что оно похоже: исчез фон, исчезло литературное окружение, из которого естественным образом шли импульсы и на того, кто выдвинулся впоследствии далеко вперед, кто оставил за спиной своих современников.
Ощущение близости, причем довольно странной, возникает с первой же фразы. «В апрельскую пасхальную ночь…», да еще и в Москве, да еще «из Психейного дома» (которому соответствует у Булгакова «дом скорби» – клиника Стравинского) исчезает больной.
Мало того, что имя его – Исус (так пишут имя Иисуса Христа староверы – то есть, мы видим, как и у Булгакова, вариант написания Имени Божьего), но возникает еще и «домовая книга», в которой он записан под этим именем. Так и в «Мастере и Маргарите», когда больной герой перед исчезновением из больницы беспокоится, что его хватятся, в руках Коровьева возникает своего рода «домовая книга» дома скорби, и тут же вслед – и «домовая книга» застройщика, в подвал которого возвращается Мастер.
«Настоящие имя и фамилия» героя «Сожженного романа» также никому не известны, как и имя Мастера.
И кто же исчезнувший больной в повести Я. Голосовкера? «…Не поэт, не писатель, не философ, – а так – духовидец на материальной почве…»
Как и у Булгакова – и «в жизни», и в романе – рукопись сожжена не полностью: «Но почему-то две разрозненных главы романа и еще отрывок какой-то другой главы безумец сохранил. Их нашли у него под матрасом с водными следами на бумаге: то были следы слез». Напомним у Булгакова: «Утирая слезы, Маргарита Николаевна оставила тетрадь…» Схождений так много[8], что поневоле думаешь – не палимпсест ли перед нами? И какой из текстов погребен под другим, просвечивает через него? Не читал ли один из киевлян рукопись другого, написанную раньше, и не попал ли под влияние?..
V. Первая публикация романа
Ташкентский литературовед А. З. Вулис (1928–1993) занимался советской сатирой и, наткнувшись на повесть «Роковые яйца», задумался: «…А что еще сделал Булгаков на сатирическом поприще?»[9].
В 1962 году он наткнулся в предисловии В. Каверина к роману Булгакова «Мольер» (изданному в серии ЖЗЛ) на упоминание никому, кроме десяти-пятнадцати человек, неведомого «фантастического романа “Мастер и Маргарита”».
Весной того же года А. Вулис попал в дом Е. С. Булгаковой и, постепенно завоевав ее доверие, получил доступ к рукописи романа… Сделав множество выписок, он, уже в Ташкенте, работая над книгой «Советский сатирический роман: Эволюция жанра в 20–30-е годы» (Ташкент, 1965), ухитрился процитировать «незавершенные произведения» Булгакова – «Записки покойника» (перед самой их публикацией в «Новом мире»!) и «Мастер и Маргарита» (этот роман Елена Сергеевна надеялась напечатать примерно через десять лет). И еще снабдил цитаты немыслимыми в советской печати сносками – что рукописи этих сочинений хранятся у вдовы писателя! Поясню: неопубликованные (то есть не прошедшие цензуру) произведения цитировать не полагалось.

Примечательно, что одновременно с этой книгой (в мае 1965 года) в печать сдана была книга «Драмы и комедии» Булгакова с предисловием В. Каверина, где благородный писатель уже открытым текстом заявлял, что «Мастер и Маргарита» – роман, «который, несмотря на всю его сложность (на этой оговорке – несмываемая печать советского времени. – М. Ч.), давно пора издать, потому что по своеобычности едва ли найдется ему равный во всей мировой литературе» (!). А. Вулис вспоминал: когда его книга попала к Е. С. Булгаковой, «она, бегло проглядев страницы булгаковского раздела», возликовала:
– Это чудо! – восклицала Елена Сергеевна, почти задыхаясь в приступе торжествующего смеха. – Это просто чудо!!! ‹…› Это все штуки Воланда!
Этот прорыв А. Вулиса, как и каверинские выпады, сыграл, как увидим далее, свою роль.
Алексей Симонов рассказывает
Родители Алексея Симонова (они с довоенных лет были в разводе, но сохраняли дружеские отношения) – К. М. Симонов (в это время – председатель Комиссии по литературному наследию М. Булгакова) и Евгения Самойловна Ласкина (тогда – заведующая отделом поэзии ничем не примечательного журнала «Москва» – главным редактором его был также мало примечательный писатель Е. Е. Поповкин) – пересказывали сыну состоявшийся между ними разговор:
– Костя, Поповкин хочет поднять тираж журнала.
Нужна ударная проза. Не можешь ли ты что-нибудь посоветовать?
– Женя, посоветовать я могу. Только вы все равно не напечатаете.
– Напечатаем. Переводная?
– Не напечатаете. Отечественная.
– Напечатаем. Тамошняя??? (обоими подразумевалась эмигрантская. – М. Ч.)
– Не напечатаете, хотя и тутошняя.
– Спорим, напечатаем!
– Спорим, не напечатаете!
Е. Поповкин прочитал роман и, по свидетельству Е. Ласкиной, сохраненному ее сыном, сказал такую фразу: «Мне очень страшно это печатать, но я понимаю, что напечатать роман для меня – единственный способ остаться в истории литературы». А затем попросил у своей сотрудницы совета – как быть? «Ведь напечатать это нельзя». Вердикт был совершенно точный: безо всяких преувеличений можно сказать, что в 1966 году напечатать этот роман в советской печати было нельзя.
Редактор «Москвы» принимает решение
Когда Поповкину дали читать рукопись романа, то рядом, по свидетельству А. Вулиса, положили его книгу с большими цитатами оттуда:
Поповкин прочитал рукопись. Познакомился с толкованием романа в книге. И сказал:
– О романе так подробно пишут, пора печатать.
…И в июле 1966 года А. Вулису сказали, что его просит позвонить Поповкин.
Я позвонил Поповкину и, не веря собственным ушам, услышал:
– Мы хотим печатать «Мастера и Маргариту». Не возьмете ли на себя труд сделать предисловие? С вашей книгой я познакомился.
Считаю, что в романе вы разобрались.
Телефонная будка, в которой я себя обнаружил, положив трубку, показалась мне тогда сказочной каретой – вот-вот умчит она меня к Мастеру и Воланду ‹…›.
«Мастера и Маргариту» вела Диана Тевекелян – она заведовала в «Москве» отделом прозы.
С ней-то, а также с Е. С. Ласкиной ‹…› обсуждались задачи предисловия, его общий дух ‹…›. В разгаре лето, и я ношу варианты своего предисловия – один, другой, третий – к Елене Сергеевне. Она морщится и щурится, наталкиваясь на псевдоакадемические фразы, поеживается, словно кутается в невидимую шаль, когда читает про мениппею ‹…›. И я опять сажусь за переделку. Замечания Ляндреса[10] носят другой характер. Он озабочен недипломатичностью некоторых моих историко-литературных суждений, которые в таком виде могут шокировать давних противников Булгакова.
«Зачем дразнить гусей?!» – вот суть его критики.
И я опять работаю над предисловием.
То есть – историко-литературную работу теснит политиканство, необходимое для издания романа… В конце августа 1966 года А. Вулису звонит Елена Сергеевна:
– …прошу, откажитесь от вашего предисловия.
Предисловие согласился написать Симонов.
Вы не можете не понять, что его непосредственное участие в публикации – в интересах дела. Позвоните, пожалуйста, ему.
Кто спокойно воспримет такой удар? Я не чувствую обиды. Я сознаю правоту Елены Сергеевны. Но все равно какой-то ком торчит у меня в горле.
Он звонит Симонову; тот просит его приехать.
Константин Михайлович сказал:
– Комиссия просит написать предисловие меня – вроде бы я подходящая пожарная команда. Но я не мог принять предложение, не посоветовавшись с вами. А что, если так: в начале – мое вступительное слово, в конце – ваш комментарий.
На том и порешили.
Диана Тевекелян вспоминает
Диана Тевекелян, рассказавшая о журнальных делах в полумемуарном, полубеллетристическом повествовании (Интерес к частной жизни: Роман с воспоминаниями. М., 2006), где сама она выведена под именем Натки, вспоминает: «Ответственного секретаря, когда он повез номер в Главлит (то есть в цензуру, которую советская власть запрещала так называть. – М. Ч.), провожали, как на войну». Сдали номер. Потянулись недели молчания. Наконец к заместителю главного цензора вызвали заместителя главного редактора «Москвы» и редактора романа.
Оказывается, журнал допустил серьезную идеологическую ошибку. ‹…› Именно идеологическую ошибку. Прежде всего потому, что разрекламировал еще не одобренное (то есть не прошедшее цензуру. – М. Ч.) произведение и создал вокруг него нездоровую атмосферу. Автора нет в живых, поэтому вся тяжесть ответственности ложится на руководство и редакцию журнала. Они должны доказать свою политическую зрелость и не гоняться за дешевой популярностью. ‹…›
Произведение многослойное, темное по замыслу. Что скрывается за борьбой зла и добра, неясно, как неясно, кто из героев какие силы представляет. Что побеждает, откуда трагическое звучание целых глав? Как переносятся эти дела на наши дни, в чем перекличка? Темный, непроясненный финал, судьба Мастера…
До сих пор владеющий собой, цензор вдруг сорвался: «Такое безвыходное положение у бедняги Мастера, он, конечно, гений, у нас ему не жизнь, у нас одним Иванам Бездомным жить, недоумкам».
Он помолчал, успокаиваясь.
Внеклассовые категории, мракобесие, больная фантазия. Сумасшедший дом – перевоспитательный? – издевательство над нормальным читателем. И над нормальными людьми вообще. В каком виде они выставлены? Идиоты, взяточники, мздоимцы, подлипалы. Ни одного светлого характера. Говорят, Булгаков умирал тяжело, был очень болен. Может быть, этот роман – плод болезненной фантазии.
Не зря он Христа пытается возродить. Но это ничего не меняет. Булгаков еще раз подтвердил свою биографию, он не принял ничего из жизни общества, которое мы создали кровью и потом. А теперь хотим издать рукопись, хотя она абсолютно чужда нормальному восприятию. ‹…› После консультаций наверху – цензор значительно помолчал – принято решение.
Первую книгу романа с определенными изъятиями напечатать в одиннадцатом номере с предисловием и послесловием. Вторая книга вызывает самые серьезные возражения и недоумения, решать, что с ней делать, будете вы. Пока разрешения на публикацию второй части нет, скорей всего, и не будет, над ней можно поработать (подчеркнем – под словом «поработать» подразумевалась вымарывание фрагментов из готовящегося к печати текста. – М. Ч.), но в двенадцатый номер ее ставить не пытайтесь. Если справиться (то есть вычеркнуть как можно въедливей. – М. Ч.) не удастся, ограничимся публикацией первой книги – незаконченное, прерванное смертью произведение выдающегося писателя. И этот выход предпочтительнее.
‹…› И повторил:
– Нам после консультаций в Центральном Комитете (ЦК КПСС – правящей партии. – М. Ч.) представляется более целесообразным завершить публикацию первой частью».
Самое замечательное здесь, пожалуй, слово «целесообразным».
Вряд ли цензор мог вообразить (или даже помыслить), что через двадцать семь лет в Конституции России появится статья 29, часть 5, которая будет гласить:
«Цензура запрещается».
В итоге в № 11 журнала за 1966 год поместили и предисловие Симонова, и послесловие Вулиса, который впоследствии иронизировал:
Пишешь, например, о романе «Мастер и Маргарита», но читатель первой части остается в недоумении – там никакой Маргариты нет и даже не предвидится…
Автор послесловия не знал об этих секретных (как все, связанное с советской цензурой) переговорах, считая, что дело было в руководстве журнала:
Но редколлегия есть редколлегия, а в редколлегии восторжествовало на первых порах другое мнение.
Только в последний момент, когда одиннадцатый номер журнала ‹…› подписывали в свет (т. е. уже после того, как он прошел цензуру! – М. Ч.), у редколлегии созрел вывод: «Мастера» надо печатать целиком. В оглавлении появилась ремарка: «Окончание в № 1 за 1967 год» (на самом деле к словам «Книга первая» появилась сноска:
«Вторую книгу романа читайте в январской книжке “Москвы” за 1967 г.». – М. Ч.). Послесловие переносить было поздно. Так оно и вклинилось в середину публикации.
Не скрою, это необычное его место удивляло.
Но слишком много было гораздо более удивительного в публикации этого сочинения.
Роман о Мастере и Маргарите в киосках «Союзпечати»
В 1960-е годы в газетных киосках нашей страны (тогдашнего Советского Союза) можно было купить не только газеты, но и «толстые» журналы: «Новый мир», «Знамя», «Звезду»… А также и «тонкие» – например, «Здоровье» или «Сельскую молодежь»: там встречались неожиданные литературные публикации, укрытые от цензуры под безобидным для цензорского взгляда «сельским» названием журнала. Тонких «глянцевых» (гламурных) журналов тогда не издавали.
То, что творилось перед этими киосками в ноябре 1966 года, заставляло вспомнить ситуацию, сложившуюся ровно четыре года назад, когда в таком же пасмурном ноябре 1962 года в киосках «Союзпечати» появился № 11 «Нового мира» с повестью никому до тех дней не известного рязанского учителя математики Солженицына.
Теперь, ровно четыре года спустя, люди вновь штурмовали киоски, мгновенно разбирая не имевший до этого никакого спроса (в отличие, скажем, от «Нового мира») журнал «Москва». Там печатался роман Михаила Булгакова с таинственным названием – «Мастер и Маргарита». Одних оно просто завораживало необычным звучанием.
Других же – тех, кого Булгаков назовет в эпилоге своего романа «наиболее развитые и культурные люди», – заставляло вспомнить героя Гете Фауста и его Маргариту (Гретхен).

Москва. 1966. № 11.
Из коллекции Музея М. А. Булгакова
…Теперь уже и не скажешь, чем же мы все были тогда больше всего захвачены.
Почти физическим ощущением летней московской жары, «когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо», и «знойный воздух сгустился», кажется, не перед одним Берлиозом, а дохнул на любого читателя прямо с журнальных страниц?
Или тем, как совершенно необычно для того времени (никогда советская цензура не пропускала в печать ничего подобного), с первых же страниц, в упор, без каких бы то ни было смягчений и оговорок был осмеян атеизм как принудительное государственное мировоззрение?
Или пронзающей наглядностью евангельской истории?
«А не надо никаких точек зрения… Просто он существовал, и больше ничего». Или тем, что одним из главных персонажей у советского (то есть жившего и писавшего в Советском Союзе) автора оказался Дьявол!
Или той поразительной свободой, с которой была не только оскорбительно высмеяна решительно вся «прослойка» (люди умственного труда издавна, с Октября 1917 года, считались не классом, а прослойкой между крестьянством и рабочим классом).
Булгаков своим сарказмом уничтожал всех, кто идеологически обслуживал государство, – от литераторов-посетителей Дома Грибоедова, редактора Берлиоза и секретаря редакции, девицы «со скошенными к носу от постоянного вранья глазами», – до записного конферансье.
Или жуткой, непривычной для советского читателя лаконичной обнаженностью, но и с неуловимым оттенком гротеска, картиной гибели Берлиоза:
…выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной.
Это была отрезанная голова Берлиоза.
Сильнейшее впечатление производило резкое столкновение двух планов: комический гротеск «московских» глав, отсылающий непосредственно к Гоголю, и высокий драматизм и трагедийность глав «ершалаимских».
О самом существовании рукописи романа вплоть до ее публикации никто не знал, кроме немногих близких друзей Булгакова и Е. С. Булгаковой. Появление романа в печати было полной неожиданностью. Исключительность явления усиливалась новым для публичной советской жизни обстоятельством: печатался роман, который почему-то пролежал в шкафу больше двадцати пяти лет после смерти автора!.. Советские люди тогда еще мало знали про рукописи, не ставшие книгами.
Вообще публикация романа напоминала чудо: ничто в тогдашней советской жизни не предвещало такого события.
Цензурные купюры
Роман печатался в журнале с большими цензурными изъятиями.
Особенно болезненны были обширные купюры во второй (финальной) части публикации (1967, № 1). Был, например, выброшен весь обширный диалог Воланда с Фаготом (Коровьевым) относительно того, изменились ли москвичи внутренне. Особенно интересны для изучения характера советской цензуры небольшие, но характерные купюры: «…Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних, квартирный вопрос только испортил их…» (не попавшее в журнальный текст выделено нами курсивом). Из главы 15-й «Сон Никанора Ивановича» был выброшен весь его сон, в котором советские граждане принуждались сдавать валюту (сама ситуация была реальной – в конце двадцатых годов людей держали в плотно набитых камерах, пока они не указывали, где спрятаны «на черный день» валюта и золото), а сама глава пере-названа – «Никанор Иванович». Алексей Симонов вспоминает, что К. Симонов уговаривал Елену Сергеевну вообще не смотреть верстку.
Он настаивал: пусть роман будет опубликован в как угодно урезанном виде – и давал слово, что через несколько лет выпустит роман в полном виде.
Он слово сдержал, но Е. С. об этом уже не узнала.
И для множества людей нашей страны полный текст остался навсегда неизвестным (до эпохи Перестройки не все дожили): большая часть тиража издания 1973 года (текстологически подготовленного по вине издательства наспех и некачественно) ушла по решению так называемых «вышестоящих инстанций» за границу и в московские валютные магазины «Березка». Вышло в 1989 году издание в Киеве (изд-во «Днiпро»), подготовленное Л. Яновской; она же готовила текст романа.
Издание романа в пятитомном собрании сочинений Булгакова (М., 1989–1990) текстологически гораздо более доброкачественно (подготовка текста Л. Яновской). Однако научно подготовленного печатного текста романа (как в академических изданиях) нет до сих пор.
…Из главы «Великий бал у Сатаны» был выкинут фрагмент про то, как по лестнице подымается «кто-то новенький», и Коровьев поясняет, как Азазелло
…навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены ядом.
– Как его зовут? – спросила Маргарита.
– А, право, я сам еще не знаю, – ответил Коровьев…
Этот провоцирующий диалог рассчитан был на то, что в конце тридцатых немало уцелевших чекистов прекрасно знали имя и «новенького», и сопровождавшего его на бал (то есть тоже покойника) «этого самого исполнительного его подчиненного». Это были Г. Ягода и его личный секретарь П. П. Буланов (оба расстреляны 15 марта 1938 года), будто бы пытавшиеся отравить сменившего Ягоду на посту наркома внутренних дел Н. Ежова (в свою очередь арестованного уже после завершения романа – и потому не попавшего на Великий Бал – и расстрелянного в феврале 1940 года); Буланов рассказал на следствии об «опрыскивании кабинета» Ежова специально приготовленным ядом…
Эти имена и события оживлены были в общественной памяти после доклада Хрущева о Большом терроре.
И в 1966 году, через десять лет после этого, среди читателей романа еще были живы многие из тех, кто их помнили. Но общественная обстановка брежневского времени уже не поощряла такие воспоминания.
Но и микрокупюры были весьма чувствительными: сравните, например, начало главы 21 «Полет» («Невидима и свободна! Невидима и свободна!») с купированным текстом: «Невидима! Невидима!..»
«В Лондоне листопад»
В моих ежедневных беседах с Е. С. Булгаковой осенью 1969 года однажды речь зашла о публикации романа. И она сказала: «Ведь вторую часть сокращала уже не цензура, а сама редколлегия! Выгораживали место для публикации повести одного из членов редколлегии… Я знаю это точно, мне рассказали в редакции… Машинистки, которые перепечатывали роман, плакали, когда видели вычеркнутые места… Я сама так плакала, когда увидела, как много вычеркнуто прекрасных строк!»
Уже после смерти Е. С. Булгаковой (в 1970 году) я узнала от сотрудников «Нового мира» и еще более пронзительные детали. Оказывается, у журналов «Москва» и «Новый мир» был общий цензор – молодая девушка; она рассказала члену редколлегии «Нового мира» А. И. Кондратовичу, что также плакала (!), видя вычеркнутое в редакции журнала «Москва», и просила их вернуть текст! Но им было нужно место для рассказа члена редколлегии Бориса Евгеньева «В Лондоне листопад».

Москва. 1967. № 1.
Из коллекции Музея М. А. Булгакова

Архив Международного Мемориала
Сам рассказ, занявший около 50 журнальных страниц, был чудовищен даже для тех времен. Советская девушка Катюша попадает в Лондон – едет вместе с отцом «с туристической писательской группой». И ее пробует интервьюировать «редактор-издатель журнала для молодежи, выходящего в Лондоне на русском языке». Ею, конечно, овладевает «чувство смутной тревоги. Добрые имена русских советских людей – писателей, поэтов – странно, чуждо звучали в устах этого человека». Но своевременно ворвавшийся («нет, не вошел, ворвался») в гостиную отец спасает «от подстерегавшей ее неведомой беды…». Ну, и конечно, когда они «вошли в свой флэт», там «сидел руководитель группы Евгений Дмитрич, немолодой седой человек с военной выправкой, занимавшей в Союзе писателей высокую административную должность». И, конечно, «когда она увидела его в своей комнате, ощущение чего-то ошибочного, содеянного ею по легкомыслию и глупости, охватило ее». Впрочем, пересказывать и оценивать рассказ бессмысленно – это блестяще сделала в том же году критик Наталья Ильина в литературном фельетоне под названием «Катя за границей».
У меня тогда возникла своего рода навязчивая идея. Я все время представляла себе этого неведомого мне Бориса Евгеньева, как он, потирая руки, рассказывает дома, что ему удалось-таки втиснуть свой рассказ, я мечтала увидеть его и как-то выразить ему свои чувства. И судьба пошла мне навстречу: в сентябре 1977 года я оказалась в Доме творчества писателей в Дубулты (под Ригой) с ним за одним столом. Мои вопросы застали его врасплох, и потому многое прояснилось (и я сразу же, придя в свой номер, записала услышанное практичеки дословно). После публикации первой части романа у него, как он сказал, «был крупный разговор в отделе печати (то есть в ЦК КПСС. – М. Ч.). Мне сказали: “Что же вы делаете?”
И вот надо было как-то реагировать… вот тогда дали два послесловия… И решили убрать сцену в Торгсине.
– Вам делали конкретные замечания – в отделе печати или в Главлите?
– Нет, конкретных замечаний никто не делал. – Значит, вы сами решали, что сокращать?
– Да, сами… Надо было что-то делать, чем-то жертвовать».
Таким образом, его прямое участие в обширных сокращениях подтвердилось.
Государство торгует цензурными купюрами
Алексей Симонов вспоминает (в мемуарной книге «Частная коллекция»), как они с матерью, Е. Ласкиной,
…решили создать памятник одержанной победе, пусть рукотворный, пусть только в трех экземплярах, но создать.
Мы перепечатали, а затем вложили и вклеили в три двухномерных экземпляра все, что было оттуда изъято. Журналы топорщились при каждом открывании, как два огромных бумажных ежа. Там были вклейки-слова и вклейки-фразы, вклейки-эпитеты и вклейки-абзацы, вклейки-метафоры и вклейки-страницы. И три больших многостраничных куска: «Сон Никанора Босого», половина «Бала у Сатаны» и «Разгром Торгсина».

Из коллекции Музея М. А. Булгакова
В 1969 г. издательство «Посев» (Франкфурт-на-Майне) первым опубликовало полный текст романа «Мастер и Маргарита» на русском языке.
Фрагменты, исключенные цензурой при публикации в журнале «Москва», были набраны курсивом.
Один экземпляр они подарили Елене Сергеевне. И когда через два года я попала в ее дом, то узнала от нее, что она аккуратно распечатала во многих экземплярах все купюры и широко их раздавала. Одаренные ею вклеивали их в свои номера журналов.
А советское правительство поступило весьма оригинально.
Оно официальным образом продало эти купюры (натурально, за валюту) иностранным издательствам, объяснив, что купюры эти – вовсе не цензурные, а чисто технические… И читатели Европы и Америки читали переводы полного «Мастера» – в течение нескольких лет, пока отечественный читатель довольствовался усеченным текстом. Его перепечатывали на машинке (не имея своего экземпляра журналов), и даже переписывали от руки (видела такие списки своими глазами). Роман завоевал отечественного читателя – как и мирового.
В журналах шла полемика – но никто из полемизирующих не говорил главного: противники романа не могли впрямую выступить против сочинения явно «антисоветского», но уже напечатанного, то есть так или иначе поддержанного властью.
Я сказала как-то Елене Сергеевне, в одну из наших многочисленных встреч 1968–1970 годов: «Понимаете, вы своими слабыми женскими руками ночью выкатили огромный валун на тропу, по которой все ходят на службу. И утром все должны были делать вид, что он всегда здесь лежал…»
Ей, не скрою, очень понравилось мое сравнение. Роль ее личного обаяния и воли в печатании романа невозможно переоценить.
Совершенно неудобопечатный в советском контексте роман был опубликован благодаря индивидуальным, но сложившимся вместе усилиям разных людей.
Огромная часть этих усилий была подспудной – надеюсь, рано или поздно мы узнаем, на какие кнопки, только на его усилия отзывавшиеся, нажимал, например, Константин Симонов.
VI. «Мастер и Маргарита» глазами читателя XXI века
Многие годы я была уверена, что доскональное знание особенностей советской жизни – знание, которое автоматически получал любой житель Советского Союза (распавшегося, как известно, в конце 1991 года), – непременное условие восприятия главного романа Булгакова.
Оказалось, что это не так. Роман таинственным образом остался любимым чтением для тех, кто имел о советском времени самое смутное представление.
Многое, что было самоочевидным для советского читателя романа – как для тех, кто слушал авторское чтение весной 1939 года, так и для тех, кто читал роман в журнальной книжке более четверти века спустя, – стало иным для постсоветского времени, начиная с читателя девяностых годов и кончая сегодняшним.
В романе многое поменяло смыслы. Мы удивлялись вместе с Берлиозом и Иваном Бездомным появлению на Патриарших иностранца – сегодня его вряд ли даже опознали бы как иностранца. Необычайно смелым тогда было утверждение Воландом (при явном согласии с ним самого автора!) существования Иисуса Христа – сегодня, пожалуй, для многих шокирующим выглядело бы утверждение обратного…
Крик Никанора Босого: «Брал, но брал нашими, советскими!» – сегодняшнему школьнику уже непонятен. Возможно, он и знает, что брать взятки – нехорошо (если только родители не уверили его, что все так делают). Но брать их российскими рублями или валютой – особой разницы он не видит. А советский читатель 1966–67 годов точно знал, что любые операции с валютой сразу получали «не наш», «антисоветский» характер. Он помнил, что всего несколько лет назад советская власть ввела за это смертную казнь и, неслыханным в юриспруденции образом придав закону обратную силу, расстреляла двоих «валютчиков» – молодых людей, обменивавшим иностранцам валюту на рубли… Поэтому похвальба Бегемота:
«У меня, может быть, полный примус валюты» – и сегодня, конечно, звучит смешно, но некоторые оттенки потеряны… Когда-то казалось, что яркость романа, блеск его юмора и сарказма прямо связаны со знанием читателем советского быта, советского образа мыслей. Но сегодняшние школьники от двенадцати до семнадцати лет по всем опросам неизменно ставят роман на первое место среди любимых книг. В чем же дело?
По-видимому, это – свойство классики. Прямая связь ее с современностью со временем потухает: многие ли из нас, любящих и в немалой степени понимающих «Божественную комедию» могут внятно сказать о ее связи с войной гвельфов и гиббелинов?.. А для Данте и его современников эта связь была очень живой.
Так вот – связь с деталями современности угасает, но взамен всплывают некие глубинные пласты, на которые автор, возможно, осознанно и не рассчитывал. В ответах на предложенный мной вопрос (в ноябре 2014 года) «Чем меня и моих друзей увлек роман “Мастер и Маргарита”?» старшеклассники пишут: «Во-первых, это роман – о вере и религии. Что может быть более обсуждаемой темой всех веков? Каждый из нас с более-менее осознанного возраста начинает интересоваться вопросами, которые волнуют нас до самой смерти…», роман «является крайне ценным материалом для понимания России во второй четверти прошлого столетия» (Никита Липунов, 11 класс). Для меня было новостью, что тем, кто не знал советского времени, роман помогал его узнать…
…Если честно, я небольшой поклонник чтения… Но эта книга держала меня в напряжении до последней строчки. Я читал ее везде: в метро, по пути в лицей, по пути домой, в очереди в кассу, да простят меня учителя, даже на уроках! Идя по улице, держа книгу в руке, ‹…› взглянув на пустую лавочку, я представлял себе Воланда, который беседует с Бездомным и Берлиозом. Я словно очутился в книге (Денис Гасанов, 11 класс).
Больше всего этот роман увлек меня своей любовной линией. ‹…› История любви, печальная и таинственная, происходит в совершенно обычном городе. Тем самым автор заставляет нас верить в то, что все происходящее в романе вполне реально, что существует на свете такая любовь ‹…›. Самоотверженность Маргариты не знает границ. Ради своего мастера она становится на сторону сатаны, тем самым закрывая для себя врата в рай (Анна Грачева, 11 класс).
Роман Булгакова ‹…› – одно из самых загадочных произведений 20 века. ‹…› Каждый находит в этом романе свое – для меня самыми яркими стали эпизоды, описывающие похождения шайки Воланда в Москве 30-х годов. Автор сатирически изображает атмосферу двуличия и лицемерия, царившую в Москве. ‹…› Булгаков показывает рождение известных поэтов, талант которых определяется неукоснительным следованием «слову партии» и конъюнктурным требованиям (Ярослав Ланцов, 11 класс).
Меня заинтересовала поднятая в романе философская проблема противостояния добра и зла. Каждый из нас сталкивался с этой темой еще в детстве, в первую очередь благодаря сказкам (Анастасия Титова, 11 класс). Безумно понравилось, как искренне показана любовь Мастера и Маргариты. ‹…› После прочтения романа я невероятно обогатилась внутренне. Это произведение заставило меня задуматься о смысле жизни, истинном устройстве мироздания, о том, что происходило в те годы в Ершалаиме, о Любви, о Добре и Зле, о Свете и Тьме. Также я пришла к выводу, что судьба человека – это непрерывный поиск истины (Анастасия Шевченко, 11 класс).
Для юных читателей Булгакова, родившихся после советской власти, помимо самих его сочинений, притягательной оказалась лестница, ведущая на пятый этаж, к квартире № 50… Они не только рисовали на ее стенах иллюстрации к роману и выписывали любимые строки – задолго до интернета лестница все более и более выполняла функции интернет-блогов и электронной почты…
VII. Нехорошая лестница
В 1971 году из воспоминаний В. Левшина, напечатанных в журнале «Театр», поклонники узнали адрес «Нехорошей квартиры» (Большая Садовая, д. 10, кв. 50) – первый московский адрес Булгакова и место действия романа «Мастер и Маргарита» (журнальные книжки с романом за истекшие несколько лет зачитали до дыр).
Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в шестом подъезде и поднялся в пятый этаж, где и находилась эта поганая квартира № 50.
Многие и многие двинулись в те годы через этот самый асфальтовый двор прямо в указанный в романе подъезд.
В лестнице, ведущей в квартиру, быстро ставшую знаменитой, узнавали место действия прославленного романа. На эту лестницу выбегают непрошенные гости Воланда – и, к изумлению пресловутой Аннушки, вылетают через окна на площадке между этажами…
Наблюдающий за квартирой в ночь шабаша дежурит «на площадке третьего этажа». А затем по этой лестнице поднимаются, чтобы покончить с теми, кто «пошаливал» в квартире № 50. Это особое двойное значение лестницы оценили раньше всех молодые поклонники Булгакова. И на стенах этой лестницы они стали признаваться в любви к писателю и его роману.
3 июля 1982 года, поднявшись на пятый этаж шестого подъезда, я увидела на стене около двери (стена тогда была еще белой, а дверь – деревянной, не металлической, как теперь) несколько еле видных надписей.
Писали карандашом и царапали гвоздиком; видно было желание авторов выразить испытанное ими волнение – но как можно более скромно, ненавязчиво.

Я списала тогда эти первые надписи:
Ребята! Как грустно.
Спасибо!
Да святится имя Михаила Афанасьевича!
Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля!
Через год-полтора стены на лестнице были покрыты уже снизу доверху: красиво выписанными строками романа, иллюстрациями к нему – порой очень удачными, и некоторыми свободными комментариями:
Кто не читал Аксакова,
Тому прощу обиду я,
Кто ж не читал Булгакова,
Тому я не завидую.
И подпись лица, никому, кроме его друзей, не ведомого, – «Д. Панков». Потом «нехорошую лестницу» обнаружили журналисты «Известий» и, не обдумав последствий своих действий в советских условиях, радостно сообщили о ней читателям газеты. На другой же день после выхода статьи по распоряжению райисполкома стены подъезда были закрашены зеленой масляной краской. Удивительный музей исчез; он, конечно, потом возродился, но того изящного художества уже не было: гуашь не ложится на масляную краску, все стало попроще, потопорнее. И все же это был народный музей – та самая «народная тропа», которая не зарастает. Что же было начертано на стенах знаменитого подъезда в те первые – советские – годы, когда никто еще и представить себе не мог, что советская власть, казавшаяся вечной, уже на излете?

Нехорошая квартира (Садовая, 302-бис, № 50) // Известия. 13 января. 1985 г

Самиздат. 1980-е гг.
Из коллекции Музея М. А. Булгакова
Оказалось, что множество реплик героев или строк из авторского повествования запомнились читателям романа наизусть, подобно стихам, – и с удовольствием воспроизводились:
– Подумаешь, бином Ньютона!
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус…
– Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!
– Не при валюте мы сегодня.
…Не знаю другого случая, чтобы опубликованный в советском журнале роман – весь – перепечатывался на машинке и даже (два случая мне известны лично) переписывался от руки: так велика была жажда иметь весь текст у себя дома – для перечитывания. Делали с большим риском и ксерокопии: устройства для них находились тогда исключительно в спецотделах, простым смертным пользоваться ими было запрещено.
Эти копии любовно переплетали, иллюстрировали – и, конечно, читали и перечитывали. Булгаков хотел написать именно такую книгу, чтобы ее перечитывали, – и преуспел в этом.
* * *
Поясним под конец название этой работы.
Обрабатывая в начале 1970-х поступивший в Отдел рукописей Библиотеки им. Ленина (ныне – РГБ) архив Булгакова, я читала письма его к жене. Они лежали в отделе в запечатанном конверте с надписью рукою Елены Сергеевны: «Вскрыть после моей смерти». Печальный момент настал, и в сентябре 1970 года заведующая отделом С. В. Житомирская в присутствии нескольких научных сотрудников отдела совершила это действие. Летом 1938 года Булгаков заканчивал диктовку романа сестре Елены Сергеевны – секретарю В. Немировича-Данченко О. С. Бокшанской. В одном из писем он писал жене на дачу в Лебедяни, куда собирался к ней ехать по завершении работы: «…тебе издалека не видно, что с твоим мужем сделал после страшной литературной жизни последний закатный роман». Это самоопределение запомнилось. Работая по завершении обработки архива над его печатным обзором (которому суждено было стать первым очерком биографии писателя) и описывая, как умирающий Булгаков диктовал жене в январе – феврале 1940 года дополнения в роман, я написала: «Последний закатный роман», как назвал его Булгаков в письме к жене еще 14 июня 1938 г. (19.7 [шифр писем – 19-й картон, 7-я обложка]), шел к концу вместе с жизнью его автора.[11]
Так эти слова Булгакова были введены в научный оборот.
* * *
Сноски
1
Две страницы (развернутый лист), разграфленные на шесть колонок, сверху которых написано «Иисус Христос», показывают, как автор собирал сведения о дне распятия Христа, разнообразные реалии (наименования иудейских должностей, точное местоположение Голгофы), пользуясь на этом этапе работы над романом каким-то из изданий «Жизни Иисуса» Э. Ренана и «Жизни Иисуса Христа» Ф. В. Фаррара (мы установили, каким из переводов пользовался Булгаков).
(обратно)
2
Подробней об этом – в нашей статье «О поэтике Михаила Булгакова» (Чудакова М. Новые работы. 2003–2006. М., 2007. С. 395–468).
(обратно)
3
Прототипом этого героя послужил, по нашему предположению, Б. И. Ярхо (1889–1942), входивший в дружеский круг Булгакова 1920-х годов. Кроме параллелизма некоторых биографических фактов, в пользу предположения говорит как раритетность научных интересов Ярхо в целом, так и демонологические его занятия (темы его лекций 1918–1919 гг., хранящихся в архиве в РГАЛИ, – о нечистой силе в немецкой литературе, подготовленный им еще в 1918 году сборник «Средневековые видения от VI до XII вв.», о преследовании колдунов и т. д.). Возможна связь имени героя с уменьшительным именем ленинградского знакомого Булгакова – Феодосия Григорьевича Тарасова (сообщено нам Л. Е. Белозерской).
(обратно)
4
«…Воспринимать его произведения приходилось только на слух: он никогда не допускал, чтобы что-нибудь им написанное выносилось из его дома и ходило по рукам» (Виленкин В. Воспоминания с комментариями. М., 1982. С. 393).
(обратно)
5
Приведя эту дневниковую запись, Виленкин добавляет: «А я еще помню, как Михаил Афанасьевич, не утерпев, подошел ко мне сзади, пока я выводил своего “Сатану”, и, заглянув в записку, погладил по голове» (Виленкин В. Указ. соч. С. 394). Поясним жест Булгакова: Виленкин был на 20 лет его моложе.
(обратно)
6
Пирожкова В. Потерянное поколение. Воспоминания о детстве и юности. СПб., 1998. С. 30.
(обратно)
7
Бочаров С. Из истории понимания Пушкина // Его же. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 242.
(обратно)
8
См.: Чудакова М. Иисус и Иешуа // Дружба народов. 1991. № 7. С. 136–141.
(обратно)
9
Здесь и далее цит. по: А. Вулис. Серьезность несерьезных вещей-ситуаций. Сатира, приключения, детектив. Ташкент, 1984.
(обратно)
10
С. А. Ляндрес, 1907–1968 – член Комиссии по литературному наследству М. Булгакова, близкий друг Е. С. Булгаковой, активно работавший вместе с ней над составлением сборника воспоминаний о Булгакове и проч. Заключение по доносу коллеги в сталинском лагере, где за два года, с 1952 до 1954, он в 47 лет, по свидетельству очевидцев, «превратился в старика» и вышел с поврежденным позвоночником, оказало несомненное влияние на его поведение в «опасных» делах. – М. Ч.
(обратно)
11
Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя // Записки Отдела рукописей.
Вып. 37. М., 1976. С. 140.
(обратно)
12
Приведем здесь без комментариев воспоминание писателя С. А. Ермолинского (1900–1984), которое он не раз воспроизводил в наших беседах последних лет: «В последние недели болезни он лежал в постели, исхудавший, в одной набедренной повязке (даже простыни причиняли ему боль), и вдруг спросил меня: “Похож я на Христа?”».
(обратно)
13
Доклад «Булгаков и Достоевский» был изложен нами на конференции «Достоевский и мировая культура» в Ленинграде (1974).
(обратно)
Оглавление
В седьмой главе председатель жилищного товарищества дома № 210 по Садовой улице Никодим Гаврилыч Поротый (будущий Никанор Иванович Босой) утром обнаруживает в своем бумажнике большую сумму денег и, перебирая в уме подробности вчерашнего вечера, лихорадочно размышляет, не обворовал ли он кого накануне. Глава оставлена недописанной.
В восьмой главе излагается утренний разговор директора Варьете Гараси Педулаева (будущего Степы Лиходеева) с Воландом, явившимся к нему на квартиру и демонстрирующим по ходу дела несколько трюков. И Гарася оказывается вдруг над крышей своего дома и после кратковременного полета видит «громоздя[щуюся высоко в небе] тяжелую [гору с плоской как] стол вершиной». Потрясенный Гарася узнает, что он – во Владикавказе…
Глава девятая (без названия) описывает контору Варьете перед сеансом Воланда и впечатление, произведенное на помощников Гараси Педулаева его телеграммами из Владикавказа: «Христом-Богом-Г[осподом прошу спасти] погибаю Педулаев». В реконструированной нами редакции они еще не Варенуха и Римский, а Цупилиоти и Нютон. В каждой новой главе, а иногда и на разных страницах одной главы, Цупилиоти становился то Суковским, то Библейским, то Робинским, а Нютон (будущий Варенуха) – Нутоном, Картоном, Благовестом…
Глава десятая (без названия) – вечер в Варьете; ведет его конферансье (будущий Жорж Бенгальский) Осип Григорьевич Благовест: «[лицо у него] было бабье [… без] бороды»; появление его «[было встречено уг]рюмым и недове[рчивым молчанием] всего зала».
Именно ему во время сеанса (по ходу которого разоблачалось неприглядное прошлое Нютона, никому до этого неизвестное) Воланд собственноручно (в отличие от более поздних редакций, Воланд выступает здесь один) «повер[нул голову]» и выдернул ее «[как] пробку из б[утылки…]». Цупилиоти и Нютон между тем продолжают принимать телеграммы из Владикавказа от Педулаева («Комнате обыщите пол, найдите оск[олки рюмки капусту»] и, теряя голову, шлют ответные: «Осколков нету»…
Наиболее сложную задачу представляла реконструкция одиннадцатой главы, важнейшей для понимания очертаний замысла романа в 1928–1929 годах.
Там появляется весьма интересный герой, не встречающийся в последующих редакциях романа.
Знаток демонологии феся
От названия главы уцелел такой фрагмент:
«…ое эрудиция». По нему я восстановила полное название: «[Что так]ое эрудиция».
Герой, фигурирующий в романе под детским именем Феся[3], получил замечательное домашнее образование, затем в четырнадцать лет уехал с матерью, гувернером и экономкой в Италию, где прожил два года, выучился говорить по-итальянски, экзаменовался и в семнадцать лет получил аттестат зрелости. Мать, после совета со знакомыми «и, по зрелому раз[мышлению, решила отдать его] в лоно Истор[ико-филологического факультета Московского университета. Она] угадала чре[звычайно точно. У Феси] оказались нео[быкновенные…] способности [к истории. К тому же вос]питание, […] расширенны[й кругозор и] хорошее зн[ание языков сыграли] свою роль [и уже на втором] курсе Фес[я привел в состояние] восторга» профессора, подав ему свою работу «Категории причинности и каузальная связь».
Феся становится профессором и, среди прочего, много занимается трудами средневековых ученых по демономании. Феся женится на урожденной графине Ковской. Она по утрам в амазонке уезжала кататься на лошадях, а Феся, боявшийся лошадей, в это время писал диссертацию «Эстетическое сознание раннего Rinascimento».
Перечислив разнообразные темы его занятий, главным образом по истории средневековья, автор заключал, что «[Феся обладал поистине] феноменальной [эрудицией]». Далее речь идет о видении какого-то шабаша, посетившем Фесю в результате его демонологических занятий. Несомненна связь этого героя с той ролью, которая в эпилоге последней редакции романа была уготована Ивану Николаевичу Поныреву – профессору Института истории и философии.
После революции Феся ушел (или был изгнан) с кафедры и стал преподавать. Феся был занят четыре раза в неделю: в понедельник в Хумате (Художественные мастерские) он читал популярный курс «Гуманистический критицизм как таковой», в среду должен был ехать в казармы дивизии, чтобы читать лекцию «Крестьянские войны в период реформации», по «постным дням» ехал в Академию изящных искусств, где вел курс «Секуляризация этики как науки», и где-то в четвертом месте выступал с докладом «Респленцитность формы и пропорциональность частей».
Читать дальше

